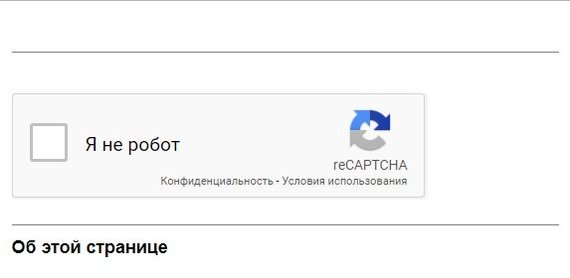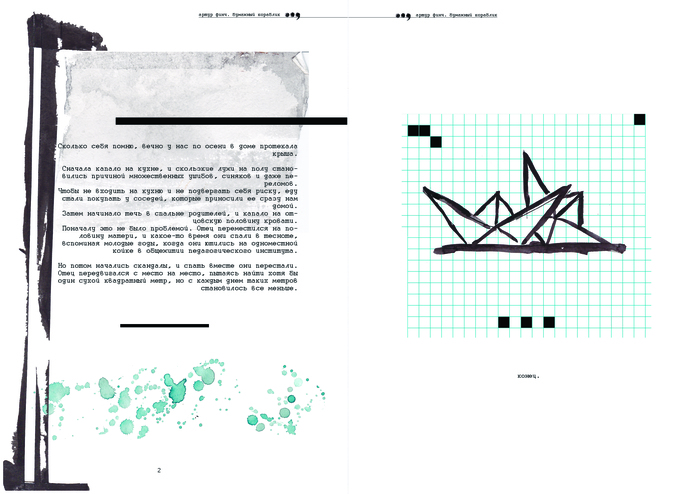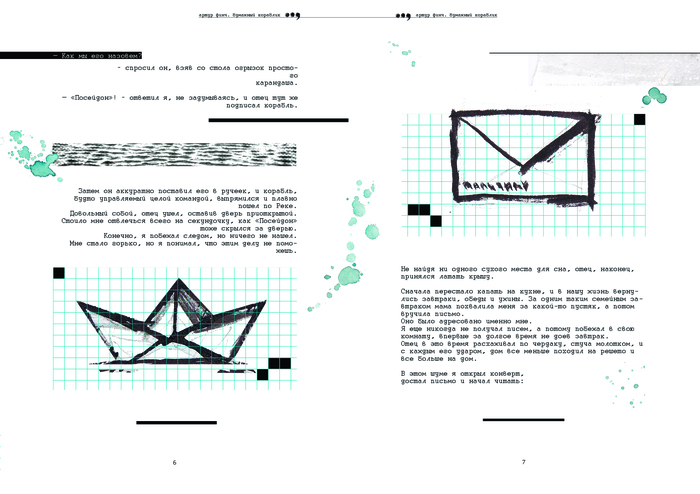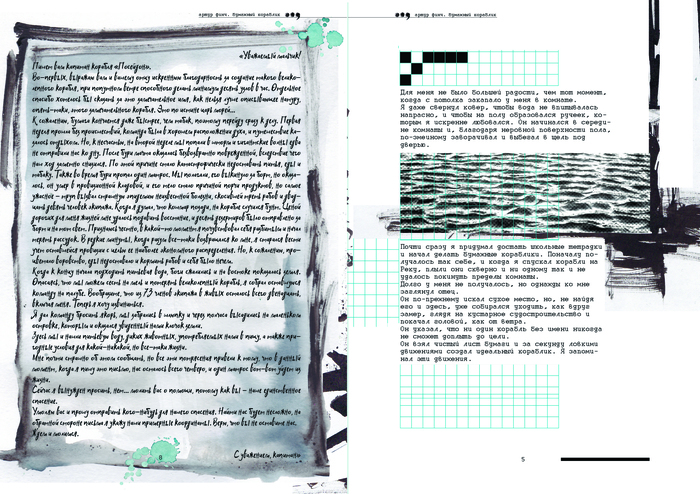Истерика
Оно зудело, шелушилось, в какой-то день даже неприятно пульсировало, и тогда я впервые задумался о том, что она могла меня чем-то заразить. Слава всему, но к третьему дню от появления, отдельные члены, казавшиеся угнетенными, вдруг порозовели и неожиданно для меня пришли в полную работоспособность. Перестал болеть хуй, и мне не хотелось бы извиняться. Думаете, богородица рожала Христа молча?
Мне неприятно, что я перестал видеть разницу в том, чтобы есть животных так, с шерстью и сырыми, или приготовленными на открытом огне, может даже финской свечой. И чтобы с перцем, и чтобы соль и рюмочку, а в ней 150 того, за чем было решено идти ночью, в состоянии не слишком глубокого, но тем не менее вполне ощутимого неадеквата. Тогда я впервые не был рад видеть Илюшу, своего самого худого и самого беспроблемного студента. Он всегда все знал, все делал, получал автоматом, писал у меня олимпиады, курсовые, а в остальное время стоял на кассе в Сильпо и пел христианские песни в группе «два два девять». Я встретил его в отделе с хлебом. Вернее в отделе с пустыми полками. Нетронутыми оставались только горчичные криворожские батоны. Илюша попытался вкусить моего лица, но я не дался и забил его деревянным ружейным прикладом. Я не успел вспотеть, как у него сломались лицевые кости, и он упал, продолжая двигать ногами, как собака, которой снится волнительный сон. Дома я понял, что вывихнул кисть. Не мог потом ею двигать дня три, и это были самые страшные дни: я не смог бы защититься ни от них, ни от нее, ни от себя.
Я услышал голос Виолетты утром, на следующий день.
Было уже слишком поздно, когда я задумался о том, что жизнь не так легко перевести. Мне вдруг вспомнилась женщина, отекшая всем телом, со страданием на лице заливающая кипяток в трубу, кишащую осами. Вспомнился, начинающий стареть мужчина, рубящий маленьким топориком стебли толстой циклахены, нагло вклинившейся между длинными, почти бесконечными рядами июльского картофеля. Вспомнился я и мои покрытые родинками, грязные от младшего школьного веселья руки, крепко сомкнувшиеся на сухом лице престарелой смеси глупой овчарки с тупым волком. Она мучилась вторую ночь подряд и никак не могла умереть от старости. Осы строили гнезда и дальше, и в конечном итоге женщина сжилась с ними и даже полюбила их. Мужчина пробил тапку и ногу, наткнувшись на еле виднеющийся из-под земли, срубленный под углом и задеревеневший стебель циклахены, которую все почему-то звали амброзией. Овчарка беззлобно вывернула морду, один раз клацнув челюстью, и мой мизинец укоротился на треть от прежнего. Она мучилась еще сутки, потом ее застрелили из ружья.
А насчет Виолетты я скажу так: бить ее ножом в последний момент показалось мне кощунством. Во-первых, по отношению к ее коже, никогда не ополаскиваемой в море. И мне бы не хотелось портить ковры, они достались мне от мамы. Но Виолетта так ловко отпрыгнула после того, как я замахнулся, что сам удар пришелся в ахиллово сухожилье, и дальше мне пришлось носить ее на руках.
Во время последней лекции я смотрел мимо нее, поверх нее, внутрь нее. Останавливался на ее коленках, смотрел на шрам и думал о своем. Она занималась тем же, но смотрела в телефон, негромко болтала с соседкой, редко смотрела в мою сторону, больше в окно. Лекция была о Шекспире и была скучна, как Шекспир. Студенты знали, что это последняя лекция, потому большую часть пары слушали внимательно, тактично подавляя зевоту на самых скучных местах. Мне захотелось уйти из университета, оставив там что-то свое. Мне не хотелось дрочить, а кроссовки это слишком личное, поэтому я решил оставить им свое самое дорогое воспоминание. Самый нелюбимый студент вышел поговорить по телефону, и я начал:
— Когда я был ребенком, хорошие дни начинались с того, что по утрам мама выносила во двор железную ванночку, наполняла ее горькой водой из колодца и оставляла под солнцем. Когда вода нагревалась, мама вылавливала оттуда утонувших ос, и я купался там, пока меня не настигала тень виноградного дерева, и пока вода не остывала. Мне не было скучно плескаться, занимаясь ничем, потому что рядом с ванночкой на деревянной табуретке стоял тяжелый советский магнитофон. На нем отец слушал радио, а я пластинки. У мамы было много пластинок…и каждая – с наклейками: розового, желтого, зеленого или фиолетового цвета, но всегда с одной и той же надписью «Мелодия». Чуть позже, когда я подрос, а проигрыватель сломался, пластинки были отправлены в свободный полет силой детского веселья, и вид разбивавшегося на мелкие куски винила нравился мне не меньше, чем записанные на них голоса советских актеров и эстрадных певцов. Моей любимой пластинкой была та, у которой наклейка отсутствовала. На ней были стихи в прозе, которым так и не удалось стать песнями, а низкий мужской голос, читавший их, как будто до сих пор звучит у меня в голове. Там было стихотворение о человеке, который заботился о своих слонах…
Я замолчал, потому что меня перебил вошедший и встревоженный нелюбимый студент, который вместо того, чтобы тихо сесть на место, шумно направился к окну:
— Это что?
Она зачем-то коснулась своего шрама, как на прощание, тоже поднялась с места, отодвинула тюлевые занавески, впустив в аудиторию серый свет. Я встал рядом с ней, и ее мизинец тронул мой, тот самый, на треть отобеданный мучающейся овчаркой.
За окном были полуголые деревья и белое низкое небо, отрицательно перечеркнутое проводами. Они раскачивались от легкого ветра, но больше от птиц, густо усевшихся верхом. В них и было все дело. Птицы выглядели болезненно и, казалось, едва удерживают равновесие. Они не издавали никаких звуков, просто смотрели прямо, постоянно покачиваясь, и в какой-то момент, все они, одна за другой, сорвались вниз. Откормленный университетский кот вышел из уродливого, как это бывает осенью, куста роз и лениво бродил между убившимися или умирающими птицами и выбирал без аппетита.
Некоторые студенты выбежали раньше всех и уже фотографировали птиц, гладили кота, курили, двигали ртами, что-то обсуждая. Случившееся заставило их забыть, что это последняя лекция со мной, и никто толком со мной не попрощался. Неожиданно, меня это задело. На секунду я оторвался от своего блокнота и увидел, как Виолетта отдала шоколадку соседке, и мне стало интересно, за что? Потом она укладывала одну только ручку, застегивала легкую ветровку, а я делал вид, что пишу в блокноте что-то чрезвычайно важное. На самом деле я писал о том, что я, как футфетишист, больше всего в людях ценю уязвимые места; о том, что однажды я кремировал двух крыс в печи, когда работал в булочной и даже не удосужился вымыть ее перед сдачей смены. А внизу, отдельно от этого я написал, что сегодня я убью свою студентку, и что ее тело будет лежать в моем доме до тех пор, пока кто-нибудь не прочтет это. Она стояла возле стола и ждала, пока я закончу писать.
— До вечера? — спросила она и достала из кармана аккуратно свернутый клочок голубой бумаги.
— До вечера. – я принял записку.
Я ожидал, что ко мне придут в понедельник. Но был уже вторник, и, нелепый на вид, святой с надеждой всматривался в меня из календаря на холодильнике. Блокнот я оставил на столе, оставил его открытым. Вдруг его не стали читать из чувства такта?
Мимо моего двора проехала скорая. Она двигалась медленно, как слепая, и мне казалось, я слышу хруст птичьих костей под ее колесами. В основном это были врановые. Очумелые, они неприкаянно шастали по земле, и даже из дома я чувствовал их сопротивление и нежелание замереть навсегда. Одной маленькой сороке удалось ненадолго взлететь в воздух, отпрыгнув от надвигающейся машины, но погодя немного и она тоже ударилась в землю. Скорая съехала с дороги и очень аккуратно, будто извиняясь, уперлась в одиноко растущий старый вяз. Сразу же я услышал громкий, непрекращающийся сигнал клаксона, как если бы водитель потерял сознание и придавил бы руль грудью. От резкого звука оставшиеся незамеченными, притаившиеся на вязе птицы, взметнули в воздух, но тут же, одна за другой, посыпались на желтую траву, на ржавую крышу скорой, на рыжий асфальт. Клаксон ревел, постепенно приводя меня в чувство, и я вдруг осознал, как тихо было до этого.
Из окна я видел фигуру фельдшера в красном. Он застыл, упершись головой в панельную доску. Машину окружили вялые птицы, сохранившие любопытство, но потерявшие силы.
А ей на самом деле повезло. Я не перерезал ей сухожилье, но здорово его зацепил, потому что крови вылилось столько, что хватило на то, чтобы впитаться и в палас, и в три широких доски под ним. Я думал, она умерла, но я взял ее ногу, чтобы промыть перекисью, и она дернулась, открыв глаза:
— Что это такое? Что за звук?
Нога опухла, как от осиного укуса, и я испытывал отвращение к ее толстым пальцам. Я сказал ей, что не видел людей с пятницы и что перед домом стоит скорая помощь. Она спросила, к ней ли они приехали, и я ответил, что нет, не к ней. Тогда она закрыла глаза, и мы слушали, как шипит перекись в ее ране. Когда стало понятно, что она не умрет, я аккуратно перевязал ей ногу, стараясь сильно не давить. Потом принес матрас, не вымазанный кровью, и положил его в кровь. Кое-как мне удалось перетащить ее туда. Она взялась за мою шею, выгнулась, хрустнув позвонками, и виновато посмотрела на меня. Я не любил, когда студенты так делают и выгонял из аудитории даже за то, что кто-то щелкает ручкой.
У птиц не было видимых ран, поэтому мухи, наслаждавшиеся бабьим летом, проникали вовнутрь через приоткрытые клювы или откладывали яйца в глаза. Казалось бы, отвратительно, но муха думает о детях, и ей за это прощают всякую мерзость. Я обошел машину, заглянув в нее со стороны водителя. Это был пожилой мужчина с глубокой залысиной, а редкие волосы лежали по бокам седыми островками. Я открыл дверь, кончиками пальцев схватил водителя за один из островков, откинул от руля на сиденье и, наконец, остался в полной тишине. Ее слегка прерывали только щелчки, доносящиеся из рации. Я не знал, как ее выключить, а в остальном все было тихо. В моей руке остался клочок жирных седых волос, которые вырвались с кусочками кожи головы. За водителем была перегородка с прямоугольным, наполовину открытым окошком, сквозь которую я видел мертвую и старую. Она раскинулась на кушетке, у ее рта, носа и глаз скопились влетевшие мухи.
Водитель крепко держал руль пальцами с грязными ногтями, словно все еще надеясь куда-то двинуться, и это упрямство, исходящее от мертвого, заставило меня улыбнуться. Ровно, как и его потемневшее от грязи серебряное кольцо на безымянном пальце с выгравированной надписью «Спаси и…». Заглядывая в окошко, мне подумалось, что нужно взять какие-нибудь лекарства, но я не знал, какие. К тому же, меня пугала мертвая. Она лежала с открытым беззубым ртом, и я боялся, что она что-то скажет. Я заблокировал дверь со стороны водителя, захлопнул ее и обошел машину.
Фельдшер на пассажирском сидел ровно, пристегнутый ремнем, и покойно, убитый чем-то. Я откинул его на сиденье. Он был гораздо моложе водителя, но у него тоже появлялись залысины, и я подумал, что они могли быть отцом и сыном. Из его нагрудного кармана я достал пачку красного «Киева», но не нашел зажигалку, в штаны лезть не стал, поэтому положил сигареты на панельную доску и открыл бардачок. Мятный орбит, беларуские сигареты без акцизки, тонкий справочник по ядовитым змеям Днепропетровской области, полироль для пластика и винила, влажные салфетки, заканчивающаяся туалетная бумага, кровавый носовой платок две металлические стопки, обитые кожей с нарисованным на ней полуостровом и надписью «Симферопольский вино-коньячный завод», зеленая ручка.
Рация щелкнула, помехи затихли, и как из глубины оттуда вынырнул низкий мужской голос. Я почувствовал себя лежащим в ванночке под виноградным деревом. Ласково голос говорил:
— Ну, как тебе не стыдно? Скажи, как тебе не стыдно? Посмотри, сколько людей пришло, посмотри, какие добрые слезы они на тебя переводят, а ты всё лежишь с закрытыми глазами, не похожий на себя. Я на коленях стою, только открой глаза, чтобы увидеть это…открой их, чтобы сбросить монетки, придавившие веки. Разве ты не будешь скучать? Неужели ты согласен больше не чувствовать жизнь и никогда не думать о ней? Если да, будь спокоен. Если нет, то возвращайся скорее. Я молю тебя, возвращайся скорее. Я молю тебя, вставай…я молю тебя, иди.
Голос стекал, проникая, и все потеряло значение. Если бы я никогда не сталкивался с медленной тягой и никогда раньше не чувствовал, как человека может размазывать, я бы заснул прямо в машине, упав на руки фельдшеру. Ощущение было, как во сне, когда пытаешься убежать, ударить, но ты будто из ваты и ничего не получается. В ушах звон и помехи, а перед глазами, наполовину закрытыми тяжелеющими веками, я видел грязные, медленно отлипающие от руля пальцы водителя скорой помощи.
Когда я оказался за закрытой дверью своего дома, я смог убедить себя в том, что видел галлюцинацию. Но ничто не заставило бы меня вернуться обратно. Даже дверь со стороны фельдшера, которую я, убегая от страха, оставил открытой. Вместо этого я закрыл все замки в доме, задернул все шторы, набрал воды в бутылку из-под фанты и спустился к Виолетте.
Здесь было прохладно, как под тенью виноградного дерева. Она спала под тусклым светом энергосберегающей лампочки, но даже при таком освещении я видел, что бинт на ее ноге почти почернел от крови. Я сел у ее ног, с той стороны, где крови было меньше. Дотронулся до ее шрама на коленке, как при знакомстве, и она проснулась. Я хотел развязать бинты, чтобы вымыть рану, но она подтянула ногу к себе и сказала, что сделает это сама, попозже. Она подвинулась в сторону, чтобы я мог лечь, и я лег рядом. Она сказала:
— У меня тоже было много пластинок, и я их все разбила.
Она опустила голову мне на грудь и взяла меня за ту руку, которой я ее ударил. Она спросила:
— Что случилось с тем человеком, у которого были слоны?
По правде, я не помнил, действительно ли голос на пластинке говорил о слонах, но я помнил саму суть его рассказа, а слонов додумал, потому что мне очень нравились эти животные. Я их никогда не видел.
Я ответил ей, что с ним ничего не случилось, и рассказал все так, как помнил:
— На пластинке был короткий рассказ о человеке, который любил своих слонов гораздо больше, чем людей. Влюбленной в него женщине было от этого очень обидно…Каждый раз, когда он кормил слонов, поил их или делал для них корыта, она подходила и пыталась заговорить. Но он всегда только отмахивался и кивал на слонов: «Посмотри, какие они у меня! Разве не замечательные они у меня?». Она плакала, терпела, но все равно возвращалась и снова слушала о том, какие у него замечательные слоны. Однажды она не выдержала и толкнула его, когда он орудовал молотком, сколачивая слонам очередное замечательное корыто для воды, и он ударил себя по большому пальцу. Сперва пульсирующий палец побелел, потом покраснел, потом посинел, потом позеленел, потом почернел, а затем ноготь треснул посередине, и из маленькой трещины пророс замечательный зеленый росточек. На глазах этот росточек превратился в прекрасный цветок с двумя большими и красивыми лепестками. Чувствуя вину, она сказала: «Должно быть, это волшебный цветок…загадай что-нибудь, ты этого заслуживаешь!». Он сорвал лепесток и сказал: «Сделай так, чтобы она исчезла навсегда», и она исчезла навсегда.
Я замолчал, ожидая, что она спросит, и она спросила:
— А второй лепесток? Что он загадал?
— Ничего, — ответил я с удовольствием. — Второй лепесток он скормил своему любимому слону.
первая глава: Прочие