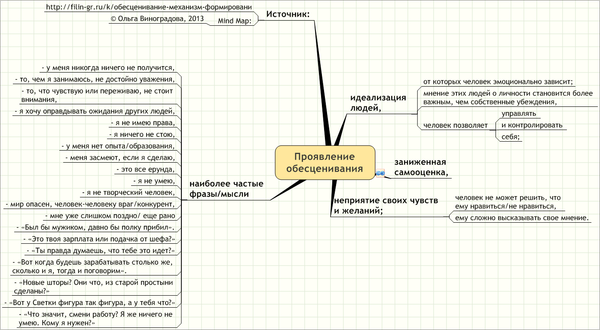Все началось однажды осенним днем с обычнейшего телефонного звонка. Алексей Гаврилович, так представился собеседник, просил проконсультировать его по поводу сложной ситуации с дочкой-старшекласницей. Договорившись о встрече, я почти не возвращался в своих мыслях к этому будничному профессиональному разговору с возможным клиентом до тех пор, пока не подошел оговоренный срок. В назначенное для приема время передо мной предстал немолодой уже человек, сухощавый, с выразительным лицом, обтянутым загорелой кожей, и серыми умными глазами.
Когда мы после взаимного приветствия сели в кресла, я заметил, как быстро пульсирует жилка на виске Алексея Гавриловича. Пока длилось молчание перед нелегкой для отца беседой, я остро ощутил обеспокоенность собеседника, тяжелую ношу ответственности, озабоченности, которая навалилась на него, пригибая плечи и заставляя ускоренно биться немолодое уже сердце. Еще немного помолчав и, по-видимому, собравшись с духом, Алексей Гаврилович проговорил:
— У нас в семье с дочкой несчастье. Влюбилась она. Что делать?
Кивнув головой, в знак того, что я слышу и воспринимаю сказанное, я, не проронив ни слова, внимательно и вопросительно взглянул ему в глаза. Алексей Гаврилович продолжал:
— Понимаете, какое дело. Татьяна учится в последнем классе. Школа сложная, физико-математическая. Она способный ребенок, скромная, ласковая девочка. Через полгода — окончание школы. Пора подумать и о вступительных экзаменах. А она... — отец словно заикнулся. Видно было, что говорить ему больно. — Влюбилась...
Он вновь на мгновение умолк. Помолчав, продолжил:
— Вы только ничего такого не подумайте. Я вовсе не против любви. Пусть она будет, любовь эта. Но не так же! Не сейчас, вы понимаете? Да и не такая. Что же это за любовь, когда она уроки почти не готовит, школу запустила. Поговорить с ней о ее Андрее и отношениях с ним невозможно. Она избегает разговора или просто успокаивает нас с матерью тем, что, дескать, все будет хорошо. Ей об учебе надо думать, об институте, а она? А она, я скажу вам, как взбесилась. Андрей и Андрей! Хоть бы Андрей этот был путевым парнем. Хоть бы студентом там или уже зрелым человеком. А то...
Отец снова запнулся. Было заметно, что каждое слово давалось ему с огромным напряжением и болью.
— Кто бы, вы думали, он? Помощник маляра. Двадцать два года, вернулся из армии, уже был женат. Разведен, значит. Образования нет. Так, подхалтуривает на ремонте квартир. Вы только поймите меня правильно. Я не против маляра. Маляр так маляр. Пусть бы и слесарь. Не в этом дело. А в том, что он в двадцать два года уже разведен... В том, что он — никто! А Татьяна способная же девочка, как ослепла. Как будто съела чего-то. Говорит: “Я без него не могу”. Как это так “Не могу”? Я говорю: “Возьми себя в руки! У тебя же есть девичья гордость! Достоинство! Ты же будущая мать, ты же — дочь моя”. А в ответ одно: “Все будет хорошо”. Вы поймите, я теряю ребенка. У меня такое ощущение, что она уже не моя. Не мой ребенок. Чужая какая-то...
Я понимал, что Алексею Гавриловичу прежде всего следовало помочь успокоиться. Но как это сделать, когда человек в таком состоянии? Да и чем я мог быть полезен сейчас? Предложить сигарету? Унизительно. Панибратство в духе бесед со следователем. Стакан холодной воды? Но он же не женщина, а мужчина. Не годится.
В глаза бросались посеревшее лицо, покрасневшие глаза, руки едва заметно дрожали. Облик Алексея Гавриловича даже отдаленно не ассоциировался с употреблением алкоголя. Наоборот, собеседник производил впечатление серьезного, обстоятельного человека, привыкшего все взвешивать, обдумывать, а затем принимать решения. Я рискнул опереться именно на эту личностную черту клиента.
— Погодите, Алексей Гаврилович, — я жестом попытался успокоить его. — Если можно, сориентируйте меня, пожалуйста, в том, что, собственно, случилось, произошло у вас с дочкой. Влюбилась — это состояние. А вот конкретная ситуация...
— Ситуация, ситуация... — как эхо повторил собеседник. Видно было, что состояние аффекта, в котором пребывал этот немолодой мужчина, препятствовало сосредоточению на нужных мыслях и чувствах, заставляло колотиться сердце, предательски вызывало дрожь узловатых, привыкших к труду рук.
— Ситуация такая, что между нашим телефонным разговором и сегодняшней встречей прошло три дня. За эти три дня случилось вот что... Татьяна не пришла ночевать домой. Мы с женой поехали к родителям Андрея. Через подружек узнали, где живут они. Там нам сказали, что Андрей поехал на дачу. Мы — туда. Они — там. Спят. В одной постели... — Алексей Гаврилович сжал кулаки. — А дальше случилось то, что я стащил его, стащил ее с кровати, да так врезал обоим, что ладонь заболела. И знаете, что меня поразило? Что Андрей даже не пытался Татьяну оборонять. Любовь, значит, свою... Ну, что мы с женой? Посадили дочку в машину и — домой. Мать с ней дома. А я вот у вас... Стыд и срам... Позор... Позор... — он снова сжал кулаки. — Что делать?
— Значит, сейчас ваша Татьяна дома с мамой, — четко и громко проговорил я, впечатывая каждое слово в сознание собеседника.
— Да, Татьяна дома с матерью, — Алексей Гаврилович выговорил эти слова медленно, словно еще раз осознавая их смысл.
— Вот и хорошо, что дома, — я попытался подкрепить это осознание, подчеркивая слово “дома”. Ведь “дома” означает в “безопасности”.
— Дома-то дома, — с горечью отозвался Алексей Гаврилович. — А если сбежит?
— Погодите, погодите! Давайте сначала останемся в настоящем времени, — предложил я. — Она же с мамой.
Пришло время вывести клиента из состояния аффекта.
— Главное сейчас, что Татьяна дома, с матерью. А вы — выжили, и вот здесь, сейчас со мной. Когда можно все спокойно обсудить, обмозговать, — я произносил эти слова как можно более рассудительно и спокойно. Алексей Гаврилович именно теперь нуждался в психологической поддержке, и я пытался найти нужные слова.
— Скажу вам прямо, — начал я, — если у вашей дочери такой отец, как вы, за нее можно быть спокойным. Вы отстояли ее достоинство. Вы защищаете ее, переживаете за нее. Она же ведь ваша дочь, ваша? — переспросил я. Он утвердительно кивнул головой.
—Значит, не сегодня, так со временем непременно все оценит. И оценит правильно. Ведь насколько я уловил, Татьяна— девушка умная, одаренная, ведь так?
— Да, — согласился отец.
— Ну, а если и умная, и одаренная, да еще и в вас, наверное, пошла. Ведь решительная же? — продолжал я.
— И азартна к тому же, — отозвался отец.
— Значит, в жизни не пропадет. — Я попытался расширить жизненное пространство травматической ситуации.
— А теперь, — продолжал я, — расскажите, пожалуйста, немного о себе. Мне важно понять вас как человека, и тогда, возможно, нам легче будет личностно анализировать и ваше поведение в ситуации, и возможные реакции дочери.
Алексей Гаврилович как будто немного отошел. Не спеша начал рассказывать о себе. О том, как работал на оборонном заводе, о своем позднем браке. О позднем ребенке. Рождение дочери было для него настоящим счастьем. Воспитывали ее — уважением. Он посвящал ей все свое свободное время. Зимой — лыжи, заснеженные леса Карпат. Летом — походы, речка, рыбная ловля на рассвете. Всегда — интересные концерты, совместные чтения и обсуждения книг. Бесконечные споры... Алексей Гаврилович рос вместе со своим ребенком.
Чем больше я слушал рассказ Алексея Гавриловича, тем отчетливее вырисовывался вопрос, который я, наконец, задал:
— Скажите пожалуйста, Алексей Гаврилович, — я несколько засомневался, а затем все же произнес: — А в каких отношениях Таня с мамой?
Алексей Гаврилович задумался. Дело в том, что, рассказывая о себе и о дочери, Алексей Гаврилович ни разу не вспомнил о матери Тани. Это и в самом деле было удивительно, поскольку, когда речь шла о самой ситуации, мама Тани в рассказе упоминалась. Было очевидно, что некую роль во всем этом фигура матери играет. Но какую?
— Отношения вроде бы неплохие, — отозвался наконец Алексей Гаврилович.
Время нашей встречи истекло. Мы договорились, что в следующий раз на прием придет мама, Зинаида Степановна. Татьяну решили пока не трогать.
На следующий день в назначенное время передо мной предстала осанистая, строгая женщина, с властным выражением лица и встревоженным взглядом. Она молчала.
— Вы, наверное, Зинаида Степановна, мама Татьяны, — начал я беседу.
— Да, — женщина снова замолчала.
Я посмотрел на часы. Прошло около четверти часа. Нашего времени оставалось минут 35—40. Я так и сказал об этом клиентке, которая все еще сидела молча.
— Если вы захотите что-нибудь сказать, — вновь прервал я молчание, — можете говорить все, что придет в голову, не выбирая, что главное.
Женщина кивнула в знак согласия. Но молчание продолжалось. Наконец, она вздохнула, и я понял, что беседа, по всей вероятности, у нас не получится.
— Что ж, Зинаида Степановна, — я взглянул на часы. — Приятно было увидеться с вами. К сожалению, время нашей беседы приближается к концу...
— А о чем здесь беседовать? — вдруг отозвалась Зинаида Степановна. — Если бы отец был мужчиной да по-отцовски всыпал бы ей ниже спины ремнем, да так, чтобы неделю ни сесть, ни встать не смогла, тогда можно было б говорить. А так — о чем здесь говорить? Стыд один! Связалась с каким-то бедолагой, от родителей отреклась, из родного дома сбегает... О чем здесь говорить? Без ножа зарезала.
И без паузы женщина продолжала:
— Я бы тех, кто показывает по телевидению секс этот, приказала бы вешать на столбах за ноги, чтоб у них кровь от секса да в голову бы ударила. Что делают! Наших детей от нас отлучают. Голыми, прошу прощения, задницами да титьками весь свет заслонили. А вы — говорить... Что ж тут говорить? Стрелять надо. Стрелять!
Лицо и глаза женщины вспыхнули такой ледяной ненавистью, что на мгновение стало жутко, я немного помолчал, затем, словно про себя, произнес чуть слышно:
— Так ведь уже стреляют...
— Не в тех! — громко и решительно ответила Зинаида Степановна.
Я попытался проникнуть в бурю чувств клиентки. В чем-то я даже был согласен с ней. Но сейчас моя профессиональная задача состояла не в подкреплении или опровержении ценностных симпатий или нормативов клиентки, а в том, чтобы за время, которого почти не оставалось, хотя бы тоненьким лучиком осветить отношения матери с дочерью. Не отстраняясь от темы (действительно болезненной) средств массовой информации, а, наоборот, как бы продолжая ее, я спросил:
— Кстати, скажите пожалуйста, на ваш взгляд, Татьяна много времени тратит на телевизор?
— На телевизор? — Зинаида Степановна взглянула на меня с таким выражением лица, будто я только что свалился с высокой башни, но при этом не только не ушибся и ничего не сломал, а еще и вопросы задаю.
— Да разве они теперь телевизор смотрят? Они же закроются где-то и видики без конца крутят. Такое, что...
— Правильно ли я вас понял, что Татьяна редко бывает дома? — уточнил я.
Женщина снова посмотрела на меня с неприкрытым интересом. По ее глазам уже было видно, что все психологи — немножко того... и надо поскорее распрощаться, не то и самой можно повредиться в уме.
— Да с чего бы это мне к психологам ходить, если бы мой ребенок дома сидел! Да она родной матери не всегда и “здрасьте” скажет. А вы вопрос задаете...
Настало время прощаться. Картина прояснялась довольно отчетливо. Не хватало разве что небольшого штришка. Собственно говоря, далеко не всегда подробности важны, но в этой ситуации мне показался такой штрих необходимым.
— Зинаида Степановна, создается впечатление, что вы в самом деле теряете дочь, — я посмотрел на нее.
Суровое лицо. Уверенность и решительность. Отчуждение и непреклонность. Молчание.
— Но это еще, возможно, не самое главное, — продолжал я. Ни одна черточка не дрогнула на ее лице. — Страшнее то, что, кажется, ваша дочь уже потеряла вас. А вы ведь ее мать...
Не прощаясь, Зинаида Степановна вышла. На следующий день Алексей Гаврилович пришел с Таней. Обычная старшеклассница. Спортивный стиль в одежде. Спортивная сумка через плечо, тяжелые черные ботинки на ногах. Пока Татьяна работала на компьютере с диагностической программой, мы обменялись мнениями с отцом.
— Была Зинаида Степановна, — начал я как можно более нейтрально.
— Знаю, что была. Сами же видели, какая она, — вздохнул Алексей Гаврилович. — Позавчера, когда вы спросили, какие у нее с Таней отношения, я подумал, что, собственно говоря, никаких. Но как-то неловко было говорить так. А вообще-то она тяжелый человек. Начальник цеха. Все время с людьми. Работа, знаете ли, такая.
— Татьяна с матерью не контачит, — перебил я Алексея Гавриловича.
— Общий язык они давно уже потеряли. Впрочем, я не могу сказать, что они ругаются, знаете, как бывает у дочерей с матерями. А у них... Так... Каждая сама по себе.
— Вы... — я не успел вымолвить и слова, как Алексей Гаврилович продолжил, словно предугадал мои мысли.
— Я пытался помочь им наладить отношения. И на дачу вместе ездили, трудились вместе, и гостей приглашали, и всей семьей в театр... Не получилось. Что-то в них то ли сломалось, то ли... Не понимаю. Хотя, думаю, характер Зины здесь виноват. Она у меня — сержант в юбке. А Танюша...
Как раз в этот момент в комнате появилась Татьяна в сопровождении моего сотрудника, державшего в руках психограмму. Я взял листок с психо-граммой. Стало ясно, что именно хотел сказать отец. Личностный профиль Татьяны действительно был типичен для сензитивных, т.е. чувственных, тревожных, совестливых натур, правдивых, склонных к глубоким переживаниям, из тех, что болезненно реагируют на душевную черствость и равнодушие.
Беседа с Татьяной дополнила впечатления, обрисовав картину, которая поневоле ассоциировалась у меня с образом астрономической черной дыры, центром которой была Зинаида Степановна, а юная планета Татьяна пыталась вырваться из объятий черного карлика, и именно притяжение Андрея, если оставаться в пределах этой метафоры, служило как бы такой вспомогательной несущей системой.
Но метафора метафорой, а жизнь есть жизнь. Спустя минут двадцать после начала нашей с Таней беседы, пока отец нервно листал страницы популярных журналов в соседней комнате, оказалось, что девушка в свои неполные семнадцать лет удивительно реалистично ориентируется и в своей семейной, и в своей житейской ситуациях. Несмотря на влюбленность и эмоциональное увлечение Андреем, Татьяна спокойно сообщила, как о давно решенном для себя деле, о том, что “дома” жить невозможно.
— Я вообще не понимаю, как отец столько лет выдерживал с мамой. Сейчас же я его прекрасно понимаю. Я была для него психологической отдушиной. Может, на мне-то все и держалось. А теперь... Теперь я его покидаю. Но что делать? Такова жизнь... Вы не думайте, что я уцепилась за Андрея, чтоб сбежать из дому. Нет. Но мне кажется, — Татьяна помолчала, — мне кажется, сама судьба послала мне это спасение. Вы же видите, я не сумасшедшая. Я не играю в любовь. Я хочу закончить школу, поступить на... (Татьяна даже назвала факультет), а осенью, если все будет благополучно, мы поженимся.
— Где же вы собираетесь жить? — задал я сакраментальный вопрос.
— Родители Андрея достраивают себе дом под Киевом. Мы будем жить в их квартире.
— Тебя не беспокоит, что у Андрея нет образования?
— Он собирается поступать в строительный техникум, колледж то есть. Будем вместе готовиться.
Через несколько минут, когда к нам присоединился приглашенный мною Алексей Гаврилович, мы договорились о том, что отец с дочерью придут на консультацию еще, по крайней мере, несколько раз. Но каждый уже по своему, отдельному расписанию.
Прошло еще две или три недели. Я встречался со всеми тремя клиентами: дочерью, отцом, матерью. Динамика психических состояний каждого удивительно точно соответствовала ожидаемой: Татьяна становилась все спокойнее и доброжелательнее; Алексей Гаврилович все грустнел и грустнел, хотя его грусть пропитывалась нотками примиренности и какого-то прощального просветления. Никаких перемен не происходило только с Зинаидой Степановной.
С Андреем встретиться не пришлось. То ли он не захотел прийти, то ли Татьяна не пожелала склонить его ко встрече с психологом.
Примерно месяца через два Алексей Гаврилович пришел на последнюю встречу. У него теперь был вид спокойного и сосредоточенного человека, который принял решение.
— Что ж, — сказал он на прощание, — жизнь есть жизнь. Дети вырастают. Жаль только, очень жаль, что так рано приходится прощаться с дочкой. Не такой бы судьбы хотелось для нее. Но что ж... Ничего не поделаешь. Я не всесилен. Жаль, что девочка так ломает свою судьбу. Но самое страшное, что наша семья не стала для нее уютным гнездом, настоящим родительским домом. Слишком рано вынуждена она искать место для собственного гнезда. А хватит ли сил построить? Слишком рано...
Прошло еще некоторое время, снова наступила осень. Совершенно случайно я узнал, что Татьяна успешно закончила школу, поступила в университет, а в ноябре состоялась свадьба.
Кто знает, как сложится супружеская жизнь Татьяны и Андрея. Они ведь в самом деле еще слишком молоды. Но хотелось бы надеяться, что в их новой семье каждый из них (и, конечно, дети, которые родятся) будет чувствовать себя именно дома, в любви, в безопасности и согласии. Чтобы не пришлось кому-нибудь из них искать спасения от собственного дома в друзьях, в вине или даже в любви, как Татьяна.
из книги А.Ф. Бондаренко "Психологическая помощь: теория и практика"