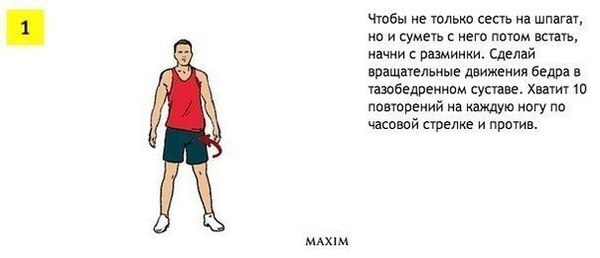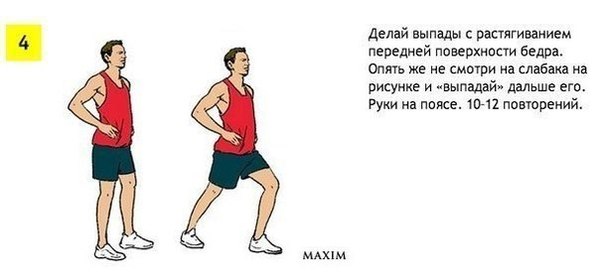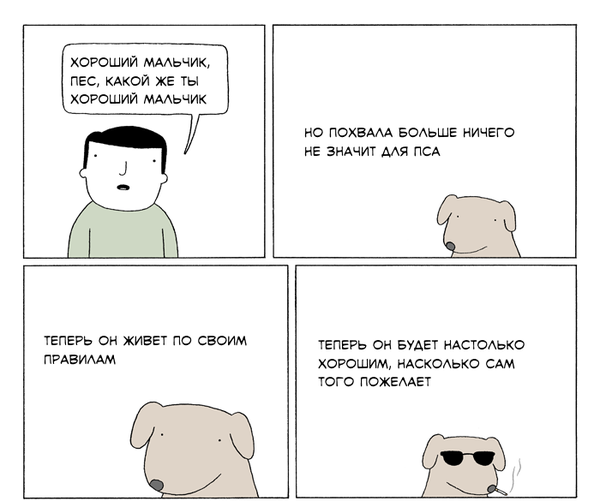chomik
История Миши и Толи
Миша. Родители обратились по поводу отказа ребенка от познавательной деятельности, он не мог выполнять заданий в детском саду, не рисовал, даже отказывался слушать сказки, хотя раньше обожал это занятие. На момент обращения мальчику было 4,5 года. Казалось, симптом довольно спорный: в этом возрасте любой нормально развивающийся ребенок время от времени отказывается от заданий, которые не связаны с игрой. С другой стороны, такое состояние ребенка продолжалось уже 4 месяца и могло свидетельствовать о бессознательном отказе ребенка расти и развиваться. Примерно так же думали и родители. На первой консультации выяснилось, что они склонны тревожиться о развитии ребенка. Первый раз они обратились за помощью к специалисту, когда мальчику было 11 месяцев (усыновили его в 5) по поводу… недоразвития речи. Что может заставить родителей искать уважаемых специалистов, ездить в специальные институты с ребенком столь раннего возраста – когда речь еще только начинает формироваться? Из этого факта следует, что тревога у родителей очень сильна, они неосознанно ищут у ребенка те проблемы, которых у него нет. К сожалению, в данном случае специалист подтвердил опасения родителей, он поставил ребенку диагноз недоразвития речи, хотя мальчик уже произносил «ма», и еще некоторые диагнозы, которые со временем не оправдались. С чем же связана столь сильная тревожность? Кажется, что не смотря на то что сознательно родители приняли на себя заботу о ребенке и действительно любят его, в них живет неосознанный страх, что может быть какой-то подвох, что биологическая предрасположенность в какой-то момент даст о себе знать. Родители боятся, что в какой-то совершенно неожиданный момент их ребенок что-то «выкинет», будь то сбой в физическом развитии или же в поведении. Родители также боятся проявлений агрессивности ребенка, так как это, на их взгляд, первый маячок и в результате часто у ребенка вытесняются агрессивные устремления, которые очевидно прорываются в какой-то момент в виде алкоголизации или же отказа от деятельности. Также было и у Миши. Передо мной был ребенок-ангел. Он улыбался и был очень приятным. Он соглашался на любые предложения взрослых, родители говорили, что его любят все вокруг. Кажется, они даже не представляли, что кто-то может не любить. Не представлял и Миша, как только он столкнулся в садике с воспитательницей, которая была к нему равнодушна, он растерялся и ему потребовалось достаточно большое время, чтобы адаптироваться и не бояться ходить в детский сад. Это была также одна из причин, по которой он не хотел заниматься.
Выглядел он младше своих лет, поведенческие признаки мальчика, проходящего фаллическую стадию, у него отсутствовали. Родители рассказывали, что иногда они кормят его с ложечки, часто одевают его сами и им это приятно делать. Почти осознанно они признавались мне, что им нравится – какой он милый и маленький. И им вовсе не хочется, чтобы он быстро вырастал. А что же мальчик в свои почти 5 лет? Он не совсем представлял свою половую принадлежность, у него не было игр свойственных мальчикам этого возраста. В кабинете он никогда не выбирал ни мечей, ни пистолетов, не строил больших башен, не соревновался армиями. И как потом прояснилось, он никогда не задавал вопросов маме и папе откуда он родился, как он появился на свет. Когда в процессе работы, играя, ребенок засовывал в живот игрушке-животному его малыша, я проинтерпретировала почти механически, что в животике растет ребеночек и он рождается. Мальчик рассказал о своем открытии (о детях из животика) при посещении с родителями палеонтологического музея. Родители очень растерялись, они искренне интересовались у меня как лучше рассказывать ребенку про рождение, откуда берутся дети. Их неуверенность и заинтересованность не была похожа на то, как спрашивают родители обычно на приемах, потому что мама очень боялась, а что если он спросит: «был ли я в твоем животике, мама?». Поэтому часто мама говорила, что мальчика эти вопросы не интересуют. Однако, как потом выяснилось, вопросы мальчик задавал, но то в машине, когда мама была за рулем, то когда мама торопилась на работу. Получается, что родители игнорировали вопросы, задаваемые ребенком про мироустройство и его самого, что также могло тормозить развитие познавательных функций ребенка. Кроме этого проявляется мощная и многое определяющая тревога приемных родителей – как сказать ребенку о его собственном рождении. Именно эта тревога блокирует просветительскую функцию родителей о вопросах пола и рождения. Очень часто родители не говорят ребенку о том, что он усыновлен и тому есть 2 причины: первая – потому что родителям кажется, что ребенок будет считать себя брошенным, уродом, не нужным, а вторая – потому что им кажется, что когда он узнает правду, он бросит их и будет искать своих биологических родителей.
В каком-то смысле именно эта тайна мешает ребенку и родителям по-настоящему полюбить и принять друг друга. Ребенок не может переработать опыт оставленности, который у него есть где-то глубоко в бессознательном и выстроить отношения с новыми родителями.
Что же происходит с ребенком, когда он остается без должного ухода? Конечно, в данном случае речь идет о контакте, «лице матери как зеркале», которое влияет и формирует образ самого ребенка.
Миша был усыновлен в 5 месяцев, его биологическая мать покинула родильный дом сразу после его рождения. Что же происходило эти 5 месяцев, насколько психика Миши смогла справиться с постоянно сменяющимися объектами, насколько они смогли компенсировать Мише эту врожденную потребность в отражении? Мой вопрос состоял в том, насколько теперь в 5 лет его либидо было фиксировано на его раннем опыте, насколько этот опыт имеет влияние сейчас.
Думаю, что для Миши эти 5 месяцев были также тяжелым временем. То, что рассказывают его приемные родители, подтверждает эти слова. В 5 месяцев приемные родители познакомились с Мишей и решили усыновить его. Они стали часто приезжать к нему, относиться как к собственному ребенку, проводили с ним много времени. Но не могли забрать домой, так как это было связано с процессом сбора документов. Документы были собраны только к 7 месяцам. Иногда у них не было возможности находиться подолгу с ним, и они были вынуждены покидать его на какое-то время. Детям, находящимся в ожидании своей судьбы, требуется постоянное словесное информирование о том, что с ними происходит. И даже если еще не происходит ничего, то психоаналитики им рассказывают о том, что нужно еще подождать, что пока они находятся здесь и пока здесь то место, где о них заботятся и что они рядом и обязательно расскажут о том, что с ними будет происходить. Много удивительных историй в практике работы с младенцами. Подобная беседа и искреннее участие этих людей часто помогает младенцам набирать вес, снова принимать пищу после отказа от еды и развиваться. Что же происходило с Мишей? Видимо он уже не смог больше ждать того, что родители, которые к нему относились совсем эмоционально по-другому, интенсивнее и теплее, так часто исчезали. И его терпение кончилось, он тяжело заболел пневмонией, в связи с чем был госпитализирован в больницу. Уже его приемные родители дежурили у его больничной кровати. К его выписке документы были готовы, и он попал домой, где его окружили теплой заботой и любовью, что и продолжается до сих пор.
Но что же может происходить с ребенком, когда на первом году жизни он сталкивается с эмоциональной депривацией? Ответ на этот вопрос мне приоткрыл случай другого мальчика – Толи.
История Толи менее благополучная, чем Миши. Его мама, осуществлявшая за ним достаточный уход, умерла, когда ему было 3 месяца. После этого его отдали под опеку бабушке больной алкоголизмом. Она заходила к нему в комнату лишь иногда, кормила его тогда, когда выходила из запоя. Также у него была троюродная тетя, которая прибегала к нему, как только выдавалась возможность и когда ее пускала бабушка. Именно ей спустя 1,5 года удалось усыновить ребенка. До этого времени мальчик был совсем один в комнате. Он часами проводил время у окна, его миром стали машины за окном и качающиеся деревья, также его тетя часто сталкивалась с тем, что он передвигал мебель, и она удивлялась тому – как мог 11-12 месячный малыш переставлять шкафы, между которыми он часто застревал и плакал. Но к нему никто не подходил. Где-то с 6 месяцев у него появилась кошка, и она жила с ним в комнате. Тетя находила их вместе тесно прижавшимися друг к другу и уснувшими в том месте, откуда мальчик не смог выбраться.
К. Эльячев называет таких детей «дети из шкафа». Когда эмоциональная депривация слишком сильна, происходит формирование иллюзии. Окружающие предметы становятся живыми, ребенок не понимает разницы между собой и окружающими предметами. Это явление также можно наблюдать у детей больных шизофренией: нет символического пространства, ребенок ощущает неживые предметы как часть себя. В игре это может проявляться так: когда куклу кормят понарошку, ребенок испытывает ужас, в этот момент ему кажется, что это его насильно заставляют есть и он этому сопротивляется. Но в мире Толи была также кошка. К моменту поступления в терапию Толе было уже 3года и 7 месяцев. В кабинете он снова и снова проигрывал свой травматичный период, который в повседневной жизни он вытеснял. Если он брал песок или воду, он урчал как кошка, если он видел шарик, застрявший в щели, он тревожился, оглядывался по кабинету и спрашивал: «Где кошка?» Я. по началу, пыталась предложить ему символическое замещение – различные варианты кошек- игрушек. Но ему была нужна его кошка. Интересным было то, что никогда с мамой или в садике он не издавал этих кошачьих звуков, которые невозможно передать, так как это было именно урчание кошки, а не попытка копировать этот звук. Его приемная мама рассказывала, что кошка также учила его взаимодействовать с миром. Когда он подрос, она научила его открывать лапой дверь из под щели внизу, и он смог выходить из своей комнаты. В этом случае мы видим, что кошка была постоянным замещающим объектом. Вероятно, она сыграла свою важную роль в выживании психики этого ребенка.
Что же происходит с мальчиком сейчас, когда ему 3,7? Он хорошо говорит, он обладает всеми навыками самообслуживания, он посещает детский сад и достаточно хорошо общается. Его приемная мама очень много для него сделала. После того, как она его забрала к себе она не переставала знакомить его с миром, вещами, окружающей природой, она учила его играть и общаться. Однако еще до сих пор он не может называть себя «Я», он не понимает своего пола и полоролевых отличий, он не может понять временных характеристик. Иногда для него прошлое имеет смысл настоящего. Также часто его родители встречаются с захватывающими его страхами из прошлого, он видит свою бабушку и убегает от нее.
В кабинете он активно играет и знакомится с пространством, но, не смотря на его возраст, игры носят скорее манипулятивный характер: он берет игрушку и вступает с ней в контакт, немножко повозит, повертит, берет следующую. Иногда, по всей видимости, его затрагивают эмоционально какие-то игрушки и он общается с ними: « коляска, коляску нужно покормить» и кладет в нее продукты. «Гулять, нужно погулять». Иногда напрямую проигрывает свой жизненный опыт: берет домик, просит у меня веревку и требует закрыть двери веревками, запирает туда игрушки, им нельзя «выйти», и начинает тревожиться, когда двери открыты. Или берет фигурки взрослых людей и говорит «бабушка хорошая, она не съест». Моя задача с этим ребенком – облечь его опыт в слова: я называю чувства и действия его героев. Коля проигрывает в кабинете очень много архаических представлений: идею поглощения (бабушка может физически съесть), идею оживления предметов и идентификацию с кошкой. Его мир пока досимволический, насыщенный страхами и примитивной агрессией.
Свои ранние страхи поглощения и покинутости Миша проигрывал на протяжении нескольких первых месяцев терапии. Динозавры и крокодилы пожирали друг друга, не возможно было спастись или спрятаться. Особенно страдали маленькие детеныши, на которых постоянно нападали. Одним из способов защиты от нападений было то, что малыши зарывались в песок. «Их никто не видит» – говорил мне Миша. Бывало, что после того как он зарывал очередного детеныша, он забывал, где он и тогда приглашал меня к поиску. В своей игре он выбирал некоторые игрушки, с которыми идентифицировался на первом этапе терапии. Это были пять маленьких крокодильчиков, они были очень мелкие. Обычно его сессия начиналась с того, что он искал этих малышей среди других игрушек, а когда уходил, он слезно просил их забрать с собой: «Ну, дай мне, пожалуйста, ну хоть одного, ну что тебе жалко, что ли, ну пожалуйста» – просил меня ребенок-ангел с очень несчастным видом. Кроме этого Мише было трудно уходить из кабинета по окончании сессии, и он на протяжении многих месяцев пытался затянуть время, чтобы остаться подольше. Все это свидетельствует о том, что ребенок снова и снова рассказывал мне о своем опыте покинутости, о том, что опыт сепарации для него совсем не прост. И все же игрушки из кабинета выносить нельзя. Я рассказывала, что все они будут ждать его в следующий раз и ни один крокодильчик не потеряется, я их сохраню. Однако мои привычные фразы при расставании, которые помогают ребенку уйти из кабинета и снимают у него тревогу расставания, не действовали. С этим мальчиком я сама начинала себе не верить и думать, а вдруг кто-то из других детей сломает или украдет маленького крокодильчика. Переживания конца сессии были очень интенсивными.
В начале нашей работы родители не говорили Мише, что он усыновлен. Первое время эта тайна строго сохранялась в семье, что не могло, конечно же, не отражаться в терапии. Интересна самая первая сессия с Мишей. Во время нашего знакомства на первичной консультации с родителями я объясняю ребенку о своей роли и среди прочего говорю, что он может рассказывать мне о своих трудностях, о том, что его волнует, о том, что я умею хранить тайны. И на первой сессии Миша рассказал мне о том, что его беспокоит. Он взял маленького китенка и большого дельфина положил их вместе и спросил меня: «А когда китенок вырастет, у него будут такие же плавнички как у него?» Взрослое млекопитающее он постоянно путал, то называя его китом, то дельфином. Для меня этот вопрос означал «буду ли я таким же как родители, буду ли я на них похож, такой ли я как они, могу ли я быть похожим на них?». Больше к этим персонажам в течение сессий он не возвращался до тех пор, пока ему не сказали правду о его рождении и усыновлении.
Для Толи-«мальчика с кошкой» не было бы губительным проговаривание правды, практически на первых сеансах, потому что он был в контакте со своим опытом, постоянно возвращался к нему. Однако был бы губительным для его мамы, которая не готова была рассказать ему. Она отрицала саму возможность внедрения этой информации в их семью и Толя «делал вид», что ничего не знает.
Что же касается Миши, то здесь дела гораздо сложнее. После 7 месяцев работы, приемные родители сказали ребенку о факте усыновления, и что же я увидела на следующей за этим сессии: мальчик снова взял китенка и дельфина и снова спросил меня: «Они похожи?» Я попыталась было развернуто рассказать про китов и дельфинов и перейти непосредственно к его ощущению схожести с кем-либо, как он, отложив в сторону игрушки, авторитетно заявил: «Они похожи» и ясно дал понять, что никакие возражения не примутся. Не смотря на то, что был достаточно продолжительный этап предварительной работы, Миша не был готов говорить об этом факте и полностью вывести его в сознание. Поначалу мне вообще показалась, что он пропустил информацию мимо ушей, об этом же говорили его родители. Он совершенно никак не реагировал на рассказанное, хотя приемные родители даже провезли его мимо роддома, где он родился. Однако его игра после этой сессии сильно изменилась, он стал использовать меня как объект. Раньше он играл только с игрушками. Бывало, что я ощущала себя предметом мебели, потому что он почти не обращался ко мне во время своих игр, теперь же он пугал меня, заставлял бояться и убегать от него, ему нужны стали мои эмоции, он стал вступать со мной во взаимодействие. Как будто вместе с правдой о его рождении в нем открылась способность более эмоционально контактировать с людьми. Мне кажется, этот факт очень важен для способности психики развиваться. Находясь вытесненным, материал блокирует способность ребенка опираться в полной мере на находящегося рядом с ним человека, вступать с ним не в частичное, а в подлинное взаимодействие. Утаивая правду, приемные родители, с одной стороны, берегут чувства ребенка, с другой стороны, вынуждают его ощущать мир через непроработанный опыт покинутости, опыт, который не был назван, объяснен и переработан психикой, опыт, который время от времени требует интеграции в сознание.
Не скажу
У Даши пушистые светлые волосы и внимательный взгляд, ямочки на щеках и родимое пятно на левом плече. Даша любит розовый цвет и футболки Hello Kitty. А о чём она мечтает, чего хочет и кого боится, я не знаю, и не уверена, что смогу узнать - Даша со мной не разговаривает.
И не только со мной. Даша не разговаривает в школе с учителями и одноклассниками, во дворе с соседями, в поликлинике с врачом и медсестрой. Даша разговаривает только дома и только со своей семьёй - с мамой, папой и бабушкой.
Запрос мамы неясен. Мама не видит проблемы в дашином молчании. Мама не хочет вести Дашу к врачу. У девочки хорошее здоровье и нормальное развитие. Но школа обеспокоена - уже второй класс, а от Даши до сих пор никто не слышал не слова, школа теребит маму, мама приводит Дашу ко мне.
Мама готова платить мне и водить Дашу "чтобы в школе отстали", мне не нравится такой подход. Я объясняю маме, почему отказываюсь, Даша сидит тут же и внимательно слушает. Поймав мой взгляд, она прижимает руки к груди и смотрит на меня пристальным взглядом. Я теряюсь. Это похоже на призыв о помощи. Я обращаюсь к Даше: "Ты хочешь со мной заниматься?" Она кивает. Я объясняю: "В школе беспокоятся, что ты не разговариваешь. Я привыкла разговаривать с детьми, с которыми работаю. Мы играем, рисуем, лепим из пластилина, и при этом разговариваем". Даша кивает. Я спрашиваю: "Ты хочешь учиться разговаривать со мной и другими людьми?" Даша отводит глаза, пожимает плечами, потом кивает.
Мы договариваемся с мамой на десять встреч с Дашей и две встречи с родителями. За это время я надеюсь хоть немного разобраться в причинах дашиного молчания. Ещё я надеюсь, что этот опыт общения с чужим человеком девочка сможет распространить потом и на другие сферы жизни.
Из беседы с мамой я знаю, что Даша разговаривала до школы. Она ходила в садик два года перед школой, там была маленькая группа и хорошие воспитатели, и Даша со всеми общалась. Не было проблем и во дворе, и в других местах. Замолчала девочка летом перед школой, и в школе уже не разговаривала. На мой вопрос, случилось ли что-то в это время в семье или с самой Дашей, мама пожимает плечами: "Ничего не случилось, всё как всегда".
Мы занимаемся с Дашей. Она рассматривает игрушки, сперва довольно пассивно, потом я предлагаю выбрать десять, которые нравятся больше всех, девочка воодушевляется, рассматривает, выбирает. Это кукольная семья (мама, папа, две дочки), собака, кошка, страшный монстр, ещё один неприятный тип (Джокер из Бэтмена) и зайчик. Я спрашиваю, любит ли она животных, есть ли у них дома кошка или собака, нравится ли ей монстр, смотрела ли она фильм про Бэтмена - Даша только кивает головой или пожимает плечами.
На следующем занятии игрушки те же, но сюжета нет. Я пытаюсь комментировать, спрашивать, говорить сама - и замечаю, что начинаю раздражаться. Слишком стараюсь понравиться, слишком тороплюсь установить контакт. Так дело не пойдёт!
Молчание, оказывается, очень сильная штука. С говорящим ребёнком я бы не торопилась, давала ему время привыкнуть, следила бы за развитием игры. А дашино молчание подстёгивает меня, обязывает. Похоже, что девочка нашла способ получать внимание, не говоря ни слова.
Ладно, сбавлю и я обороты.
Сообщаю Даше, что молча играть не очень интересно, но можно попробовать. В молчании мы обустраиваем дом для семьи (вернее, обустраивает она, а я наблюдаю и предлагаю иногда какие-то варианты). Каждый член семьи селится в отдельной комнате. Каждый ест в одиночку на кухне. Я предлагаю сходить куда-нибудь вместе погулять, Даша пожимает плечами и продолжает передвигать мебель.
На очередном занятии игрушки живут своей обычной жизнью. Едят, спят, моются в ванной, смотрят телевизор, ходят на работу и в школу. Я потихоньку комментирую происходящее, потом начинаю говорить то за одного, то за другого члена семьи, наблюдая за реакцией Даши. Ей нравится. Улыбается. А если не согласна, то отрицательно качает головой, мычит. В какой-то момент шёпотом начинает говорить "да" или "нет" от имени игрушек. Это наше четвёртое занятие. Мама, приводя Дашу, каждый раз говорит, что дочка ждёт встречи, спрашивает, когда пойдём к Лене. Про наши игры не рассказывает, а родители не спрашивают. В школе всё по-прежнему.
Пока кукольная семья занимается своими делами, кошка, собака и заяц ходят по дому, едят и спят, а монстр и Джокер лежат без дела возле коробки с игрушками. Я хотела убрать их, но девочка достала и опять положила на ковёр.
Даша шёпотом произносит отдельные слова, я говорю за всех по очереди. Время от времени обращаюсь к ней с вопросом или рассказом, девочка слушает, кивает, иногда тихо и односложно отвечает. Игры наши спокойны и скучноваты, мы привыкаем друг к другу.
А потом появляется монстр. Семья только улеглась спать, каждый в своей комнате, а он пришёл и стал стучать в дверь своими огромными ногами и страшными рогами. Я говорю Даше, что это страшно. Она с довольным видом кивает, и продолжает колотить монстром по стенам домика, по крыше и двери. Потом монстр вваливается в дом и начинает всё крушить и разбрасывать. Даша сосредоточена. Она планомерно выбрасывает из дома всю мебель. Я спрашиваю, можно ли семье вызвать полицию. Ответ отрицательный. Можно ли семье убежать из дома? Кивок головой. Семья убегает, с криками и жалобами. Даша недовольна. Семья бежит молча. Даша смотрит на меня одобрительно.
На следующем занятии история повторяется. Монстр ломает дом, семья молча спасается бегством. Тогда зайчик, который и раньше уже выступал выразителем чувств, не выдерживает. Он говорит, что ему очень страшно. Он говорит, что ненавидит монстра. Он спрашивает родителей, почему они не защищают своих детей. Говорит, что злится на них. Говорит, что боится. Говорит, что ему не нравится то, что происходит. Даша слушает, затаив дыхание. Зайчик обращается к Даше: Ты спасёшь меня от монстра? Даша шепчет: Нет...
Зайчик быстро перестраивается и говорит, что раз так, то он сам спасёт всех, и Дашу тоже. И бьёт монстра пяткой в нос. Несколько раз. И говорит ему: "Уходи, гадкий, противный, мерзкий монстр! Я тебя ненавижу! Я на тебя злюсь, ух, как я злюсь! Уходи!"
Даша удивлена, обрадована, она не верит своим глазам. Она восторженно говорит почти нормальным голосом: "Так не бывает..." Зайчик уже осмелел, он чувствует себя героем. "Очень даже бывает!"
Занятие кончилось, мы собираем игрушки. Когда приходит мама, Даша что-то шепчет ей на ухо. Мама переводит: Даша спрашивает, можно ли взять домой игрушку, зайца.
У меня правило - не брать из кабинета игрушки, дети о нём знают. В то же время я понимаю, что это не просто прихоть, зайчик сейчас важная фигура в девочкиной истории. Пока я колеблюсь, мама сама придумывает ответ, говорит, что только что видела точно такую игрушку в магазине, они сейчас пойдут и купят её. Даша соглашается, я надеюсь, что тот заяц станет для неё таким же объектом.
Следующая встреча - с родителями, пришла одна мама. Я рассказала ей, как проходят занятия, что Даша стала немножко говорить со мной. Спросила, происходило ли с ними что-то такое, что могло напугать девочку. Мама мрачнеет, задумывается, а потом рассказывает, что у неё есть взрослый сын, он наркоман. Живёт отдельно, видятся крайне редко. Два года назад он пришёл к ним вечером, когда Даша уже спала. Стал просить денег, потом требовать, угрожать. Они ругались, кричали, шумели. Дашина мама вместе с мужем силой выставили парня за дверь. Тот ещё некоторое время стучал и звонил, потом соседи пригрозили полицией и он ушёл, и больше не появлялся. Мама очень стыдится сына, говорит, что давно отреклась от него, что он позорит её.
Даша от шума проснулась и в страхе лежала в своей комнате. Потом стала плакать. Мама сама была сильно расстроена, утешать девочку у неё не было сил. Поэтому прикрикнула на неё, чтоб замолчала. А потом ещё строго-строго сказала, чтоб никому не говорила об этом. Это всё случилось как раз летом перед школой.
Я порекомендовала маме поговорить с дочкой о случившемся, рассказать о брате, объяснить, что с ним, как мама сама к этому относится. Мама сказала, что подумает, что не уверена. Хотя согласилась, что связь между этим случаем и молчанием, скорее всего, присутствует.
Решили, что я буду продолжать работать с Дашей, как и договаривались, чтобы закрепить изменения.
Когда в работе с ребёнком, в игровой терапии, доходишь до главной темы, до сути проблемы, то потом некоторое время ребёнок с удовольствием повторяет в игре один и тот же сюжет, а потом, отыграв его, успокаивается и теряет интерес. Новый опыт осмыслен и принят, ситуация перестаёт быть актуальной и болезненной.
Я и сейчас с Дашей ожидала такого же. Но нет - игра продолжилась. Теперь на сцену вышел новый герой, всё это время ждавший своего часа - Джокер. Он не ломал мебель, не пугал домочадцев. Он просто пришёл и поселился в доме. Сперва я решила, что это прошлая сессия и разговор с мамой так подействовали, и брат как-то очень быстро занял своё место в семье. На мой вопрос, кто это, Даша пожала плечами, а мама, когда пришла за девочкой, сказала, что решила пока ничего не рассказывать ей.
На следующей встрече Джокер повёл себя очень странно - он стал целовать маму и дочек своими неприятными зелёными губами. Я, по обыкновению озвучивавшая всех членов семьи, оказалась в замешательстве. Плевалась, возмущалась, жаловалась папе, выгоняла Джокера. Тот ни на что не реагировал и продолжал их целовать со злорадной усмешкой на своих зелёных и дашиных розовых губах.
К тому времени Даша уже привыкла ко мне и вторую половину часового занятия немного разговаривала. Иногда подавала реплики за кого-то из героев, иногда отвечала на мои вопросы или сама спрашивала, и вообще вела себя активнее, чем в начале наших встреч. Поэтому я предложила ей побыть кукольными девочками и спросила, как они реагируют на поцелуи. Даша сказала: "Они отравились и умерли" - и положила кукол на пол. А родители? "Папа тоже умер, а мама ушла". "Куда ушла?" - пожимает плечами. "Давай позовёт доктора, пусть он их вылечит" - качает головой. Загрустила, замолчала, ушла недовольная.
Потом заболела, пропустила, потом отказалась приходить. Вместо неё пришла мама. Я рассказала о своём недоумении, о том, как быстро ухудшился контакт после последней игры. Что, похоже, что-то ещё происходит в дашиной жизни, что тревожит и пугает её и чему нет названия. Мама недовольно покачала головой и рассказала, что они с дашиным папой в разводе, но по своим причинам продолжают жить вместе, что у неё есть мужчина, отношения с которым они не афишируют, в дом он не приходит и Даша о нём ничего знать не может.
- Вот только Джокер с отравленными поцелуями откуда-то взялся.
- Ну хорошо, была одна ситуация, когда Даша могла их видеть вместе, вернее, видела, но что она могла понять, она же ребёнок ещё, и мама ей строго-настрого запретила об этом рассказывать, забудь, сказала, ты ничего не видела.
Хорошо, что Даша только говорить отказывается, подумала я. А могла бы и глаза держать закрытыми - на всякий случай. И уши заодно.
К сожалению, у этой истории нет счастливого завершения. Даша не заговорила в школе, мама не заговорила с Дашей. Я, как и собиралась, немного разобралась в причинах дашиного молчания, но без поддержки семьи, без изменения всей семейной системы, девочка вряд ли изменит своё поведение. Ей же сказали молчать.
Мальчик, которому нужно было играть
Ребенок одиноко стоял посреди игровой комнаты. Пятилетний Дибс смотрел прямо перед собой и, казалось, даже не подозревал о существовании других детей, игравших вокруг него. Его руки безжизненно висели вдоль туловища, а сам он оставался абсолютно неподвижным. Дибс проявлял активность, если кто-нибудь приближался к нему: тогда он начинал наносить удары подошедшему, пытался кусаться и царапаться. В конце концов он отходил в сторону и ложился под стол, где и находился до конца игрового занятия. Всем, кто видел Дибса, было очевидно, что он имеет серьезные бихевиоральные (поведенческие) проблемы. Хотя воспитатели с нежностью относились к Дибсу, они утверждали, что заниматься с ним невозможно. Его мать заявила о его психической ненормальности и врожденной умственной отсталости. Для обследования и лечения Дибса также были приглашены психологи. Вирджиния Экслайн, практикующий клинический психолог, решила использовать для лечения метод так называемой игровой терапии. Десять лет спустя Дибс прошел несколько тестов для оценки уровня умственного развития. Оказалось, что он действительно был «ненормальным»: фактически он был гением.
«Не пойду домой!»
История Дибса начинается с детского сада. В отличие от большинства детей своего возраста, он, по-видимому, ненавидел жизнь. Часто он подолгу неподвижно стоял у стены, обхватив голову руками; мог просидеть на одном месте все утро не двигаясь и не произнося ни слова; иногда просто сворачивался калачиком и лежал на полу до тех пор, пока не наступало время идти домой. За пределами игровой площадки он искал укромный уголок, садился на траву и что-то рисовал палочкой на земле. Он был молчаливым, замкнутым и несчастным ребенком. Несмотря на его странное поведение, воспитатели чувствовали, что в действительности он любит свой детский сад. Когда вечером за ним приезжала машина, он вырывался из рук забиравшего его шофера и громко кричал: «Не пойду домой!» Однако подобные вспышки никогда не наблюдались утром перед уходом из дома.
Дибс не отвечал тем, кто обращался к нему, и ни с кем не устанавливал зрительного контакта. Он был несчастным ребенком, одиноким в казавшемся ему враждебным мире. Его поведение было, безусловно, странным: часто он казался умственно отсталым, но иногда делал что-то такое, что предполагало у него наличие развитого интеллекта. Он любил книги и всегда брал их, когда ему предлагали. Когда детям рассказывали сказки, он обычно забирался под стол, расположенный достаточно близко к рассказчику, чтобы не пропустить ни единого слова.
Детский сад получал много жалоб на дезорганизующее и агрессивное поведение Дибса, и воспитатели решили подвергнуть его психологическому тестированию. Но психологи не смогли провести оценку его возможностей, так как он отказывался участвовать в любых тестах. Был ли он умственно отсталым? Был ли он аутистической личностью? Страдал ли он каким-то психическим заболеванием? Дибс демонстрировал такое поведение в течение двух лет, и когда ему исполнилось пять, воспитатели пригласили клинического психолога. Так Дибс впервые встретился с Вирджинией Экслайн. Она должна была стимулировать адекватное поведение Дибса и побудить его справиться со своими проблемами.
Дверь начинает приоткрываться
Мать Дибса не возражала против того, чтобы ее сын получил несколько сеансов игровой терапии под руководством Экслайн. Эти сеансы продолжительностью в один час проводились каждый четверг. Игровая терапия — это особая форма психотерапии для детей; в ней используют психотерапевтические возможности игры, чтобы помочь детям предотвратить или разрешить различные психологические проблемы.
Существуют два основных типа игровой терапии. При недирективной терапии ребенку предоставляется возможность свободно вести себя в игровой комнате, играть со всем, что вызывает у него интерес. Зачастую этот процесс снимается на видео через полупрозрачное зеркало. Для стимулирования игры психотерапевт использует комментарии поведения ребенка, основанные на фактах, например: «Итак, сегодня ты собираешься играть с куклой-папой». Психотерапевт оказывает поддержку своим присутствием, но контролирует свое чрезмерное вовлечение в игровой процесс. Именно недирективную терапию предпочла использовать Экслайн на занятиях с Дибсом.
Директивная терапия, напротив, подразумевает более активную роль психотерапевта в игровом процессе. Часто психотерапевт делает предложения о выборе подходящей игры и использует сеансы в диагностических целях. Он также задает ролевые сценарии, которые могут символизировать собственный жизненный опыт ребенка, а затем разрабатывает возможные решения проблемы. Например, куклы-перчатки, изображающие различных зверей, можно использовать для представления сцен споров между родителями, свидетелем которых мог быть ребенок.
В комнате игровой терапии, которую использовала Экслайн, имелись кукольный дом с различными куклами и машинками, песочница, фломастеры и акварельные краски, бумага для рисования и надувная кукла-неваляшка. Во время первого сеанса Дибс просто ходил по комнате и монотонно называл каждую игрушку. Экслайн поощряла такую вокализацию, подтверждая своими словами правильность названий. Дойдя до кукольного дома, Дибс, всхлипнув, произнес: «Нет запертых дверей... нет запертых дверей». Он повторял эти слова снова и снова. Процесс психотерапии начался.
Мальчик исключительного мужества
Во время следующего сеанса Дибс проявил явный интерес к краскам. Он осторожно подошел к ним и после внимательного изучения выложил шесть красок в порядке, соответствующем расположению цветов радуги. Он выбрал конкретную марку красок и сказал, что она является самой лучшей. Тогда Экслайн поняла, что Дибс читал текст на этикетках. Затем он сел и начал рисовать. Рисуя, он произносил название каждой краски, он мог назвать все цвета. Стало ясно, что Дибс вовсе не является умственно отсталым.
Метод недирективной терапии позволял Дибсу самому задавать направление игры. Экслайн реагировала на его вопросы и пожелания, но именно Дибс определял интенсивность взаимодействий и выбирал тип игровой деятельности. Экслайн решила попытаться стать тем катализатором, который помог бы Дибсу раскрыть свое собственное Я. Она надеялась дать ему шанс развивать свои чувства в обстановке, не таящей для него никаких угроз, и говорила ему, что игровая комната является тем местом, где он может веселиться — местом, где никто не может причинить ему вреда, где он имеет возможность «выйти из тени на солнце».
Экслайн знала, что процесс психотерапии требует больших затрат времени и сил, но не гарантирует успеха. Однако она надеялась, что Дибс постепенно станет полнее проявлять свое истинное Я по мере того, как будет чувствовать себя в ее компании все более уверенно. Когда сеанс заканчивался, у Экслайн часто возникали трудности с Дибсом. Всхлипывая, он постоянно повторял: «Не хочу домой, не хочу домой». Иногда, если за ним приезжала мать, он начинал кричать и махать на нее руками. Во время этих вспышек гнева Экслайн не пыталась успокоить Дибса ласковыми словами, чаще всего она просто уходила из комнаты. Она понимала, что он должен был быть независимым от нее. Дибс испытывал бы еще больше душевных страданий, если эмоционально привязался бы к человеку, возможность видеться с которым возникала бы редко; силы Дибса должны были крепнуть изнутри.
Хотя психотерапия имела немаловажное значение, надо было сделать так, чтобы она не оказалась главной составляющей жизни мальчика. Существует опасность того, что некоторые пациенты могут стать чрезмерно зависимыми от психотерапевтов, и Экслайн стремилась не допустить этого в случае с Дибсом. Иногда она останавливалась посередине коридора, и Дибс, хотя и неохотно, но все же продолжал в одиночку идти навстречу матери.
Во время игровых занятий Дибс предпочитал играть с кукольным домиком или в песочнице. Он часто просил, чтобы двери в кукольном домике были заперты. В качестве одного из средств психотерапии Экслайн побуждала его высказывать собственные предложения. Например, когда Дибс требовал запереть двери в кукольном домике, Экслайн спрашивала, действительно ли он хотел, чтобы дом был заперт. Если он отвечал «да», то это было его желание, и она предлагала, чтобы двери закрыл он сам, а не она. Когда Дибс объявлял, что дом заперт, она поздравляла его с успешным выполнением задачи.
Экслайн старалась не задавать Дибсу прямых или зондирующих вопросов. Это помогало избегать любых предпосылок к конфронтации и развивало в нем чувство безопасности. Она осознавала свое желание задавать прямые вопросы, но была уверена, что ни один человек во время сеансов психотерапии не давал на них точных ответов, и поэтому считала ограниченными возможности использования этого инструмента. Экслайн пыталась задавать открытые вопросы, позволявшие Дибсу выразить себя более полно. Она часто перефразировала то, что он говорил, чтобы дать ему больше времени на распознавание его собственных мыслей. Например, когда Дибс предлагал ей принять сделанный им рисунок, а не просто взять его с простым выражением благодарности, она спрашивала: «О, ты хочешь дать это мне, в самом деле?» Этот прием позволял ей открывать линии коммуникаций, а Дибсу — расширять обмены, если мальчик того хотел. Данный прием помогал также замедлить процесс и означал, что она не устанавливала собственных стандартов поведения при взаимодействиях. Благодаря использованию такого изящного приема Дибс постепенно начинал выбираться из своей раковины: он стал проявлять собственное Я. Он получал удовольствие от обретаемого чувства свободы и уверенности в себе. Дибс стал устанавливать визуальный контакт с Экслайн, и улыбку на его лице можно было заметить чаще, чем раньше.
Каждая неделя имеет четверг
Экслайн видела, что Дибс делает успехи, но поскольку она имела мало контактов с его родителями и воспитателями, то не была уверена, что прогресс заметен за пределами игровой комнаты. Несмотря на это, Дибс продолжал испытывать большие трудности. Когда он был чем-то огорчен, то часто брал детский рожок и сосал его; по-видимому, таким способом он старался себя успокоить. Экслайн также заметила, что Дибс использовал одну из двух защитных стратегий всякий раз, когда он обсуждал свои чувства и эмоции: иногда его язык становился крайне бедным и элементарным, а иногда он менял тему разговора, демонстрируя свои несомненные способности к письму, чтению и счету. Экслайн понимала, что Дибс испытывает потребность маскировать свои истинные чувства и эмоции и ощущает себя более комфортно, когда демонстрирует интеллектуальные способности. Казалось вполне возможным, что время от времени он скрывал свои истинные способности, чувствуя, что люди придают им слишком высокую ценность.
Однажды во время сеанса Дибс выбрал из коробки с игрушками игрушечного солдата и назвал его «папой». Он поставил его вертикально, а затем одним ударом опрокинул на пол. Он повторил это действие несколько раз, а затем закопал солдата в песок. Там Дибс оставил его лежать на целую неделю. Экслайн заметила это очевидное послание, направленное во время игры, и удивилась тому, насколько креативно и выразительно использовал язык игры Дибс. При наличии достаточного пространства и времени он мог бы наглядно выразить свои чувства к отцу.
С каждой неделей становилось все очевиднее, что Дибсу нравятся сеансы психотерапии. Он радостно спешил к двери игровой комнаты, и его лицо светилось улыбкой. Он поведал Экслайн, какое удовольствие он получает от этих занятий, сказав буквально следующее: «Я с радостью вхожу в эту комнату и ухожу из нее с грустью». По-видимому, он считал дни до следующего сеанса. Он вычислял, каким будет следующий четверг — будет ли это день рождения Джорджа Вашингтона или же день, следующий за днем Четвертого июля, — он всегда знал, на какое число придется этот долгожданный день. Среда всегда казалась ему бесконечно долгим днем, предшествующим дню занятий с «мисс А», как он любил называть Вирджинию Экслайн.
Так много нужно рассказать
Однажды за мальчиком приехал отец, и она вышла в холл, чтобы поприветствовать его. Дибс сразу же вмешался в разговор взрослых, заявив: «Папа, День независимости в этом году наступит через четыре месяца и две недели и придется на четверг». Отец был смущен таким поведением сына и велел ему прекратить бессмысленную болтовню, назвав при этом мальчика идиотом. Дибс выглядел совершенно подавленным и уехал, не сказав ни слова. Дома он набросился с кулаками на отца и стал кричать, что он его ненавидит. Он вел себя так плохо, что его решили на время запереть в домашней игровой комнате. Этот инцидент стал поворотным пунктом в отношениях между Дибсом и его родителями.
Родители Дибса были напуганы. Они никогда по-настоящему не обсуждали свои чувства и эмоции друг с другом. Однако этот инцидент вынудил их преодолеть свои страхи и всерьез задуматься о Дибсе. Они поняли, что вели себя с ним неправильно. Всю взрослую жизнь они использовали свои умственные способности для самозащиты от эмоциональных реакций, и Дибс непреднамеренно сделал то же самое. Возможно, его родители также воспитывались в эмоциональном вакууме. Все трое, хотя и каждый на свой лад, пытались использовать свою сообразительность как форму защитного поведения, и это сделало их еще более уязвимыми, чем когда-либо прежде. Мать и отец Дибса решили, что с этим нужно что-то делать.
На следующее утро мать Дибса позвонила Экслайн, чтобы договориться с ней о встрече. Во время состоявшейся беседы она чувствовала себя неловко. Она призналась, что ей «так много нужно рассказать» и что она несет «тяжкую ношу» заботы о Дибсе. Сейчас у нее появился шанс освободиться от этого бремени. По-видимому, ее муж хочет прекратить сеансы психотерапии. Ему кажется, что они не пошли Дибсу на пользу и что в последние недели он выглядит более несчастным, чем прежде. Экслайн была удивлена: неужели очевидные улучшения, которые она наблюдала у Дибса, не были видны за пределами игровой комнаты?
Глотая слезы, мать Дибса описывала горькое разочарование, которое принесла ей беременность. Будучи способным хирургом, из-за беременности она была вынуждена отказаться от карьеры. Ее муж был блестящим ученым, но эгоистичным человеком: его недовольство рождением Дибса внесло в их жизнь множество бытовых проблем. К тому же они были крайне смущены ненормальностью Дибса: они чувствовали себя униженными и опозоренными. Когда невропатологи не обнаружили у Дибса никакой патологии, они решили, что, возможно, их ребенок страдает шизофренией. Однако обследовавший его психиатр заявил, что Дибс совершенно нормален, а его поведение является результатом невнимания к его эмоциональному развитию. Он рекомендовал психотерапию не Дибсу, а его родителям.
Экслайн спросила о поведении Дибса дома. Мать признала значительные улучшения в его поведении после начала терапии: он стал больше разговаривать (главным образом, по-прежнему сам с собой), перестал сосать большой палец, а вспышки раздражения остались в прошлом. Она описывала инцидент с отцом как рациональный протест против его некорректных высказываний. Дибсу следует продолжать посещать сеансы терапии. Семья успешно пережила кризис, и теперь все будет делаться для решения накопившихся проблем. Экслайн заметила, что многие психотерапевты не соглашаются проводить сеансы психотерапии без согласия или даже участия родителей ребенка. В случае с Дибсом вопрос об этом встал довольно поздно, что указывает на возможность успешного проведения психотерапии даже без участия родителей на раннем этапе процесса лечения.
Последний лист
Во время одного из сеансов Дибс рассказал Экслайн историю о дереве, которое росло перед окнами его спальни. Отец Дибса велел их садовнику по имени Джейк обрезать этот большой вяз. Дибс попросил Джейка оставить ветки, которых он мог бы касаться рукой, высунувшись из окна. Джейк согласился и оставил несколько таких веток. Однако отец заметил это и потребовал обрезать все. Джейк попытался объяснить ему, что Дибсу нравится касаться этих веток руками, но отец все равно велел их спилить, добавив, что он не хочет, чтобы Дибс высовывался из окна. Джейк выполнил приказание, но дал Дибсу на память верхушку одной из веток — часть дерева, которую тот мог держать у себя в спальне. Дибс очень дорожил этой веткой и никому ее не показывал.
Джейк часто рассказывал придуманные им истории о саде. Однажды он рассказал Дибсу историю о вязе, росшем перед его окнами. Он сказал, что весной листья становятся зелеными благодаря дождям, а летом они дарят прохладную тень. Но зимой ветер срывает листья, чтобы дать им возможность путешествовать по всему свету. Последний оставшийся на дереве лист чувствовал себя очень одиноко, но ветер заметил это и задул с такой силой, что этот маленький лист сумел совершить самое замечательное путешествие в мире. Однако маленький лист скучал о Дибсе, и ветер вернул его на прежнее место на дереве. Джейк сказал, что он нашел этот лист под деревом, и затем вручил его Дибсу. Дибс вставил лист в рамку и всякий раз, когда на него смотрел, он представлял себе все удивительные веши, существующие в этом мире, все чудеса, о которых он так много читал. Дибс рассказывал о своих чувствах к Джейку: «Я очень, очень его люблю. Я думаю, что он мой друг».
«Мама, я тебя люблю»
В течение следующих недель Дибс становился все более раскрепощенным и уверенным в своих силах. Он сообщал, как он нравится сам себе. Он рассказывал о чудесных однодневных поездках с родителями на морское побережье. Но он по-прежнему молчал, если не хотел разговаривать. Дибс знал, как это расстраивает отца, и именно таким способом он реагировал на критику в свой адрес. Однажды после сеанса психотерапии он помчался по коридору и бросился в объятия матери со словами: «Мама, я тебя люблю». В ответ мать разразилась потоком слез.
Дибс очень хотел провести лето с родителями. По-видимому, он понимал, что курс психотерапии подходит к концу. Он был весел и доволен. Его мать встретилась с Экслайн еще раз. На этот раз она пришла, чтобы поблагодарить ее за проделанную работу. Она также призналась, что всегда чувствовала, что Дибс не является умственно отсталым. Она была уверена, что он мог читать уже в возрасте двух лет. Мать систематически занималась с ним с очень раннего возраста. По ее словам, в возрасте шести лет Дибс прослушал сотни классических симфоний, а в его рисунках прослеживается удивительное чувство перспективы. Она настойчиво добивалась от него успехов. Она думала, что помогает ему развивать врожденные способности, но эти результаты достигались ценой ухудшения его эмоционального состояния. Возможно, она не знала, как развивать отношения с сыном, и сосредоточилась на хорошо знакомых ей областях — преимущественно связанных с интеллектуальной деятельностью, — чтобы скрыть свою неспособность стать эмоционально близкой своему сыну.
На последнем сеансе Дибс выглядел общительным и счастливым. Его поведение было спонтанным. Напоследок он попрощался с «хозяйкой чудесной игровой комнаты». Через неделю клинические психологи провели оценку показателя интеллекта (коэффициента IQ) Дибса. Среднее значение IQ для населения в целом равняется 100. Ко всеобщему удивлению, у Дибса IQ оказался равным 168. Дибс не закончил отвечать на вопросы теста, так как они ему наскучили, но, несмотря на это, его результат был удивительно высоким для его возраста. Он был интеллектуально одаренной личностью, способной добиваться успеха в разных видах деятельности. Дибс сумел прийти к согласию с самим собой, и то же самое удалось его родителям.
Через два с половиной года семья Дибса совершенно случайно переселилась в дом, расположенный по соседству с домом, в котором жила Экслайн. Однажды они встретились на улице, Дибс сразу же ее узнал. Он рассказал, что его последний сеанс психотерапии состоялся два года, шесть месяцев и четыре дня тому назад в четверг. Он вырезал дату последнего сеанса из календаря, вставил в рамочку и повесил на стену в своей спальне. Этот день был для него особым. Дибс признался Экслайн, что она была его первым настоящим другом. Он прекрасно учился в своей новой школе для одаренных детей. Его родители были счастливы — как и он сам.
Во время сеансов психотерапии Дибс как-то сказал, что каждый ребенок должен иметь собственную вершину, на которую ему нужно подняться. Вершина Дибса была намного выше, чем у большинства других детей, но благодаря работе, терпению, преданности и умелому руководству он сумел на нее взойти и насладиться открывшимся ему видом. Он обрел ощущение собственного Я.
Человек, который был разочарован тем, что он увидел
С. Б. родился в 1906 году. Он был одним из семи детей в бедной семье из Бирмингема. Он ослеп в возрасте десяти месяцев вследствие инфекции, занесенной в организм после вакцинации против оспы. Старшая сестра С. Б. регулярно носила его в больницу на еженедельные процедуры, во время которых с глаз малыша снимали повязку и смывали гнойные выделения. В качестве развлечения члены семьи время от времени проверяли зрение С. Б., и, как вспоминает его старшая сестра, он мог различать свет и указывать на некоторые «крупные белые предметы». Своим правым глазом он мог различать движения руки на расстоянии около восьми дюймов. Сам он рассказывал, что имел только три визуальных воспоминания: красный, белый и черный цвета. С. Б. вел жизнь незрячего ребенка; с девяти лет посещал Бирмингемскую школу для слепых, которую закончил в 1923 году, получив хорошее образование и навыки, необходимые для работы мастером по ремонту обуви.
По воспоминаниям окружающих, в школьные годы С. Б. был добрым, воспитанным и смышленым мальчиком, лишь изредка проявлявшим непослушание. Он начал работать мастером по починке обуви у себя дома, в Бертоне-на-Тренте. По свидетельствам заказчиков, качество его работы было хорошим. Он вел во многом самостоятельную жизнь, хотя и зарабатывал намного меньше своих зрячих коллег. С. Б. чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы перейти любую улицу, и обычно, выходя из дома, не брал с собой белую трость. Однако он не раз получал ушибы, натыкаясь на припаркованные машины или другие неожиданные препятствия на хорошо известных ему маршрутах. Он был неплохим велосипедистом и мог совершать длительные поездки, держась за плечо ехавшего рядом с ним друга. Ему нравилось работать в саду, и окружающие считали его позитивно настроенным и увлеченным человеком, любившим жизнь в разных ее проявлениях.
Такой была его жизнь — относительно бедная важными событиями, но достаточно полная — до тех пор, пока в 1957 году при обычном осмотре состояния его глаз не возникла надежда на возвращение зрения. Хирург-офтальмолог по фамилии Хиртенштейн (Hirtenstein), осмотрев пациента, заявил, что поскольку С. Б. в действительности не был слепым (т. е. не был абсолютно нечувствительным к свету), то с помощью операции можно улучшить функционирование роговой оболочки его глаз и таким образом вернуть утраченное зрение. Роговая оболочка представляет собой «окно» передней части глазного яблока. Она должна быть прозрачной и обеспечивать поступление света в глаз. Если этого не происходит, то путь поступления света на сетчатку искажается и/или блокируется, что вызывает потерю зрения. Пересадка роговицы подразумевает удавление части роговой оболочки и замену ее подходящим кусочком роговой оболочки от донорского глаза. Успехи микрохирургии сделали такие операции возможными, и 9 декабря 1958 года С. Б. пересадили донорскую роговицу на левый глаз, а месяц спустя — на правый.
Восстановленное зрение
Первое, что увидел С. Б. — когда после операции ему сняли повязку с глаз, — это лицо хирурга. «Daily Express» сообщала, что он увидел темное пятно с какой-то выступающей частью и услышал голос; имея возможность ощущать свой собственный нос, он понял, что «выступающая часть» перед ним — это также нос, а значит, темное пятно должно быть лицом. Он заключил, что это лицо принадлежит хирургу. Из более поздних заявлений С. Б. следует, что он принимал «смешение цветов» за лицо хирурга просто потому, что узнавал его голос. Он признавал, что не узнал бы лицо без соответствующего голосового дополнения и без своего полученного ранее знания о том, что голос исходит от лица. Первоначально лица казались С. Б. объектами, которые не так-то просто идентифицировать. Он описывал свою жену как «настолько красивую, насколько красивой, как я думал, она и должна быть».
С. Б. мог назвать все предметы в комнате и даже сказать, какое время показывали висевшие на стене часы. Поскольку многие люди с «восстановленным зрением» с трудом распознают окружающие предметы, то Грегори и Уоллес попросили С. Б. объяснить причину его высокой распознавательной способности. С. Б. объяснил, что большинство предметов, которые он мог приблизительно определять с помощью размышления, были известные ему благодаря осязательному опыту, полученному в то время, когда он был слепым. Он показал им свои часы, у которых было снято стекло, и продемонстрировал, как он умеет определять время, прикасаясь пальцами к стрелкам. Он сказал также, что может определять прописные буквы, потому что в школе для слепых его учили определять буквы на ощупь. Было заметно, что хотя он не мог распознавать строчные буквы (его не учили делать это на ощупь), он использовал догадки для сокрытия этой перцептивной аномалии.
С. Б. не слишком уверенно распознавал цвета. Имевшиеся данные говорили о том, что пациентам с восстановленным зрением желтый цвет кажется особенно неприятным. С. Б. также не нравились многие оттенки желтого. Он демонстрировал предпочтение зеленому и голубому, в целом любил все яркие цвета. «Тусклые» цвета его угнетали. Мир начинал казаться ему мрачным, а сам он приходил в уныние из-за увиденной цветовой гаммы и несовершенства вещей.
Восприятие глубины было у С. Б. особенно плохим. Когда он выглядывал из больничного окна, расположенного на высоте полутора метров, то был уверен, что, протянув руку, сможет коснуться земли. Его оценки геометрических размеров также были крайне неточными. Он мог правильно оценить длину автобусов, но не их высоту. Предполагалось, что это было обусловлено его хорошей осведомленностью, обеспеченной осязательным опытом, о длине автобусов и полным отсутствием такого опыта в отношении восприятия их высоты. В сущности, его оценки размеров были приемлемо точными, если прежде он получал знания о предмете посредством его осязания.
Психологическое тестирование
Грегори и Уоллес просили С. Б. выполнить множество разных тестов на восприятие. В их число входили хорошо известные зрительные иллюзии, предназначенные для проверки восприятия глубины и длины, изображения с изменяющейся перспективой и тесты на проверку цветового зрения. В отличие от «нормальных» людей, С. Б., по-видимому, не приходил в замешательство при рассмотрении зрительных иллюзий. Например, после тщательного рассмотрения он заявил, что вертикальные линии в иллюзии Цельнера параллельны. Как правило, люди считают, что эти линии расположены под углом друг к другу (т. е. не параллельны). Подобным образом в кубе Некера С. Б. не видел трехмерного объекта и не находил, что грани куба «меняются местами» (после продолжительного разглядывания куба многие люди обнаруживают, что передняя грань меняется местами с задней, и наоборот).
Он не имел представления о концепции перекрытия (или загораживания). Эта концепция дает нам информацию о том, что предмет, мешающий видеть часть другого предмета, находится к нам ближе, чем частично перекрываемый им предмет. С. Б., вероятно, также имел ограниченное представление о концепции относительного размера, или о восприятии размера с учетом расстояния. В соответствии с этой концепцией предметы одинакового размера, но находящиеся от нас на разном расстоянии, кажутся нам имеющими разные размеры. Следовательно, предметы, которые кажутся нам меньшими по размеру, могут находиться от нас на большем расстоянии, и наоборот.
С. Б. также предлагалось нарисовать несколько объектов, в том числе автобус, деревенский дом, молоток и т. п. Оказалось, что его рисунки были типичными для слепых. Те особенности предметов, которые он ранее узнал с помощью осязания, присутствовали на рисунках и были вполне узнаваемы, но многие особенности, о которых он не мог ранее узнать с помощью осязания, на рисунках отсутствовали. Например, он изображал автобус с чрезмерно большими окнами (знакомые предметы), но без капота и радиатора, которые прежде были ему неизвестны. Колеса он рисовал со спицами, так как раньше имел дело преимущественно с колесами велосипедов и телег. На его рисунках автобус всегда был изображен в профиль, причем обязательно едущим справа налево — именно такими С. Б. воспринимал автобусы, когда садился в них на остановке (однако следует признать, что большинство людей также изображают автобус подобным образом). Рисунки говорили о том, что, хотя теперь С. Б. мог видеть мир, он по-прежнему смотрел на него глазами незрячего человека, во многом зависящего от способности к осязанию.
«Уставший от Лондона и уставший от самой жизни»
Вскоре после операции С. Б. пригласили в Лондон, чтобы он мог «посмотреть городские достопримечательности». По дороге в столицу он выглядел подавленным и погруженным в себя. Он не проявлял интереса к путешествию, несмотря на то, что его взору открывались незнакомые виды. Он жаловался, что мир кажется ему «тусклым», и после захода солнца впал в уныние. Он проявлял мало интереса к лондонским достопримечательностям. Вид Трафальгарской площади ему быстро наскучил, дома казались ему унылыми, а движение транспорта — ужасающим. Он не чувствовал в себе достаточной уверенности для того, чтобы перейти даже самую спокойную улицу, хотя, будучи слепым, спокойно переходил самые оживленные городские магистрали.
Наряду с разочарованием цветовыми ощущениями и очевидными несовершенствами некоторых объектов, С. Б. испытывал разочарование от вида человеческих лиц. Он признавался: «Я всегда по-своему чувствовал, что женщины красивы, но теперь они видятся мне уродливыми». С. Б. так никогда и не научился интерпретировать выражения лиц и не мог использовать их для определения того, что чувствуют другие люди. Однако он мог определять это по звуку их голоса.
«Видеть», чтобы не подвести других
Грегори и Уоллес посетили С. Б. у него дома через шесть месяцев после операции. Они увидели, с какой удивительной ловкостью он пользуется инструментами при выполнении сапожных и столярных работ. Он уверенно и быстро пилил дрова бензопилой. Однако он признался им, что зрение принесло ему много разочарований. Когда он был слепым, его самостоятельность вызывала всеобщее восхищение, и сам он испытывал уважение к себе благодаря результатам, достигнутым несмотря на серьезный физический недостаток; теперь же он понимал, что обретенное зрение не позволяет ему жить так, как он хотел бы жить. Зрение предоставило ему меньше возможностей, чем он надеялся. В каком-то смысле он продолжал вести жизнь незрячего человека. По вечерам он часто сидел в темноте, подолгу не включая свет.
Соседи и коллеги по работе больше не восхищались его успехами и даже начали относиться к нему как к человеку «со странностями». Некоторые дразнили его и подтрунивали над недостатками, в частности над неумением читать. Ведь если теперь он мог видеть, то почему не мог выучить буквы? Сам С. Б. понимал, что его достижения как слепого человека вызывали восхищение, но в мире зрячих людей они были более чем скромные. Будучи умным человеком, он мог бы добиться в жизни гораздо большего, если бы слепота не сковала его на пятьдесят лет. Хотя и неохотно, но С. Б. все же признался, что в послеоперационный период он демонстрировал энтузиазм из чувства признательности хирургам и всем тем людям, которые проявили такой интерес к его случаю. Он страдал от депрессии и заявлял, что в результате операции потерял больше, чем приобрел. Первоначальный энтузиазм С. Б. по поводу операции приписывался его желанию «никого не подвести». Ведь на его лечение квалифицированные специалисты потратили много времени и сил, и он не хотел выглядеть неблагодарным. Однако позднее он уже не мог скрывать своего разочарования — возможно, из-за потери уважения и восхищения, которые он вызывал, будучи слепым человеком.
Здоровье С. Б. продолжало ухудшаться. Его нервная система истощилась, у него стали дрожать руки. Дважды у него были приступы слабости и, наконец, его отправили на осмотр к психиатру. Лишившись своего физического недостатка, он лишился и самоуважения. С. Б. умер 2 августа 1960 года, прожив чуть менее двух лет после операции по восстановлению зрения.
Небольшая история
Где-то около полтора года назад я пришла на психотерапию. У меня не было явных, как мне казалось, проблем. Было лишь огромное желание сохранить существующие на тот момент, отношения.
Честно говоря, меня пугала до усрачки мысль о том, чтобы придти к психотерапевту. Мало того, придти на долгосрочную терапию. Мысль о том, что «у меня будут копаться в голове» и вовсе отбивала у меня и без того не сильное желание куда-либо идти. Но страх потерять отношения оказался сильнее, и я с ужасом ждала дня встречи.
Я смутно помню наш первый сеанс. Мой терапевт показалась мне странной. Слишком доброй и разговорчивой, казалось, что она притворяется. Как выяснилось потом, это только казалось) Но на тот момент я думала, что мы с ней не сработаемся - слишком много позитива, теплоты и поддержки. Мне постоянно хотелось свалить оттуда и больше никогда не возвращаться.
Я не думала тогда ни о каком улучшении качества жизни, ни о решении собственных проблем. Мой единственный запрос был – помогите мне стать такой, чтобы в отношениях всё стало отлично! Я чувствовала огромную вину за то, что рушу отношения тем, что я не такая как надо и с этим надо было что-то делать. Ха!
Каждую встречу мы разбирали события, происходящие в моей жизни, докапываясь в процессе до отвратительно неприятных и успешно забытых тем. Я орала на пустой стул, разыгрывала сцены детства, посылала всех нахер и рыдала. Это «проживание и прочувствование» были самыми невыносимыми переживаниями в моей жизни. Меня просто накрывало с головой, в самые тягостные моменты не было сил даже встать с постели. Иногда это становилось настолько невыносимым, что хотелось бросить всё. Несколько раз я подумывала о том, что, наверное, легче было бы не знать и половину того, что я узнала о себе, не осознавать вот это вот всё – настолько неприятно было находиться наедине с этим, мало того – чувствовать.
Но со временем многое выстрадалось и стало чуть легче. На встречи даже стало приятно приходить. Появились какие-никакие успехи, появилось доверие и можно было выдохнуть. Я увидела в своём терапевте не робота с полным отсутствием чувств, а такого же живого человека со своими проблемами (скрывать не буду, думала, что у психотерапевтов не бывает проблем:)), который хочет и может мне помочь.