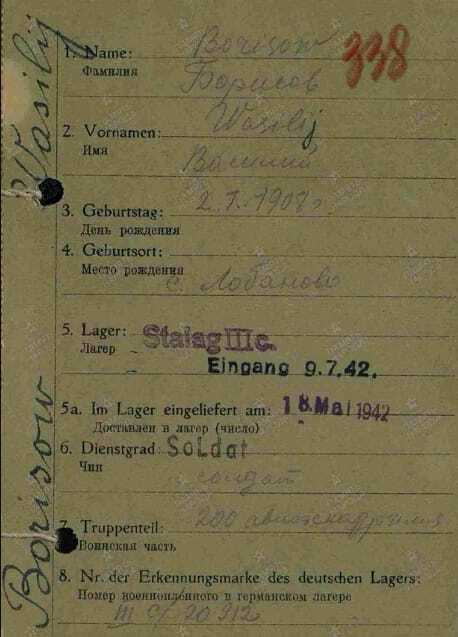Временный лагерь под Белостоком был огромным, вытоптанным полем, наскоро обнесенным колючей проволокой, натянутой меж врытых столбов. На земляных насыпях по периметру зловеще высились пулеметные гнезда. Внутри этого гигантского загона бушевало море человеческого горя – тысячи красноармейцев, сметенных первыми днями катастрофы. Серые и защитные гимнастерки слились в пятно грязи, крови и изнеможения. Воздух гудел от стонов, перемешанных с едкой вонью нечистот, пота и тления.
Павла и его товарищей втолкнули в эту толчею, и деревянные ворота из грубых, нестроганых досок с глухим стуком захлопнулись за спинами. Он стоял, оглушенный масштабом страдания, теряясь среди моря запавших глаз и землистых лиц. Конвоиры, с хриплыми от крика голосами, тыкали прикладами, заставляя садиться на голую землю. Кормежка – раз в сутки, если повезет: котелок мутной жижи с желтыми ломтями брюквы да кусок липкого, заплесневелого хлеба, отдираемого от пальцев. Вода, драгоценная и редкая, черпалась из ржавых бочек, покрытых зеленой пленкой. Ее не хватало даже смочить пересохшее горло. Люди тихо умирали каждый день, а их тела складывали штабелями у ворот и увозили на подводах. Павел нашел место у самого края, подальше от зловонных отхожих ям. Он сидел, прижавшись спиной к столбу ограждения, стискивая кулаки до побеления костяшек. Слухи, зловещие и неумолимые, витали в спертом воздухе: «Гродно взято… Минск пал… Немцы у Березины…». Каждая весть обжигала, как раскаленный уголь, напоминая о доме, о матери Агафье, о Мишке где-то там, в открытой врагу Смоленщине. Он был один. Надо было выжить.
Спустя две недели этого кошмара их погнали к станции. Там ждал товарный поезд с вагонами для перевозки скота. Людей впихнули внутрь так, что кости трещали под давлением тел. Темнота. Духота. Невыносимая вонь немытых тел, испражнений, страха. Дыра в полу – единственное «удобство». Двери захлопнулись, щелкнули засовы. Поезд медленно тронулся. Кормили крохами – горсть черствых сухарей через решетку раз в два дня. Воды – глоток, язык прилипал к небу. В этом гробу на колесах люди сходили с ума, бились в конвульсиях или затихали навсегда. Тела не убирали. Павел стоял, прижатый к шершавой стенке. Ярость и тоска сплелись в тугой узел под грудиной. Ритм колес выстукивал: «Смо-лен-щи-на... Смо-лен-щи-на...».
Наконец, их привезли вглубь Германии. Распределительный лагерь: высокие заборы с колючкой, вышки, слепящие лучи прожекторов. Карантин. Барак, набитый несчастными исхудавшими узниками, и тяжелый спертый воздух. Осмотр у лагерного врача: беглый взгляд, тычок пальцем, мол, здоров. Грубая стрижка машинкой под ноль. Баня – поливание из шланга холодной водой под смех охранника, так что тело коченело от холода и стыда.
Игла раскаленного металла коснулась кожи левого предплечья Павла, зашипела. Боль. Запах горелого мяса. Унтер рявкнул: «Vierundvierzig – Sechzig – Sieben!». Палец ткнул в дымящуюся плоть: 11467. Теперь у него вместо имени – номер. Затем ему выдали лагерную одежду. Нагруди и спине – алые квадраты с черным «SU».
Павла и еще группу советских пленных определили на работу в каменоломню. Бесконечный изрытый склон, кишащий людьми-муравьями. Воздух дрожал от гула компрессоров и грохота отбойных молотков. Каменная пыль – вечный удушливый туман, забивавший нос, рот, легкие, смешивавшийся с потом в липкую серую жижу. Работа – до ночи, таскать камни, долбить ломом породу. Пустота под ребрами – вечный спутник. Надсмотрщики – охранники с плетками и овчарками, рвущимися с поводков. И свои палачи – капо в черных куртках с повязками, с пустыми, жестокими глазами – уголовники и предатели. Били за все: за медлительность, за кашель, за взгляд. Смерть – обыденность. От камня, от пули, от тифа, от голода. Тела выносили на рассвете.
Здесь Павел нашел братьев по несчастью. Один из них, Андрей (номер 11482), был щуплый паренек с огромными умными глазами. Говорил тихо, прерываясь на кашель. «Из Киева… Уманский котел. Август…» – шептал он о синем Днепре, каштанах на Крещатике, запахе книг в библиотеке. Его слова – слабый огонек в ледяном бараке.
Другой, Григорий (номер 11491) – наоборот, крепкий, как дуб, мужик лет сорока. Его лицо было изрезано морщинами и угольной пылью Донбасса. «Вязьма. Октябрь…» Его руки, мощные и исковерканные, таскали глыбы. Делился последней крохой с ослабевшим Андреем. Вечерами его хриплый шепот нес по бараку частушки – то похабные, то лиричные, едва слышно, для соседей в темноте.
Они делились теплом на нарах, редкими тихими словами, молчаливой поддержкой взглядом. Тяжелая зима 1942-го, добила Андрея. Кашель стал надсадным воем. Пыль въелась в легкие. Его били за слабость. Павел и Гриша тащили его под руки, подставляли спины под удары капо. Напрасно. В морозную февральскую ночь Андрей перестал дышать. Легкое тело вынесли на рассвете, бросили в серую кучу у ворот. Номер 11482 исчез. Что-то хрупкое сломалось у Павла внутри, оставив ледяную пустоту.
Такая однообразно тяжелая лагерная жизнь тянулась день за днем, месяц за месяцем. Прошла весна, затем – жаркое лето, дождливая осень. Закончился 1942 год, наступил точно такой же 1943. Взамен умерших заключенных привозили новых – Павел настолько привык к чужим смертям, что старался даже не сближаться со вновь прибывшими пленниками. Единственным его лагерным товарищем оставался Гриша.
Однажды в конце весны Гриша, чистя котлы с кухонными отходами, нащупал в густой вонючей жиже что-то твердое. Маленькую, сморщенную, грязную картофелину. Шанс хоть немного перебить голод. Сунул за пазуху.
Раздался хриплый рык за спиной:
Капо по кличке Борщ, огромный, с лицом пса, бывший старшина-красноармеец, переметнувшийся к немцам в первые месяцы плена. Его немецкая фуражка сидела криво на крупной голове. Он схватил Гришу за ворот куртки с «SU», вырвав пуговицу.
Гриша попытался сунуть картофелину в рот. Борщ ударил его кулаком под дых. Гриша согнулся, картофелина выпала, покатилась по грязи. Борщ поднял ее, плюнул и швырнул под ноги. Началось избиение. Он бил Гришу кулаками по спине, ребрам, лицу. Потом он выхватил короткую, толстую резиновую плеть. Хлюпающие удары обрушились на плечи, спину, голову. Гриша падал, вставал на колени, кровь заливала лицо.
Борщ, видя, что Гриша держится, отшвырнул плеть. Достал тяжелую дубинку. Замахнулся, ударил с глухим стуком по затылку. Гриша дернулся, затем рухнул плашмя и затих.
Борщ вытер дубинку о штанину, пнул тело.
– Убрать мусор! – рявкнул он двум другим капо, наблюдавшим за расправой.
Тело Григория Бойко, шахтера из Донбасса, номер 11491, поволокли к куче хлама за лагерем. Павел остался один. Внутри – абсолютная, всепоглощающая тишина. Холодная и бездонная. Он поднял глаза. Над вышкой тускло мерцала первая звезда. Мама... Мишка... Смоленские леса... Он посмотрел на черные рубцы 11467. Передышка кончилась. Андрей умер от тяжести плена. Гришу убили за картофелину. Он был пуст. Выживание стало механикой тела. Любая связь – смертный приговор для того, кого впустил в душу.
Однажды августовским днем Павла, как еще физически державшегося, погрузили в грузовики с несколькими десятками других таких же пленных. Он шел покорно. Куда? Безразлично. Каменоломня, ров, печь, – какая разница?
Моторы грузовиков рычали, наполняя кузов едким чадом от дешевого топлива. Павел прижался спиной к холодному металлу борта. Вокруг – напряженное молчание, сдавленный кашель. В лагере, после гибели Гриши, слухи о том, что «отбраковку» везут на ликвидацию – в спецлагеря или рвы – казались не слухами, а откровением. Павел вспомнил дулаг, штабеля трупов. «Вот так и нас... Гриша хоть быстро...» – мелькнуло с ледяным безразличием. Он провел пальцами по шрамам 11467. «Где-то будет и мое место».
Грузовики остановились в холмистой местности километрах в пятидесяти от прежнего лагеря. Раскинулась гигантская, изрытая стройплощадка. Глубокие котлованы зияли черными провалами в земле. Воздух был пропитан цементной пылью, запахом металлической окалины и чадом от работавшей неподалеку тяжелой техники. Гул компрессоров, лязг лопат, гортанные крики – новый гимн страдания.
Конвоиры вытолкнули пленных. Павел спрыгнул на рыхлую землю, ощутив под ногами лишь тяжелую пустоту. Он оглядел новое поле битвы за никчемное существование: тачки, лопаты, щебень, одинокие фигуры в робах с «SU», копошащиеся в ямах под взглядами часовых с вышек. Ничего знакомого. Ничего родного. Только серая чужая земля. «Рой, пока не сдохнешь…»
– Los! Schnell! – Павел получил удар конвоира в спину.
Павел двинулся вперед в толпе теней. Он был номер 11467. Он был пустота в форме человека. Он был один. У него не осталось привязанности, но больше ничего и не тяготило. Впереди зиял темный вход в котлован. Он шагнул в него, растворяясь в мрачной тени.