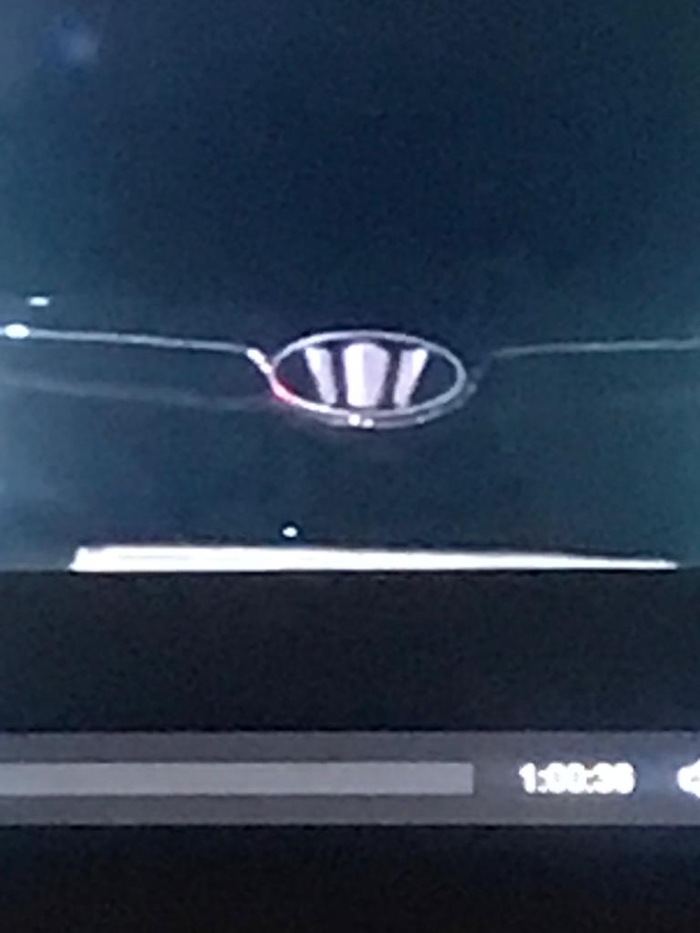«Россия вступила в кампанию 1917 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древний Ирод, пожираемая червями»,
Черчилль.
В последнее время наблюдается малопочтенная тенденция. История искажается, превращаясь из науки в агитационный плакат. Каждая из сторон печатает свою версию. Вполне понятна и объяснима боль людей, всем сердцем любящих Россию, о том, что Империя, принесшая колоссальные жертвы в Первую Мировую войну, так ничего и не получила. Но это не повод искажать факты.
1916-17 года стали эпохой расцвета в российской военной промышленности. Армия, так жестоко страдавшая от «снарядного голода», имевшая большие проблемы с поставкой даже винтовок, оказалась насыщена нужным количеством снаряжения. Но возникла совершенно иная проблема. Сейчас можно, вооружившись послезнанием, закидать шапками царских генералов, которые в советской литературе представлены как редкостные тупицы, за то, что они не предвидели такое развитие событий. Но в таком случае шапок просто не хватит, потому что закидывать придется также Генеральные штабы всех стран-участниц Первой Мировой.
Первая Мировая предполагалась не как первая и не как мировая, а как небольшой конфликт, который затянется на 3-4 месяца. Быстро повоевали, добились результата – и по домам. Тогда никто не мог предвидеть, что война растянется на несколько лет, и потребуется мобилизовать миллионы резервистов.
Россия при всем своем многолюдстве оказалась в парадоксальной ситуации: людей много, а призывать под знамена просто некого. К сожалению, энное количество людей плюс энное количество снаряжения еще не означает готовую к бою воинскую часть.
Резервисты, которые призываются в армию в случае начала военных действий, разделены на определенные разряды. Первый разряд был вычерпан еще в 1914 году. В 15-16 шли уже ратники второй очереди. Переводя на понятный язык, это мужики крепко за 50, которые в свое время служили в совершенно другой армии и были знакомы с совершенно другим типом снаряжения. В силу возраста они были изрядно обделены здоровьем, и практически все были семейными.
Оторванные от семей, привычного хозяйствования, они отнюдь не желали сражаться. Стоит также учитывать другие факторы. Во-первых, Российская Империя была государством религиозным (официальная религия – православие). А, значит, все иноверцы по идее не должны были подлежать призыву в армию. Отдельные попытки создания на базе кавказской милиции таких подразделений, как Дикая дивизия, имели ситуативный характер и ничего не решали в общем положении дел.
Во-вторых, по закону Российской Империи, семьи, в которых был только один сын, избавлялись от призыва. В-третьих, в ходе великого отступления был потерян ряд территорий, которые также оказались для призыва автоматически недоступны.
Если прибавить к этому колоссальные потери, которые Россия понесла из-за неудачного наступления в начале войны, плюс безнадежно раненые и комиссованные, плюс порядка 3 млн человек, которые находились в плену, ситуация складывалась далеко не радужная.
У Российской Империи были уже, наконец, винтовки, артиллерийские орудия, снаряды, бронеавтомобили и аэропланы, но не было людей. Особенно катастрофическая ситуация складывалась в отношении офицерского корпуса. Офицеры РИА – это премиальный продукт, полный цикл обучения занимал годы, которых в условиях военного времени, разумеется, не было. Армия испытывала острый кадровый голод еще в 15 году. В 16-17 году ситуация стала катастрофической. Постоянная подпитка воинских частей за счет прапорщиков – вчерашних студентов, прошедших краткий курс обучения – проблему не решала.
Чтобы не быть голословным, приложу источник из современников тех событий: С.К. Добророльский, Н.А. Таленский, генералы П.И. Аверьянов и Д.С. Шуваев. Список при желании можно продолжить, вся информация есть в открытом доступе.