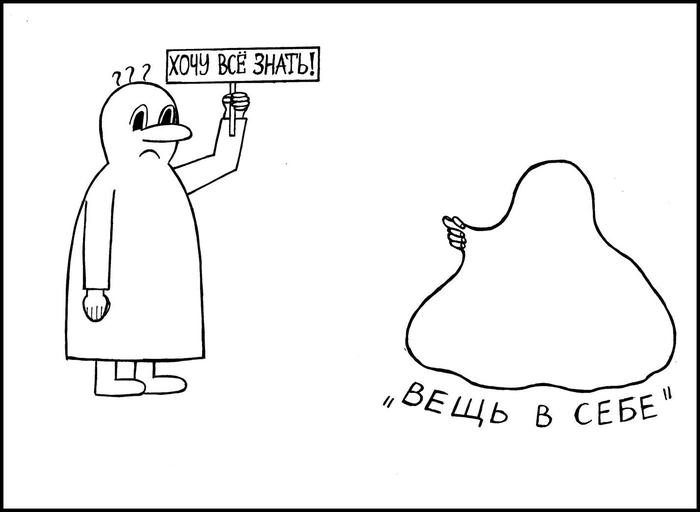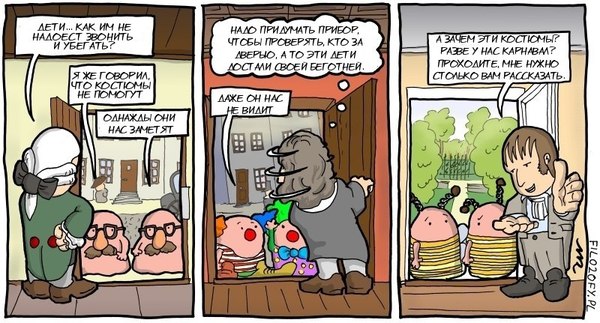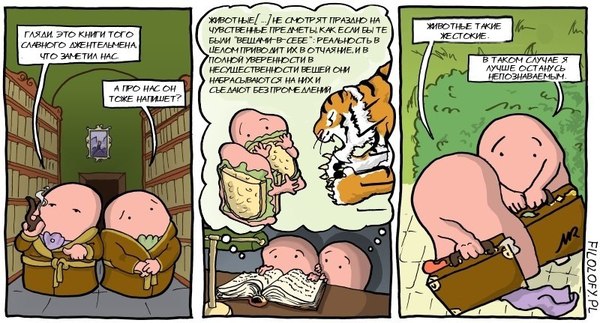"И в зеркало глядеться, как фонарь глядится в высыхающую лужу" (история про забор вокруг заброшенного недостроя)
Название по эпиграфу. // ©_2009
… И в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу…
И.А. Бродский
Высотное бетонное здание. Без оконных рам, лишь прямоугольные отверстия пронизывающие почти всё его тело. Только конструкция – довольно мощный скелет здания. Рядом небольшой зелёный ухоженный луг, прерывающийся асфальтовыми венами, по которым спешат автомобили, пешеходы, тени. Вот, где я живу. Вот то немногое, что я вижу каждый день своей жизни. Я – забор. Я охраняю это, нависшее над зелёным уютным городом серое здание. Моё деревянное тело не выглядит внушающим страх, однако я пытаюсь делать хорошо свою работу. Здание когда-то начали строить, но позже либо передумали, либо средств не хватило, либо так всё было и задумано, в конце концов, оно осталось недостроенным, серым, голым и совершенно пустым. Когда оно воздвигалось, его охранял другой забор. В то время как его убивали, я ещё по частям лежал на пилораме и не успел его ни о чём расспросить. Но я видел его однажды здесь, проезжал мимо и видел: цельное деревянное массивное тело, а главное он был намного выше меня. Для заборов малый рост это сущее наказание, позор. Здание совершенно голое и пустое. Я долго думал и, кажется, понял, почему людей тянет сюда: они почему-то ужасно боятся этой пустоты и хотят, видимо, её заполнить, пусть даже и собой. И это желание у них порой доходит до безумия. Иначе к чему тогда так яростно выламывать мне рёбра, пытаясь пролезть сквозь меня в здание. Мне очень больно в такие моменты. Так уж мы устроены: даже, если бы здание было бы никому не нужно, а забор просто забыли бы снести, он будет изо всех сил стремиться защитить свой объект. Если ты мал ростом, ты, следовательно, будешь плохо справляться с порученным судьбою тебе заданием. Пусть даже быть выше не в твоих силах, ты будешь винить себя. Я – забор невысокого роста, людям не составило бы труда перелезть через меня, но они, руководствуясь непонятным мне чувством, раздвигают мне рёбра, расширяют во мне щели и пролазят в них. Когда я ещё был молод (не то чтобы я сейчас слишком стар, просто у заборов молодость это период от пилорамы до назначения на работу плюс время до первого перелезшего через него), я удивлялся одной вещи: видев предыдущий забор, я не заметил в его теле ни одной щели, все ходили только через калитку, а он был так самодоволен, так величав, он так гордился собой, тем, что выполняет свою работу на отлично. Я позже понял, что заборы, работающие во время стройки, живут намного меньше, чем такие, как я, они быстро умирают, но умирают счастливыми. Люди боятся пролазить через такие заборы, наверное, потому, что за что-то их уважают, и проходят всегда через калитку. О, у него были настоящие врата, так гордо поглощающие огромные машины, множество людей, стаи скромных теней, а у меня всего лишь маленькая калиточка. На ней почти всегда висит большой ржавый замок. Он редко бывает открытым, но даже в эти торжественные для меня моменты, когда я со всем возможным гостеприимством приглашаю пройти в калитку, люди пролазят сквозь рёбра, ломая их и бросая гнить на зелёном цветущем лугу. Наверное, они получают некоторое удовольствие при этом. А мне больно, мне очень больно. Я стискиваю, заостряю зубья, но это не поможет: они ведь, люди, не перелазят через верх. Что я могу сделать? Если здание не таит в себе ничего, не строится и даже не поддерживается в порядке, что только портит облик этой улицы, зачем тогда меня сюда поставили? Видимо, я скоро свалюсь. Сам. Потому что заборы устроены так, что чем бы не являлось, в каком бы состоянии не находилось то, вокруг чего обвились их тела, они всегда знают своё дело, они никогда не жалуются на то, что охраняют, оно для них священно, они не задают таких вопросов. Мы так устроены. А если мне в голову пришли такие мысли, то, наверняка, мне уже недолго осталось терпеть эту боль… Что людей так манит в этом здании? Пусть бы стояло себе спокойно, а я, пусть просто на всего забытый, но был бы счастлив…
А ведь много и довольно интересного хватает в моей жизни. Я стою у пешеходной асфальтовой тропы. Лично я горжусь, что знаю асфальт, вижу его так близко, наблюдаю за его жизнью. Мне с ним даже удалось однажды поговорить. О, какая это была удача! Он не молчалив, просто ему хватает собеседников. Он очень много слушает. Люди проходят по нему и говорят о чём-нибудь, а он всё слышит. Слышит и запоминает. Он на удивление умён. Люди редко задерживаются на нём надолго. Асфальт не обижается, он ещё успеет дослушать: дорога ведь бежит дальше, и людей пробегает за день довольно много, и все мимо меня. О, как же я мечтал, чтобы они, почти всегда озабоченные чем-то, спешащие, сами, наверное, не зная куда, хмурые, остановились хотя бы на минуту и взглянули на меня, оценили сложность, своеобразность моей работы, пусть и не всегда мною успешно выполняемой, подтвердили бы этой священной паузой в бешеном деловороте их жизней важность моего существования, необходимость выполнения моей задачи, подтвердили бы мне, что я ещё жив… Но нет… Они спешат и не замечают меня. Иногда встречаются на дороге и радостные люди, они улыбаются («это значит им хорошо, как если бы, допустим, ты был высоким и неприступным, оттого и нужным, или как я был бы ровный гладкий тёплый, без трещин и обязательно ощущающим тысячи стоп на себе каждый день» – объяснил мне однажды асфальт); когда же такие люди проходят, их брови сгущаются, они почему-то изменяются, задерживают на мне взгляд лишь несколько секунд, я думаю, что вот наконец-то…, но как тут же они ускоряют шаг и проходят, отвернувшись, мимо. Позже я понял, как был глуп, когда радовался, пытался помочь, впитывая всю краску в себя, в то время как какие-то люди рисовали что-то на моей шершавой коже. Я думал, что стану привлекательнее и вместе с тем серьёзнее и мои рёбра оставят в покое. Я видел такие: окрашенные, стройные, деловито поблёскивающие на солнце, люди ими восхищаются. Лично мне больше нравится натуральный цвет: сплетенье кривых коричневых дуг, извивающиеся полосы, а главное запах дерева. Он теряется после покраски. Я не был окрашен, но так мне было не найти собеседников, настоящих ценителей или хотя бы тех, кто меня бы заметил. В тот день я проснулся, почувствовав, как что-то прохладное покрывает моё тело. О, этот запах! Его я запомнил навсегда: едкий и мерзкий, но зато дарящий так много надежды. Это было незабываемое, впервые испытанное чувство: ты покрываешься краской. О, как я был рад! И только намного позже асфальт объяснил мне, в чём дело, и мне стало ещё хуже. Теперь, когда я ловил на себе эти взгляды, я уже не старался как-то заявить о себе, не радовался этим паузам, не радовался – мне было стыдно. Я знал причину этого внимания, я понимал, что теперь, отчасти, сам становился причиной этой спешки, этого выражения лица. Это чувство… оно разъедало меня. Когда однажды вечером какие-то люди снова попытались нарисовать что-то на мне, я всеми силами старался не впитывать краску. Но они были беспощадны: всё новый и новый слой покрывал моё тело, очередным поводом к серой спешке прохожих…
Большая удача, если мне удаётся побеседовать с асфальтом. Он так много знает. Я всегда удивлялся, как ему не больно, когда на него наступает так много людей. «…Когда я чувствую на себе стопу, я переживаю, вероятно, такое же чувство, когда тебе входят только через калитку, когда ты в силах охранять своё здание: ощущение, что ты нужен, что твоя работа полезна и незаменима. Самое страшное для асфальта быть проложенным там, где по нему никто не ходит. О, странные люди! Это бывает не только в заброшенных аллеях, но и на оживленных городских улицах. Люди почему-то протаптывают тропинки на лугу, траве, клумбах, а асфальт так и умирает весь в трещинах, не изведав удовлетворённой жажды знания, удовольствия ощущения наступающих стоп…
Я думаю, я понял, почему так происходит: люди всегда очень спешат и потому ищут ближайших кротчайших путей, даже если вся их дорога имеет конечную точку – пропасть. Они безумны, но от них можно узнать многое о том, что нас окружает, и о том, чего нам не судьба увидеть. Например, есть такое место, где нет ни асфальтовых дорог, ни машин, ни заборов, и даже людей там очень редко увидишь. Всё вокруг песок, на дальние расстояния от тебя, лишь ветер забавится с песком, кружа, поднимая, бросая, унося его на всём пространстве, которое, похоже, и в самом деле принадлежит ему одному. Место это зовут Пустыней…
…Страшно бывает и тогда, когда асфальт начинает болеть: трещины; трещины – это так же, по-моему, как удар топором по твоему телу, только с той разницей, что удар этот быстрый, трещина же рубит очень долго и очень глубоко. Оттого, по-моему, это больней. Ты становишься грубым, неказистым, горбатым. Причём, когда на горб наступают, ты уже не чувствуешь удовольствия, а ещё более невыносимую боль. От этой боли сходишь с ума. И стремишься, чтобы люди спотыкались, падали, с тем, чтобы поняли, как тебе плохо сейчас. А потом они быстро встают и ещё скорее убегают прочь. И становится жаль. Жаль того, что сделал. Жаль их. Жаль и стыдно за себя. И всё так же больно…
…А ещё люди знают одно уникальное создание. Представь себе: вода, очень много воды. Ты ведь знаешь, что такое вода, и… – О, да, это самое нежное и нужное, что я знал, когда был деревом. Сейчас же она мочит меня, и мне зябко, она родит во мне паразитов. Она это, конечно, не со зла. Я знаю. – Так вот, представь, настолько много воды, что земли не видно, она так глубоко, что на ней не прокладывают асфальта, не ставят заборов, потому что охранять там нечего и люди там не ходят, а только плавают в воде. Но это водное пространство имеет границы, вокруг него, конечно же, есть земля. Её называют берегом, он может быть разным: из песка, камней и даже асфальта. Так вот, от одного берега до противоположного величественной дугой над широкой водной гладью стоит на толстых бетонных ногах, опирающихся на лежащую на неимоверной глубине землю, он. Люди зовут его Мостом. О, это, вероятно, захватывающее зрелище! На дуге, этой бетонной конструкции, проложен асфальт. Это один из самых лучших асфальтов. На нём очень долго не появляются трещины, а если и так, то их быстро исправляют. Он силён, его мощь и величие внушает твёрдую как он сам уверенность людям. А вдоль асфальтовой дороги с двух сторон стоит забор. Он тоже очень мощный и стойкий. Он, в отличие от таких заборов как ты, защищает тех, кто идёт или проезжает по дороге, защищает именно проходящих мимо. Иначе они могли бы упасть в воду. А ты лишь охраняешь, всю жизнь с вдолбленной в тебя мыслью: что бы ты ни охранял, всё священно важно. Не обижайся, это тоже необходимо в некоторой мере, но люди очень ценят именно те асфальт и забор… Ты только представь, какая жизнь у Моста! Без него очень немногие могут обойтись. Он всегда, и днём и ночью, и в жару и в стужу, знает, что он нужен, и он, наверняка, счастлив. И живёт он намного больше, чем ты и я вместе взятые. Но… нам с тобой, по всей видимости, не удастся пообщаться с Мостами. Ах, сколько бы можно было узнать от них!..
…Но, даже когда ты весь в трещинах, люди помогают. Они их разбивают немного и заливают новым асфальтом или смолой. Когда-то давно я думал, что должно быть стыдно асфальту, так вылечившемуся, покрытому теперь тёмными пятнами. Ведь люди видят эти пятна и понимают, что ты уже не так уж и молод, здоров, раз тебя латали. Но люди всё же с большой охотой ходят по отремонтированному асфальту. Им, похоже, нравятся эти черные, блестящие на солнце пятна. Конечно, не так, как новый асфальт, но намного больше потресковавшегося. Это как если бы тебе заменили твои искалеченные рёбра новыми. Прохожие бы видели, что был ремонт, а значит и болезнь имела место, но всё-таки будут рады замене, будут рады такому забору. Ты получаешь будто новую жизнь. И снова готов самоотверженно выполнять свою работу … До конца…
А ещё люди умеют… »
Он говорил тогда очень долго, и я не останавливал его и старался не перебивать. Последнее было сложнее, ведь он так много знал, а я путался даже в мелочах, но боялся испортить рассказ и потому запоминал вопрос, а в конце они лились водопадом, и мудрый асфальт отвечал. Всё отвечал, отвечал и незаметно начинал новый рассказ, и я вместе с ним уносился, отдавшись власти представлений. Он говорил долго и увлекательно. В ту ночь шёл сильный дождь, и никто не проходил по асфальту, никто не проходил и мимо меня. Дождь был странной силы, я давно таких не чувствовал, он будто за что-то мстил либо земле, либо людям, либо еле заметным в сумраке теням… Никто не проходил по асфальту, никто не проходил и мимо меня. Асфальт всё-таки оставил свой страх пропустить что-то, не услышать, вероятно, наконец, поняв, что в эту ночь слушать будет точно не он, а ему самому придется выступить в роли рассказчика. И он заговорил со мной. Мне нравилось, как он рассказывал. Он многое знал, но не хвастал этим, не с тоном всезнающего мастера поучающего бездарного ученика, без капли тщеславия, он рассказывал мне о жизни, обо всём том, что я, быть может, никогда и не увижу, и о том, что было всё время у меня под ногами, но чего я не замечал ранее. Он рассказывал как мудрый друг, просто, будто делящийся опытом с младшим братом. Мне всегда нравилось и лучше понималась суть, когда он приводил примеры, стараясь перевести предмет разговора на мой взгляд. У него почти всегда получалось описать что-то, какое-то переживание или вещь, с моей точки зрения, и это было захватывающе. Ему, очевидно, самому нравилось просто и откровенно делиться обо всём узнанном, просто делиться. Он, казалось, заново переживал все чувства, связанные с этими событиями… Вот так мы болтали всю ночь. А утром он снова упился слушанием, и я понял, что не скоро смогу ещё с ним побеседовать, что у меня теперь много времени поразмыслить над всем услышанным, за что я и принялся. Через минуту я уже спал…
…Несколько недель спустя, изрядно уставший и заснувший пятью часами ранее, я внезапно очнулся от ужасной невыносимой боли. Рёбра уже не расшатывались кем-то как раньше, а просто наживо ломались, крошились, разлетаясь щепками в ночной мгле. Но тут раздался чей-то грозный крик, и несколько человеческих теней разбежались в густые объятия города и растворились там же. А рёбра, опилками, щепками, выли во мне. Я взглянул на больное место, в ожидании худшего, и смог лишь различить силуэты какой-то огромной железной коробки, на половину ввалившейся в меня, как бы застигнутая врасплох, и не зная, куда же ей теперь идти, будто стесняясь и воровато осматриваясь, она застыла в ожидании, то ли своих провожатых, то ли моего падения. Её пытались пропихнуть сквозь меня. Для чего?.. Таких больших щелей во мне ещё никогда не было. Теперь все, кто хотел, могли свободно пройти, не причиняя мне никакой физической боли, но то, что я чувствовал в эти моменты, было в тысячи раз больней и невыносимей…
Я так и не смог заснуть последние несколько месяцев, моих последних месяцев. Я всё думал, думал. Люди так много умеют, видят за свою жизнь столько прекрасного и удивительного, ужасного и странного, знают столько необычных, по-своему красивых мест, но их неумолимо тянет к тому, что доживает свой век за забором, пусть даже совершенно пустому, холодному, бетонному скелету. Что за странное неудержимое желание заполнить собой любое пустое место, оставить после себя след абсолютно везде и во всех, пусть даже это будут их старческие испражнения?..
…Какое же счастье было бы стоять где-нибудь в пустыне, среди бескрайних песочных полей, наблюдать за забавами ветра и постепенно медленно выгорать, чувствуя огненные, но в то же время нежные ладошки солнца на своих щеках, невозвратимо высыхать, но счастливым. Один на тысячи километров вокруг, совершенно один… Один настолько, что само моё существование там теряет смысл, но зато какое приобретает удовлетворение, какой покой... Совершенный покой, безусловное счастье…
«…А ещё люди умеют смеяться. Их много…»
«…А ещё люди умеют любить. Таких меньше…»
«…А ещё люди умеют быть…одинокими. Их вовсе почти уже нет…»
P.S. Четвёртый день на удивление сонным улицам не был дождливым. Ветер, видимо, уставший трепать уже высохшие листья, пытался поднять в воздух те, что так спокойно, будто чувствуя себя в безопасности, лежали красно-жёлтыми поцелуями в тёмных неглубоких лужах, и после нескольких неудачных попыток снова принимался за старое… А он всё молчаливо светил, каждые полторы минуты то погасая, то вновь открывая глаза, будто подмигивая мокрым озябшим листьям, охваченным желанием летать и ветром, но спустя несколько секунд падающим на сырую холодную землю и понемногу замерзающим, в отличие от тех, кому посчастливилось опуститься на тёплую упругую гладь воды. В этом свете различалось уже почти чёрное от дождей бетонное пустое здание, становились заметными черты асфальта, безучастно проглядывающего из-за разноцветного полотна, в основном в лужах. Он светил и знал, что асфальт уже почти весь изуродован широкими трещинами, но не выдавал его: они ведь почти все были скрыты от глаз нежными ладонями листьев. Уже различались отсыревшие обломки старого, успевшего сгнить забора. Казалось, он простоял здесь вечность, и только он знал, что всё это заняло не больше четверти года. Он всегда здесь был. Он всё слышал и видел. Он знал их, знал и светил. И он их пережил. И теперь он смотрит в неуклюже расположившиеся лужи, где обнажённый асфальт уже не стыдился своих трещин, в которых еле заметны застрявшие щепки того забора, когда-то стоявшего рядом, а на водной глади медленно движутся ладони осени, будто гладя каждого из них, будто жалея… Никто больше не пройдёт этой дорогой… А он всё светит. Он, этот высокий, слегка наклонившийся ржавый Фонарь… И, похоже, только эта серая холодная бетонная глыба выдаёт свою радость, чуть заметной улыбкой карниза…
©_2009