Тринадцатая дивизия
29 июля. Местечко Берловка
Мой покойный отец был хасидом. Он говорил, если ешь рыбу в Шаббат — совершаешь особую святость. Сегодня Шаббат и девятое ава, день траура для всего моего племени, а я жгу костры с казаками, чтобы зажарить свинью.
Красные даже не подозревают, с кем имеют дело. Для них я — Семён Алексеевич Ветров, военный корреспондент из Москвы.
И горько, и радостно видеть вдалеке от родной Одессы еврейские лица. Как они кричат, как сопротивляются в это девятое ава, когда казаки и пьяная солдатня заставляют их стряпать, стирать и чинить одежду.
Кругом выстрелы, кругом грабят, разоряя и без того небогатое хозяйство. Невероятное человеческое свинство! Но это война, а я сам вызвался быть её летописцем, я сам пошёл поддерживать тех, кто отвернулся от Б-га!
1 августа. Броды, Львовщина
В ставке командования меня принял сам Тухачевский! Сказал — «Хорошо, что ты рыжий, проще за русского сходишь». Оказалось, что он следил за мной ещё с Киевской операции. И боязно, и в то же время трепетно, когда фигура такого масштаба наблюдает твою работу!
Увы: в авангарде Львовского направления мне нет места. Офицеры, что приглядывали за мной всё это время, доложили, что в седле я держусь плохо и стрелять не люблю. Дескать, мешаться буду. Меня решили приписать к тринадцатой дивизии нашей первой конной. Однако ж я помню наизусть все оперативные объединения: нет никакой тринадцатой дивизии. Чую, хотят от меня избавляться. Вопрос один: на каторгу или домой?
10 августа. Стоянка 1-й конной армии РККА, 15 километров от Львова
Конармейцы собираются форсировать Западный Буг, отбивать у поляков важнейшие подступи к Львову. Я целыми днями слоняюсь без дела, ем и сплю.
Здесь крайне мало образованных. Люди простые, озлобленные войной, но в целом добродушные.
Вечером приезжает человек в чёрной шинели. Офицеры говорят, что это за мной. Мне дают паршивую рыжую кобылу, воды и еды в дорогу. Мой попутчик молчит, у него нет знаков различия. Типичное еврейское лицо: мясистые губы, длинный носище и чёрная окладистая борода. Совершенно не хочется думать, чем этот человек полезен красным; от тяжёлого взгляда его льдистых глаз становится неуютно.
Все мои вопросы чёрный человек игнорирует. Мы едем, пересекая мелкие речушки, минуем разорённые деревни. Стараюсь думать, что это чужие люди, стараюсь списать всё на войну. Но мой глубоко верующий отец зачем-то научил меня состраданию. Жаль, что сейчас нельзя выключить это бесполезное чувство.
12 августа. Львовщина, в пути
Мы объезжаем стороной все населённые пункты. Мой провожатый продолжает молчать. Я человек болтливый, мне бы хоть словечком перекинуться, но я побаиваюсь этого угрюмого бородача. В короткие остановки и во время ночлега украдкой смотрю на его лицо. В душе начинает бурлить всё национальное; хочется заговорить по-еврейски, но нельзя: теперь я русский.
На третий день пути он всё-таки соизволил ответить на мои вопросы. Говорит, что тринадцатая дивизия никакая не выдумка, что заняты они диверсиями и подрывом боевого духа поляков. На этом вся «словоохотливость» закончилась.
Садимся ужинать. От перловки с солониной уже тошнит.
15 августа. Местечко Шаломово
Мы добрались до местечка ближе к вечеру. Здесь лагерем встали белые, три – четыре человека. Мой провожатый смотрит в бинокль, говорит, что рядовые и один унтер-офицер. Должно быть, отбились от своих.
Ещё до прихода белых кто-то разорил местечко; я очень надеюсь, что местные (по крайней мере, большая их часть) сами снялись с места и ушли. Люди жили здесь в мазанках (по малоросской традиции), на белых стенах местами видны кровавые пятна: была бойня.
Мой провожатый приказывает оставаться на месте. У меня нет оружия, он оставляет мне винтовку, а сам идёт на врага с револьвером. Отчаянный человек!
Я с холма наблюдаю, как хищной тенью этот еврей (а он еврей вне всяких сомнений) крадётся мимо своих врагов. Вот — одного он утащил в тень и перерезал глотку, вот — он входит на террасу одного из домов и тремя меткими выстрелами кончает неприятеля.
Пока я следил за своим провожатым, меня самого чуть не порешили: тяжёлая нога опустилась на спину, и я выпустил из лёгких весь воздух. Каким-то чудом удалось подсечь противника ремнём винтовки, а как поднялся на ноги и заколол падлу штыком — уже и не вспомню. Я не привык убивать: при наступлении на Киев я старался стрелять поверх голов, убийство мне противно. Но тут вопрос жизни и смерти. Ещё один рядовой, ещё один мёртвый белоармеец.
Мой провожатый вернулся. В руках у него отрезанное ухо и погоны. Говорит, что в штабе ему за убитого унтер-офицера дадут рубль с полтиной. Евреи марают руки в крови… Б-же, за что ты шлёшь нам такие испытания?
16 августа. Местечко Шаломово
Мы остановились здесь же, в этом разорённом местечке. Для ночёвки выбрали один из домов: осталось много вещей, мебели. Видно, что люди в спешке покидали насиженные места. Проверили каждый угол этого Шаломово: следов других белых нет. Я всё боюсь, что на шум стрельбы всё-таки придут, но мой провожатый говорит — исключено: сейчас остатки белых и поляки бьются с красноармейцами за подступи к Львову, и нам очень «повезло» встретить здесь даже эту жалкую горсточку. Хочется верить.
Изучили закрома: едим варёную картошку с квашеной капустой и пьём неплохой кофе. Кажется, жизнь налаживается.
18 августа. Местечко Шаломово
Провожатый говорит, что дивизия появится со дня на день. Поскорее бы уже! Моё перо истосковалось по настоящей работе! Я только и делаю, что мараю бумагу и праздно шатаюсь. Однако же здесь жутко… По ночам я не могу уснуть от завывания ветра в печной трубе, от стука ставней брошенных домов. Сон, если и случается, то только неглубокий; меня пугают внезапные шорохи и мышиная возня. Даже эта проклятая война не отучила меня бояться смерти и мертвецов.
20 августа. Местечко Шаломово
Они приехали до рассвета. Я ожидал увидеть по меньшей мере две тысячи всадников, но их было от силы три сотни. Но видит Б-г, эти три сотни страшнее целой армии. Я понял, что дело неладно, когда подул ветер: тёплые порывы донесли до ноздрей смрад разложения. Я сглотнул; подступающую тошноту было почти невозможно сдерживать. Ноги предательски тряслись, неуверенными шагами я двинулся навстречу этим таинственным воинам. Если я не сошёл с ума, то как такое возможно? Когда лошадь ближайшего ко мне всадника подошла ближе, сквозь дыру в её боку я увидел просвет рёбер, увидел багровый свет, отражающийся в смолянисто блестящих кишках. Меня всё-таки вырвало, но я продолжал завороженно шагать, пока лошадиная морда не оказалась напротив моего лица. Зверюга даже не пряла ушами, как это обычно бывает, не махала хвостом, глаза её были мутные и неподвижные. Взгляд сам собою устремился на всадника. Надо мной возвышался мертвец: из-под будёновки на лбу виднелись хвостики еврейских букв, но я не мог различить каких именно. Лицо несчастного местами было обтёсано до кости; правый глаз вытек, на месте правой щеки зияла дыра. Прямо на лицо обычной плотницкой краской ему нанесли номер — 13/42.
Я чувствовал дурноту, земля проваливалась под ногами, но всё ж я переборол это нехорошее чувство. «Что ты такое?» — спросил я этого чудовищного всадника. «Единица тринадцать дробь сорок два, государственная собственность, переданная в безвозмездное владение первой конной армии», — ответило чудовище. Но эту же строчку, вываренную где-то на подкорке его мёртвых мозгов, он повторял снова и снова, стоило задать любой другой вопрос «Единица тринадцать дробь сорок два…»
Я терял сознание. Краем глаза успел заметить, как из-за крупов мёртвых лошадей выходят три чёрные фигуры.
Очнулся уже в доме. Надо мной нависло носатое лицо неразговорчивого провожатого. Льдистые его глаза изучали меня, маленького, такого беззащитного в этот момент; так коршун смотрел бы на мышь.
«Очнулся!» — крикнул он кому-то.
Из-за печи вышли три человека. Три низкорослых щуплых еврея в пыльных лапсердаках и видавших виды шляпах. Были они разного возраста: одному едва за сорок, второму около шестидесяти, третий и вовсе дряхлый старик. Я отшатнулся: та же селёдочная муть в глазах, что у дохлых лошадей и жутких всадников. Мёртвые? Да вроде бы нет… От них пахнет дорогой: пыль, пот, сапожная вонь немытых ног.
Самый старый из них неожиданно сильным голосом сказал, что они займут соседний дом, что «имущество» охраняет периметр и бояться нечего. Говорит, что в курсе о том, что я военный корреспондент, но все ответы завтра. А мне не хочется этих ответов, и почему-то не хочется, чтобы они узнали о том, что мы с ними одного племени…
21 августа. Местечко Шаломово
Мой провожатый собирался впопыхах, всё говорил, что соседство с этой жуткой троицей приносит несчастья. На прощание он и мне посоветовал убираться как можно скорее. Дескать, нечего якшаться с проклятыми.
Он ускакал ещё днём, и я был доволен, что знакомство моё с этими людьми (а людьми ли?) состоится при солнечном свете.
Я вышел из дома и чуть было снова не сблевал от омерзительного смрада: мёртвые, кругом одни мёртвые. Мёртвые люди и мёртвые лошади посреди мёртвого местечка.
Троицу я нашел довольно скоро: они удобно разместились на завалинке одного из домов, покуривая махорку. Мы поздоровались, и меня снова бросило в дрожь от взглядов этих неживых глаз.
Я представился Семёном, сказал, что я военный корреспондент из Москвы. Они представились в ответ: младший был Абрам, средний назвался Бенционом, старшего звали Элиэсер. Они местные, из польских евреев. Перед войной им крепко досталось, каждый лишился семьи и дома! Для поляков устроить погром — обычное дело. Но советская власть тут как тут! Красные пообещали им лучшее, что могли пообещать: месть.
«Для своих мы давно мертвецы, — говорил Элиэсер грудным басом. — Видал всадников? Так это големы. И лошади, и люди. Оно что оживлять неживое, что воскрешать мёртвое: всё один труд».
Старик все продолжал болтать как заведённый; он удивительно хорошо говорил по-русски. Многое из разговора я упустил, но отчётливо помню, что все трое были раввинами, и что каждый из них провёл по себе Пульса де Нура. Оно равносильно суициду, вот только с этим ритуалом умирает ещё и душа. Теперь Б-г отвернулся от них, они больше не ходят под шхиной, и я не хочу знать, какая такая сила даёт им власть над смертью.
22 августа. Село Берэжно
Моя кляча боится. Её слабые ноги трясутся, стоит мне выслать скотину хоть на шажок дальше, чем ей хочется. Но оно и к лучшему: держась в хвосте этой траурной дивизии, не так ощущаешь вонь. Да и что там говорить: я сам боюсь, как эта кляча. Даром, что мы оба рыжие!
Даже издали гниющая армия не сошла бы за живую: лошади ступают по земле как-то дёргано, словно бы все их суставы заржавели; всадники или качаются маятником, или сидят неподвижно.
Я заметил, что четырежды в день отверженные раввины молятся, вот только вместо знакомых имён Б-га я слышу слова «Самаэль» и «Отец всех зол». Они бормочут на иврите, и после этой чёрной молитвы их бездыханное войско обретает новые силы, словно бы просыпается.
Мы почти подошли к деревне. Местный пастух увидал нас издалека, закричал по-польски и побежал к своим. Ушел он недалеко: мертвый красноармеец, похожий на заводную куклу, вскинул винтовку и выстрелил чудовищно метко. Пастушок упал, пропахал лицом землю, да и затих.
В километре от деревушки нас встретили огнем немногочисленных винтовок. Абрам, увидав меня, крикнул держаться подальше.
Зловонное войско пустилось в галоп, обнажив сабли. Синхронно, как единый механизм, они вошли в Берэжно и, методично работая сталью, прорубили себе путь вглубь. Немногочисленные защитники пали быстро. Я видел, как мертвецы потрошили ревущих баб, как рубали головы перепуганным детям, как на скаку били в спину убегающих старух.
Все кончилось дьявольски быстро! Какие-то минуты, но для меня они растянулись в пугающую вечность.
Потом они спешились... Б-же, мертвые ищут живых, чтобы убить, а я среди них. Я летописец зла! И зачем же меня сюда послали? Должно быть, это месть высших чинов за то, что я без прикрас передавал все бесчинства конармейцев в прессу. Эх, мама моя родная, лучше бы помалкивал, да почище вылизывал зад Будённому в своих пописульках. Глядишь, сидел бы сейчас в тепле и ел кашу с мясом…
Я заметил у себя на руке браслет: на красной ниточке красная же ладошка с оттопыренным мизинцем и большим пальцем. Кажется, такие называют «хамса». Совершенно не помню, как его надевал. Абрам говорит, что нацепил мне его, когда я был в отключке. Это чтобы не нападали мертвецы. Когда раввины спят, порождения чёрного колдовства предоставлены сами себе, они как сторожевые псы нападают на всё живое. Мне страшно: а вдруг оберег не сработает? А вдруг они и мне ночью глотку — от уха до уха. Тешу себя мыслью о том, что одну ночь я как-то пережил.
Ночь с 22 на 23 августа. Село Берэжно
Я занял дом в самом центре деревушки. Здесь ещё остался кусочек польского уюта, и я с удовольствием им воспользовался. На столе лежит недоеденный пирог со свининой, нашлась и кадка квашеной капусты, немного самогона. Много пью и закусываю, но алкоголь не берёт.
Ложусь спать на застеленную кровать, но тут же просыпаюсь от какой-то возни. В небольшом чуланчике среди инструментов спряталась полячка с дитём. Я не понимаю по-польски, она не знает русский. На пальцах объяснил ей, чтобы сидела тихо. Она меня поняла, да жаль, что не её малыш. Ребёнок орёт во всю глотку, но ни мамкин сосок, ни её попытки заткнуть ему рот не срабатывают. Женщина с мольбой смотрит на меня, а я не знаю, что делать. Отвожу её обратно в чуланчик, но поздно.
В дом врываются трое големов-мертвецов. Один меткий удар шашкой, и баба падает подрубленной берёзкой. Её полные груди вываливаются из блузки; она кричит и извивается на полу, пытаясь защитить ребёнка. Я стараюсь оттащить чудовищ от несчастной, но я мал ростом и тощ, мне не хватает сил даже удержать руку с шашкой!
Вот — мертвец снова рубанул, на этот раз по голове. Баба затихла… Второй мертвец наколол ребёнка на штык винтовки и поднял над собой, окропляя комнату кровяным дождём. Младенец истошно вопит, но это недолго. «Имущество», как только источник шума ликвидирован, заторопилось обратно.
Это выше моих сил! Утром я сбегу, и пускай меня припишут к дезертирам — плевать! Я больше не могу на это всё смотреть. Я уверен, меня и так уже записали в «пропавшие без вести». Убегу… В Варшаву уеду.
Ночь 23 августа. Село Берэжно
Я пытался сбежать. Несколько раз. Моя рыжая кляча честно неслась во весь свой старческий опор. Несчастное животное! Но мы каждый раз возвращались в кровавую деревушку. На запад, на юг, на север или восток: стоило выслать лошадь дальше версты, как мы вдруг снова оказывались на краю этого распроклятого Берэжно!
Я не оставлял своих попыток к бегству до самого рассвета. Взмыленная старуха-лошадь уже едва переставляла ноги, пока совсем не остановилась, отказываясь сделать хоть шаг.
Как занялась заря, меня встретили раввины посреди деревни. Всё те же пыльные лапсердаки, всё те же паршивые шляпы, всё та же селёдочная муть в глазах. Они улыбались и хлопали в ладоши, пугая мою лошадь.
Бенцион сказал, что я не могу удрать, потому что их проклятие перекинулось и на меня. Перекинулось и пустило корни. Они вроде как единый организм со своим «имуществом». Мёртвый организм, а я в нём живая часть. Умирающая клеточка посреди гниющего месива. Бенцион говорит, что всё со мной понятно: проклятие не сработало бы как сработало, если бы я не был евреем. Я духовно разорён… Этот диагноз, этот вердикт — «Ба, да ты же еврей!» — звучит для меня как доказательство преступления. Я ведь и сам пошёл против Б-га ещё в начале этого пути. Это мне наказание, это моя клипа.
25 августа. На пути к деревне Червона речка
С утра Элиэсер получил с почтовым голубем ориентировку: поляки отступают на запад, по пути их отступления будет одна деревня; нужно провести «профилактическую работу», чтобы сломить боевой дух противника. Писал лично Тухачевский. Он похвалил нашу прошлую работу, сказал, что беженцы из Берэжно сильно перепугали набожных поляков. Теперь они думают, что на стороне красных сам дьявол! Что ж, это не так далеко от правды…
Элиэсер читает это вслух и смеётся. Смеются и Абрам с Бенционом, а мне вот страшно до одури! Б-же, услышь меня! Барух Ата Адонай!.. Я не самый хороший человек, но чем я заслужил себе такую участь? Думаю о самоубийстве, но мне недостаёт храбрости застрелиться. Я мог бы выкинуть свой оберег, и тогда мёртвые красноармейцы растерзали бы меня, но это ещё хуже…
Снимаемся с места и едем разорять деревню… Моя кляча сдохла, мне выдали нового коня. Мёртвого. Он холодный и неуютный, он не дышит, не прядёт ушами, не становится на дыбы. Это просто машина из неживой плоти.
По пути нам попадается жуткая находка: мой старый провожатый! Убили или умер сам — не ясно. Половину лица обглодали дикие звери. Но без сомнения — это он! Видать, даже пара часов с проклятыми раввинами прикончила его. Что ж, Тухачевский знал наверняка о моей национальности, нет сомнений: от меня хотели красиво избавиться за те мои заметки для столичных газет. Мозаика сложилась. Что ж, я до последнего буду верен своему перу и только ему. Надеюсь, что эти записи когда-нибудь кто-нибудь прочтёт.
25 августа. Рядом с деревней Червона речка
Привал. Раввины поделились со мной едой и пошли проверять экипировку своих големов. Затишье перед бурей.
Как назло день выдался погожий и солнечный: тепло, поют птицы, подступающая осень ещё не тронула желтизной кроны деревьев. Благодать! Даже не верится, что с кем-то сегодня случится смерть.
25 августа. Деревня Черовна речка, вечер
Как и бывало до этого, деревня сдалась стремительно. Немногочисленные выстрелы, толпа беглецов, удары в спину. Война мертвых с живыми…
Но в этот раз тринадцатая дивизия не довела дело до конца. Части людей удалось спастись: в центре деревни высился почерневший от времени костёл — в нём они и укрылись; по какой-то причине големы-мертвецы не смогли и шагу ступить через невидимую стену, отделяющую их от центра деревни. Раввины, кипя от бессильной злобы, дали приказ стрелять. Но отсюда до церкви половина версты, что толстому кирпичу эти пули?
Пальба продолжается несколько минут, потом, должно быть по приказу раввинов, мертвецы замирают жуткими статуями.
Бенцион велел мне искать место для ночлега. Сказал, что они будут думать над мерами: приказ был чёткий — разорить деревню.
26 августа. Деревня Черовна речка
Элиэсер говорит, что время, отведённое на исполнение приказа, подходит к концу. Красноармейцы не привыкли нянчиться со вспомогательными силами. Не исполняешь приказы — отправит тебя на покой самыми радикальными методами. А у конармии методы и того хлеще…
Мне жаль и тех, и других. Несчастные поляки, несчастные евреи, несчастные русские, что идут воевать от голода и безысходности. Правду говорят: на войне не бывает победителей.
Ближе к обеду раввины решают немыслимое: сделать какой-то кровавый обряд, который поможет им прорвать эту невидимую завесу. Они приказывают своим мертвецам разделывать лошадей. Когда лошадей не остаётся, они командуют разделывать остальных мертвецов. В ход идут топоры и пилы, найденные здесь же. От былой армии остался жалкий десяток полуистлевших зловонных тел.
Из отрубленных частей они складывают какие-то слова. Отец пытался обучить меня еврейской грамоте, но я не особенно старался быть правильным сыном. Что-то я понимаю, что-то нет. Это отрывок какой-то молитвы. И это имя: Самаэль. Они упали на колени перед своим кровавым художеством и читают молитву, в ответ в церкви начинает играть орган, поёт хор.
У меня трясутся поджилки — до того жутко за всем этим наблюдать! Камлания проклятых раввинов, заунывный хор из костёла. Вечереет, но ещё светло. Я вижу, как над уродливой панорамой расчленённых тел клубится облачко чёрного дыма. Оно, словно щупальца исполинского спрута, ощупывает невидимый барьер, ища брешь. Облако растёт, расширяется и, кажется, я вижу в этой антрацитовой черноте всполохи нездешнего пламени.
В углу дома стоит винтовка. Она однажды уже спасла мне жизнь, теперь же она станет моим билетом на ту сторону.
Вот оно! Тьма нащупала слабое место, щупальца нашли брешь и теперь тянутся к церкви. Быстро, очень быстро! Замолкает хор, не играет орган. Я слышу крики: старики, бабы с детьми. Все они заперлись в церкви, чтобы спастись. До чего же страшная смерть! Они не могут вырваться, за ними пришло само зло!
И я часть этого! Часть этого мертворождённого организма зла… Всё, что мне остаётся, чтобы не сойти с ума — это писать.
Крики стихают, но я слышу выстрелы. Это поляки! Б-же, дай им сил покончить с этим. Пришло время для моего последнего свидания с винтовкой.
Не поминайте лихом! Надеюсь, этот дневник попадёт в нужные руки. Хочу сказать на прощание, что я просто хотел жить правильно. Я хотел счастья для всех…
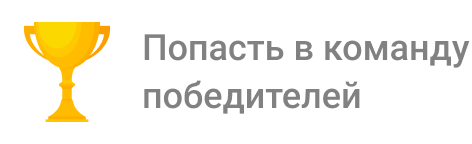

CreepyStory
10.6K постов35.6K подписчиков
Правила сообщества
1.За оскорбления авторов, токсичные комменты, провоцирование на травлю ТСов - бан.
2. Уважаемые авторы, размещая текст в постах, пожалуйста, делите его на абзацы. Размещение текста в комментариях - не более трех комментов. Не забывайте указывать ссылки на предыдущие и последующие части ваших произведений. Пишите "Продолжение следует" в конце постов, если вы публикуете повесть, книгу, или длинный рассказ.
3. Посты с ютубканалов о педофилах будут перенесены в общую ленту.
4 Нетематические посты подлежат переносу в общую ленту.
5. Неинформативные посты, содержащие видео без текста озвученного рассказа, будут вынесены из сообщества в общую ленту, исключение - для анимации и короткометражек.
6. Прямая реклама ютуб каналов, занимающихся озвучкой страшных историй, с призывом подписаться, продвинуть канал, будут вынесены из сообщества в общую ленту.