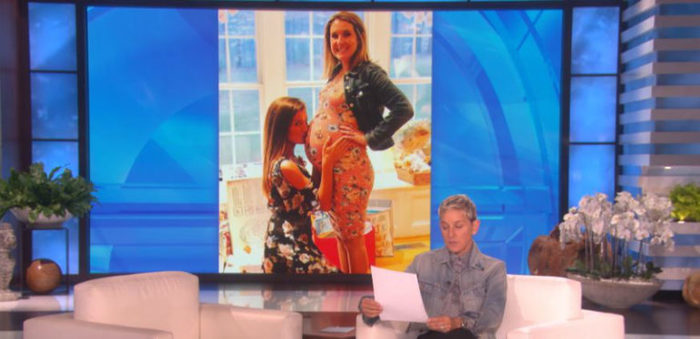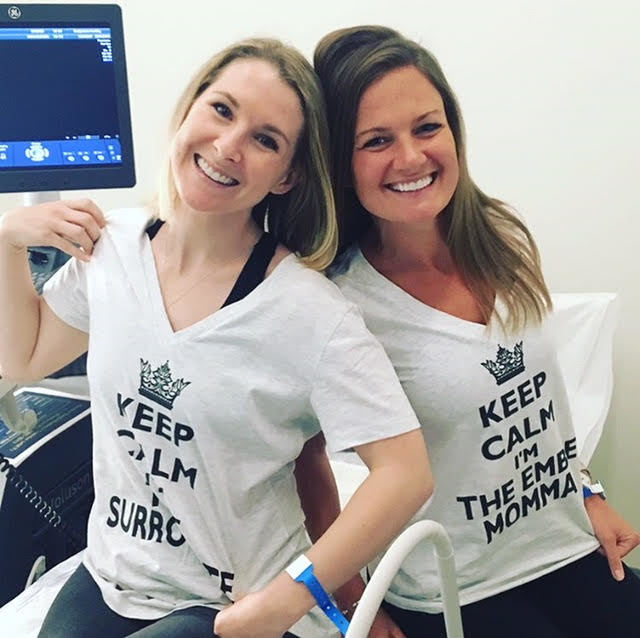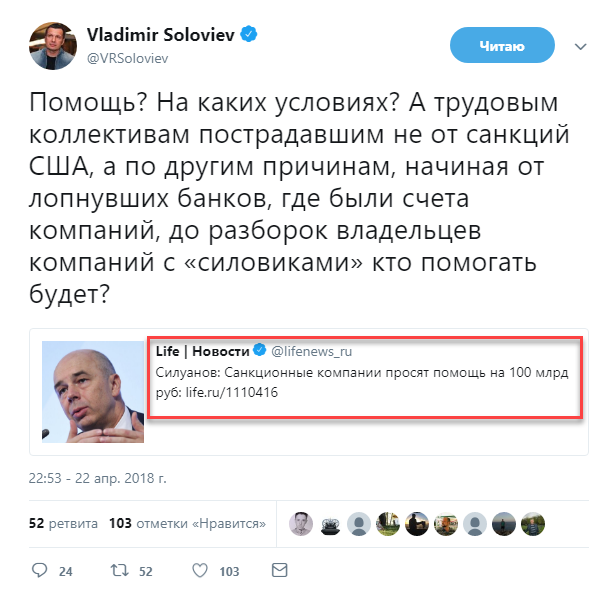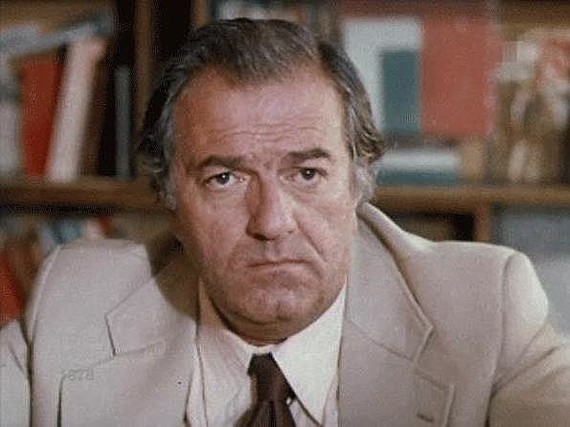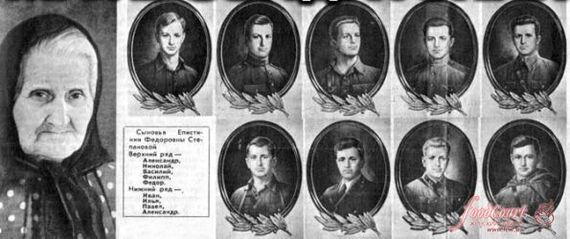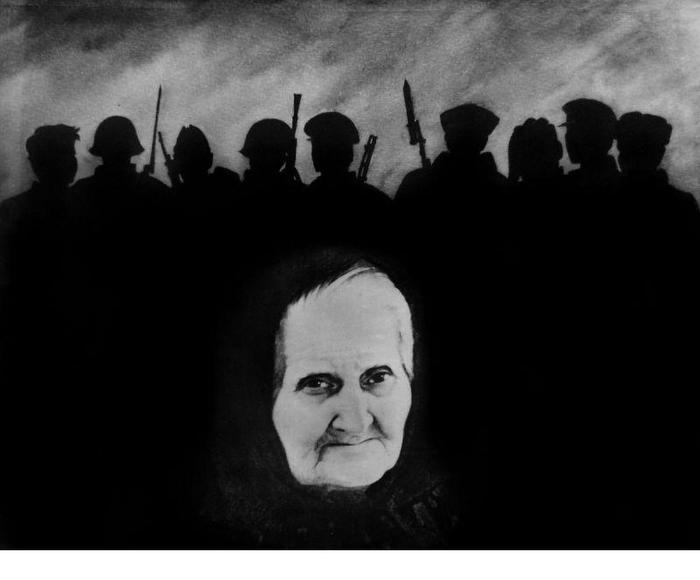Великая победа дается лишь ценой великих потерь. Мы можем победить лишь сплотившись. В сорок первом это понимали все. В семье Газдановых было семеро братьев и каждый, услышав о мобилизации, не задумываясь ушел на фронт, и не один из них не вернулся домой. Последняя похоронка пришла уже из Берлина. Прошли годы, но подвиг и самоотверженность никогда не будут забыты.
Осетинский танец «Семь косарей» символизирует время великой Победы и великих потерь. Семь Косарей – это семь братьев Газдановых до войны. А после войны невесты бойцов надели траур — ни один из отважных красноармейцев так и не вернулся домой, в родное осетинское село Дзуарикау.
Мила Доева, дочь Дзарахмата Газданова, говорит: «Они идут по старшинству – Махомат, Дзарахмат, Хаджисмел, Махорбек, Созрико, Шамиль и Хасанбек».
Мила Доева — дочь одного из братьев – Дзарахмата. Он ушел на фронт в 41-ом. Лихого наездника сразу приняли в кавалерийский полк. «Война идет жестокая, но если бы вы знали, какие люди воюют рядом со мной!» — писал Дзарахмат. Потомки Дзарахмата часто собираются все вместе – еще раз просмотреть фотографии. В этой семье хранят все, что осталось от семерых братьев – письма, наградные листы, вырезки из газет.
Жанна Кудзиева, внучка Дзарахмата Газданова, рассказывает: «Во всем Советском Союзе было 9 братьев Степановых и 7 братьев Газдановых, которые ушли на войну и не вернулись. Когда младший из братьев Газдановых уходил на войну, ему было 17 лет. Он даже дорогу до города не знал, у него даже обуви не было.
6 внуков и тринадцать правнуков Дзарахмата Газданова. Он единственный из братьев, кто успел жениться перед тем как уйти на фронт. Мила Дзарахматовна говорит, что так и не смогла выяснить – узнал ли ее отец о рождении дочери.
Мила Доева, дочь Дзарахмата Газданова, рассказывает: «Своего отца я не знаю, я родилась уже после того, как он ушел на фронт. Последнее письмо было из Новороссийска, где он спрашивал — кто родился? Не могу говорить... Слезы... И вот одна из наших родственниц написала ему, что родилась девочка. Мы не знаем, получил он это письмо, или нет...».
Газдановы получали похоронки одну за другой. Хаджисмел и Магомед погибли под Севастополем, Дзарахмат – в Новороссийске, Созрико – в Киеве, Махарбек под Москвой, Хасанбек – в Белоруссии, Шамиль был смертельно ранен в канун Дня Победы – у стен Берлина.
Семь раз приходили старейшины Дзуарикау к этому двору с печальной вестью. По осетинским обычаям вся село надело траур, когда пришло извещение о гибели младшего из братьев. Последнюю похоронку отцу семерых сыновей так и успели отдать. Увидев, что старейшины направляются к дому Газдановых, он умер держа маленькую внучку Милу на руках.
Не вынесла смерти детей и мать. Она умерла, когда пришла третья похоронка. Сельчане рассказывают, как Тассо Газданова каждое утро выходила на дорогу, по которой уходили ее сыновья. Она ждала писем, которые так редко доходили до маленького осетинского села в предгорьях Большого Кавказа.
Мила Газданова, дочь Дзарахмата Газданова, рассказывает: «Она днями сидела и смотрела на солнце, вечерами на луну и разговаривала — и с солнцем и с луной... Просила — если вы обогреваете моих сыновей, помогите им, пожалуйста, вернуться домой. Вот так она не дожила и не узнала, что все семеро погибли...».
В сельской школе есть небольшой музей. Здесь хранятся семь черкесок братьев. И макет дома Газдановых. Его почти полностью разрушили немцы во время оккупации.
Умархан Черджиев, друг братьев Газдановых, говорит: «У них дом большой был, метров 25, а может и больше. И когда ребят забрали в армию, прямо посередине двора упала бомба, и дом на две части развалился...».
Над черной скалой взметнулись в небо семь белых журавлей. Это семь братьев Газдановых. Стоит их седая мать Тассо. Шершавой рукой она гладит немую скалу. Здесь застыли в вечном полете семь ее отважных сыновей. К этому памятнику каждый год приезжают сотни туристов. Здесь их встречает Мила Газданова, чтобы еще раз рассказать людям — о великой Победе и великий потерях.
Подробнее: http://region15.ru/news/main/2009/05/08/21-49/
В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотворение, которое стало песней
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Нет в песне:
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
После появления песни «Журавли» стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие журавли.
Просковья Еремеевна Водичкина.
Памятник семье Водичкиных установлен в посёлке Алексеевка города Кинель Самарской области. Это памятник матери, у которой война забрала всех девятерых сыновей: шестеро погибли на фронте, трое позже скончались от ран.
Но есть и другие памятники матерям, потерявшим сыновей.
Епистиния Фёдоровна Степанова (1874—1969) — русская женщина, девять сыновей которой погибли в войнах, кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени.
На больших руках усталой матери
Умирал её последний сын.
Полевые ветры тихо гладили
Серебристый лен его седин.
Гимнастёрка с воротом распахнутым
Задубела пятнами на нём.
Из тяжелых ран
В сырую пахоту
Опадала кровь его огнём.
— Я ль тебя, сыночек, не лелеяла,
Я ль тебя, родной, не берегла?..
Ясны очи, Кудри эти белые,
Силу богатырскую дала.
Думала — сойдутся в жизни праздники…
Ты последней радостью мне был!
А теперь твои закрылись глазоньки,
Белый свет в ресницах
Стал не мил.
— Увидав её слезинку грустную,
Обступили мать среди полей
Девять бед, разбивших сердце русское,
Девять павших в битве сыновей.
Стыли танки, громом раскурочены,
Заступали кони повода. ...
Встала мать в селе на главной площади
И окаменела навсегда.
Степанов, Александр Михайлович (1901–1918) — расстрелян белогвардейцами в отместку за помощь семьи Степановых Красной Армии;
Степанов, Николай Михайлович (1903–1963) — вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом, умер от ран;
Степанов, Василий Михайлович (1908–1943) — погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Похоронен в братской могиле в селе Сурско-Михайловка на Днепропетровщине;
Степанов, Филипп Михайлович (1910–1945) — умер в лагере Форелькруз, под Падерборном;
Степанов, Фёдор Михайлович (1912–1939) — проявив героизм и мужество, погиб в боях с японцами у реки Халхин-Гол;
Степанов, Иван Михайлович (1915–1943) — погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Похоронен в братской могиле в деревне Драчково Смолевичского района, Минской области;
Степанов, Илья Михайлович (1917–1943) — погиб 14 июля 1943 года в битве на Kyрской дуге, захоронен в братской могиле в селе Афонасове, Калужской области;
Степанов, Павел Михайлович (1919–1941) — погиб на фронтах Великой Отечественной войны;
Степанов, Александр Михайлович (1923–1943) — погиб на фронтах Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).
Памятник Матери,не дождавшейся с войны восемь сыновей.
В городе Задонске Липецкой области стоит один из пронзительных памятников войне - памятник матери, Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы своих восьмерых сыновей.
https://rg.ru/2016/06/23/reg-cfo/zhitelnica-zadonska-poteria...
Перед войной семья Фроловых ничем не выделялась в Задонске: жили, растили детей и сад за скромным домиком. Глава семейства Георгий Игнатьевич мечтал построить новый дом, побольше - и, как кум Тыква, собирал стройматериал по камешку, складывая во дворе. Когда же ливень смыл подпорную стену на главной улице Задонска, Фроловы, ни секунды не раздумывая, отдали свои запасы на восстановление "проспекта". Сами же остались в старом, в четыре окна на улицу домишке.
Море и мины
Отец умер в мае 1941 года. К тому времени старший сын Михаил давно переехал в Ленинград, окончил политехнический институт, стал преподавателем военно-морской академии и специалистом по минному делу. Перед войной он придумал способ защиты кораблей от магнитных мин, во время испытаний на море попал под бомбежку, был тяжело ранен и умер в ленинградском госпитале. Посмертно Михаила наградили Сталинской премией, поскольку ни один корабль, защищенный по методу Фролова, не подорвался на мине.
Дмитрий с детства мечтал стать моряком и деятельно к этому готовился: хорошо учился, занимался спортом. Следом за старшим братом он перебрался в Ленинград, окончил мореходку и с началом войны попал на Балтийский флот. В ноябре 1941 года его корабль подорвался на мине. Трое уцелевших моряков - в том числе контуженный Дмитрий - связали из досок плот и несколько часов держались на воде, пока их не подобрали. Фролов продолжил воевать на Балтике, был несколько раз ранен. Последний раз - тяжело, в голову. Врачи его снова выходили, но ненадолго: ослепший Дмитрий вернулся домой и вскоре после Победы умер от ран.
Константин рос смелым мальчишкой. Как-то заметил тонущих в Дону девчонок, кинулся с обрыва и вытащил обеих. Подростком он выращивал розы в своем саду, вывел особенный сорт разных оттенков - были даже черные. Когда Костя стал ухаживать за девушками, его букетам завидовал весь город. Однако парня тянуло в Ленинград. После ремесленного училища он переехал к старшим братьям, поступил на вечернее отделение института, а днем работал. В декабре 1941 года Константин Фролов записался добровольцем в ополчение. Однажды позвонил жене: "Встречай на вокзале, буду проездом!" Та кинулась на Балтийский вокзал, но станция была оцеплена: налет немецких бомбардировщиков уничтожил все составы, бывшие на путях. В том числе и поезд Константина.
Братская могила
Тихон перед войной записался в аэроклуб, а попав на фронт, стал летчиком. В 1944 году его назначили командиром эскадрильи. Тихон часто писал домой, чаще других братьев. Из письма матери: "Здравствуйте, дорогие мама и Аня! Вчера получил письмо от Тони (вторая сестра), в котором она пишет, что умер Михаил. Для меня это слишком тяжелая новость. И во всем этом виноваты проклятые фрицы. Это они принесли преждевременную смерть очень ценному человеку нашей страны и моему брату. Это они сделали двоих малолетних детей сиротами. Но пусть они помнят: нас, братьев, десять, погиб один - на его место становится другой. Я из этого письма также узнал, что Леонид взят в армию. Это так и должно быть, страна требует этого, и каждый из нас обязан мстить за смерть погибших и за малолетних сирот. Так это и будет". Весной 1945 года Тихон Фролов погиб при бомбежке Кенигсберга. Похоронили его в братской могиле.
В феврале 1941 года Василий Фролов заболел воспалением легких и вернулся из Ленинграда в Задонск. На свежем воздухе он быстро поправился: работал на МТС, потом ушел добровольцем на фронт и снова попал в Ленинград. "Вряд ли я вернусь отсюда - такое здесь идет крошево. Но мы перца им подсыплем, могилу свою тут фрицы найдут. Всех обнимаю крепко и очень люблю", - написал он матери в сентябре 42-го. Василий погиб на Невской Дубровке.
Николай боялся собак - их в довоенном Задонске было много. Однажды мать ушла в деревню, чтобы поменять там вещи на продукты. Поздно вечером 11-летний Колька вышел встречать мать на окраину - чтобы собаки ее не покусали. Прижался там к забору и стоял. А чтобы скрыть страх, громко вздыхал. Он был хорошим рыбаком - мог собрать богатый улов на любую наживку - и знатным слесарем. На ленинградском заводе портрет Николая висел на Доске почета, с ним советовались инженеры. Увлекался радиотехникой, собрал несколько телевизоров. В 41-м Фролов окончил школу младших командиров, а попав на фронт, практически сразу был тяжело ранен. Его спасли. Он вернулся в часть и был ранен снова. Так повторялось несколько раз. Николай дожил до Победы, вернулся домой и вскоре умер.
Леонида в армию долго не брали - ему, как первоклассному токарю, полагалась бронь. "Забудь о фронте", - говорил ему директор ленинградского завода. Все заявления, что писал Леонид, оседали в военкомате. Но однажды подтверждение брони запоздало и он сел в поезд с другими добровольцами. Директор завода слал вслед телеграммы с приказом вернуться, на станциях Фролов расписывался в получении и ехал дальше. Он служил в ремонтной "летучке" - чинил танки прямо на поле боя. При этом и в разведку ходил - за приведенного "языка" получил медаль. Однажды в его "летучку" попал снаряд. Через месяц родным прислали окровавленные вещи.
Петр в Ленинград приехал последним из Фроловых, еще школьником. Чтобы не сидеть на шее у братьев, устроился учеником на завод и после уроков бежал на смену. Перед войной на пару с Леонидом завел мотоцикл и лихо на нем гонял. Потом на том же мотоцикле возил донесения с передовой в штаб. Был ранен в голову, но сбежал из госпиталя на фронт. Он погиб в разведке в 43-м.
Сердце матери
Мария Матвеевна Фролова прожила долгую жизнь, умерла в 96 лет. В войну в доме Фроловых всегда было много военных - в городе стояли госпитали, останавливались по пути на фронт части. Пока солдаты спали, Мария успевала выстирать и высушить их белье, утром давала им яблок на дорогу из своего сада и шла перевязывать раненых.
В голодные послевоенные годы она не гнушалась никакой работой: торговала на рынке овощами с огорода, вязала носки на продажу, даже резала, обмирая от страха, соседских коз - за ливер и кровь. Ее она потом жарила на сковородке, чтобы хоть как-то прокормиться. Когда силы кончились, сидела на скамейке перед домом, угощала яблоками соседских детей и перебирала в памяти письма сыновей - она все их помнила наизусть.
"Вчера получил письмо от жены, пишет, что мой Лека вырос очень умный и хитрый. Ждет меня домой, говорит: папа вернется и я не буду ходить в сад, а буду ловить рыбу. Он очень хороший мальчик: не капризный, всегда с улыбкой на личике, которое украшают большие голубые глаза. Но ладно, будем живы - увидимся", - писал Тихон.
"Часто снится мне наш дом и все наше до мельчайших подробностей. Даже калитка с засовом. Но больше всего я вспоминаю наш сад. И даже запах яблок, такой удивительный", - это от Лени. Про яблоки писала из Ленинграда и дочь Тоня: "Получила от вас посылку, большое спасибо. Уж очень долго она шла! Получила ее не совсем в порядке - крысы отгрызли угол ящика, рассыпали пшено, все остальное в целости. Но что обиднее всего - сгнили яблоки, яблоки из нашего сада. Яблоки Валерику и во сне не снились, ведь он их никогда не ел".
После инфаркта Мария Матвеевна на улицу выходить перестала. До последних своих дней она сидела у окна и смотрела на прохожих. А когда дочь звала полежать, говорила: "Я на людей не нагляделась за свою жизнь, все они такие красивые..." Умерла Мария Фролова тихо, похоронили ее без особых почестей. У нее не было никаких наград: ни за работу в тылу, ни за погибших сыновей.
Между тем
Историю этой семьи в 1980-х раскопал журналист районной газеты Александр Косякин (он же и музей создал, кстати). "Я вырос на одной с ними улице и ничего не знал! И в городе никто не знал. Когда материал вышел, в редакцию стали приходить люди и предлагать деньги на памятник. Но тогда мы не имели права их брать", - рассказал Александр. К очередной годовщине почерневший от времени дом обшили досками, покрасили и повесили табличку. А памятник Марии Фроловой и ее сыновьям открыли в 2005 году, к 60-летию Победы. Часть денег на монумент собрали задонцы.
Именем Фроловой назвали улицу на окраине. Дом ее стоит на улице Урицкого, который в Задонске никогда не был. После смерти хозяев дом заброшен, стоит по пояс в крапиве, ворота подперты досками. "Дом продается, но из-за таблички никто не хочет брать", - рассказали соседи.