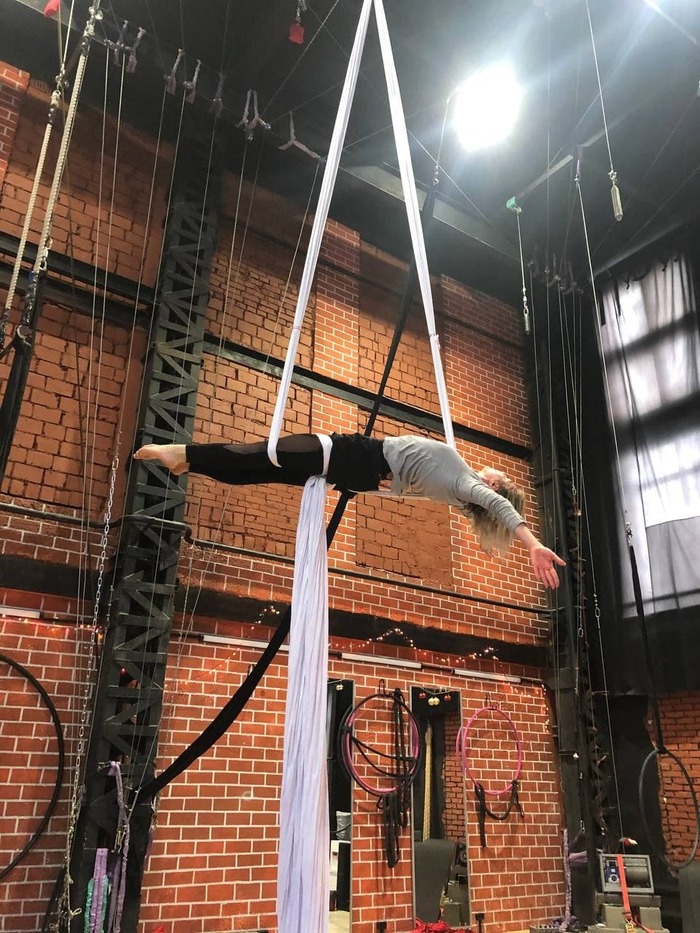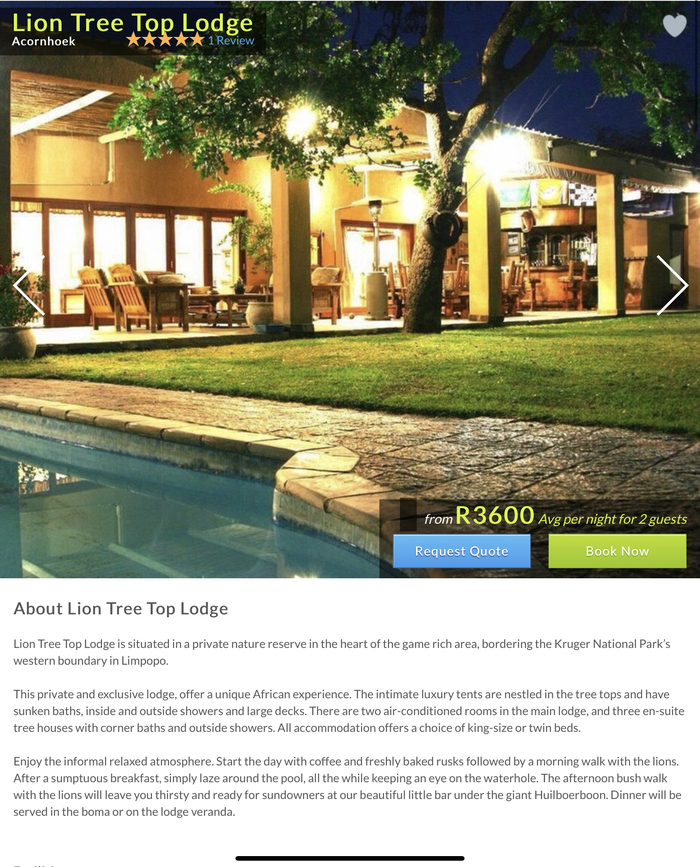Нормальные люди открывают футбольную школу около метро (чтобы всем родителям было удобно) и начинают стаскивать туда детей со всего района. Это оказалась в корне ошибочная модель, потому что экономический анализ она не выдерживает. Точнее, как. Выдерживает, но плохо и медленно масштабируется. Дело в том, что футбольная школа требует достаточно специфического здания — с полем. А, как правило, около метро нет залов или полей, либо есть, но очень дорого.
Все новые футбольные объекты в Москве в достаточно неудобных (для частых тренировок) местах. В удобных — старые советские, которым очень много лет. Офис у нас, кстати, как раз в таком здании, причём полем служит переделанный концертный зал. В общем, если открываться у метро, то захватить мир за 4 года не выйдет.
После ряда довольно простых подсчётов, стало понятно, что открывать секции на 10-15 человек надо при самих школах, что мы и сделали. Менеджер нашей футбольной команды ММФ МГУ Тихон решил учить детей футболу. История началась за год до продажи Мосигры, то есть летом 2018.
Экономика получается такая: занятие стоит для родителей 450-500 рублей (около 4 тысяч месячный абонемент на 8 тренировок). Мы используем зал школы, но не на условиях оплаты за время, а на условиях вычета примерно половины денег с оплаты секции (где как, бывает и другая пропорция). То есть родители платят в школу, а школа берёт свою часть и уже оттуда платит футбольному клубу. При 5 детях на тренировке окупается оплата тренера и других операционных расходов, при 10 детях генерируется прибыль.
Что мешает физрукам делать то же самое? В целом, ничего, если не считать того, что они это почти не делают. Дело в том, что одно дело просто тренировать детей как пойдёт, а другое дело — с планом, методикой и постоянными играми с соперниками из других школ.
Началось с того, что Тихон пытался купить методику у испанцев, чтобы затем отдать её в наш РГУФК (это университет физической культуры) на адаптацию к российским стандартам. В итоге испанцы методику не продали, но мы получили часть данных. Можно было ещё купить франшизу вместе с постоянно наблюдающим тренером: отдельно никто полные документы не даёт, потому что смысл коммерции не в этом. Поэтому мы в итоге делали собственную методологию: за дело взялся опытный человек — доцент кафедры РГУФК, секущий в футболе. И ещё несколько специалистов. Так у нас начала появляться самая неожиданная методика преподавания футбола в России для детей. Она ещё дорабатывается в плане именно деталей тренировок, но модель уже понятна.
Неожиданное там следующее:
Во-первых, мы не собираемся фокусироваться на профессиональном спорте. Футбол даётся как средство научиться управлять своим телом, развить физически и социальные качества. Социальные часто важнее: речь про игру в команде и умение вовремя отдать мяч, а не вести его в одну харю. Социальные — это ещё, если вы помните, когда вы в детстве умели управляться с мячиком, то сразу вас принимали в дворовой футбол. Это почти как гитара для студента. Да, тренерский состав будет отбирать будущих профессиональных игроков, да, есть куда их передать, то есть трамплин для карьеры будет. Но фокус не на тех, кто суперуспешен, а на обычных и даже не очень спортивно выглядящих мальчиках и девочках.
Во-вторых, да, мы тренируем и тех, кто не блещет формой. Дело вот в чём: если в детском-юношеском футболе вы хотите быстрых побед, то есть два проверенных способа: подделывать возраст (нередко практикуется в некоторых странах) или отбирать самых здоровенных и физически подготовленных детей. У нас в России отбор идёт именно так. Потом крупные дети вырывают очко у противника. Проблемы начинаются дальше, потому что по мере взросления эти качества становятся не главными. Испанцы (и вообще европейцы, например, бельгийцы) учат всех сразу, прекрасно понимая, что на переходе от ребёнка к подростку те самые неуклюжие товарищи вдруг резко меняют форму. Для них главное дать технические навыки, а уже после того, как все проходят метаморфоз, отбираются будущие профессионалы. Поэтому они проигрывают нам в детском футболе. То есть технику надо ставить в детстве, а отбирать по форме уже взрослых. Если брать только тех, кто крупный в детстве, взрослая команда возьмёт не весь возможный потенциал спортсменов.
В-третьих, наши тренеры — сами практикующие футболисты. Вообще-то тренеру не нужно самому играть. Бухающий дедушка-физрук тоже может быть отличным тренером для команды, без шуток. Но вот только дети его не понимают, а это для результата важнее. Поэтому наши тренеры — это педагоги, умеющие катать мяч. То есть первый приоритет при отборе тренера – детская психология и физиология, второй – методика, третье – уже спортивный опыт.
В-четвёртых, в Испании в ряде школ не рекомендуется тренировать детей взрослым тренерам. Это не часть национальной культуры спорта, но на деле довольно интересная мысль. Детей младше 10 лет в базовой методике может тренировать только тот, кому меньше 35 лет. Звучит как частный случай дискриминации, но показывает результат. У нас примерно похожий принцип — мы отбираем тренеров по тому, как они работают с детьми, и в 95% случаев это как раз недавние выпускники РГУФК, либо молодые профессиональные игроки.
В-пятых, опять же, по примеру Испании, почти вся тренировка проводится с мячом. В смысле, заминка-разминка без него, а вот остальные упражнения в контакте с мячом. В обычных футбольных секциях это не всегда так, потому что технику можно развивать и по-другому. Точнее, можно развивать физическую форму без мяча, но есть направление, характерное для Барселоны, где мяч обязателен. У нас тренеры Бесков и Романцев придерживались того же подхода. Мы хотим, чтобы техника ставилась с детства.
Очень многие футбольные секции «варятся» в играх внутри себя. Мы изначально планировали сеть школ как лигу, то есть некое место для соревнований. Каждую неделю мы стараемся устраивать турнир: это либо первенство района, либо матч с соседней школой (а их обычно 5-6 соседних), либо эпический махач сборных — район на район.
Соответственно, есть три типа школ: секции при самой школе, дворовые секции (когда тренировки идут в «коробках» — это появилось с карантинными ограничениями) и отдельные секции для сборных районов, где уже есть элементы профессионального спорта и карьеры.
Сборные встречаются на отдельных площадках, не в школах, как правило — с профессиональным полем побольше.
За каждым отдельным отделением смотрит его куратор. Куратор общается со школой, родителями и тренером, организует подмены тренера, если надо. Больше всего времени уходит на бюрократическое общение со школами, там всё по регламенту и с кучей документов. Это медленно и грустно, но мы платим этой бюрократией за быстрый рост.
Собственно, если первые 5 школ мы подписывали, долго объясняя, что такое Метеор и как это будет работать. Было тяжко. А вот где-то после 20-й уже школы хотели наши секции.
Если бы не пандемия, сейчас было бы около 150 отделений. Сейчас 140 помещений на договорах и 58 секций работает (из которых часть дворовые). 11 площадок коммерческие (с оплатой за аренду фиксировано по времени) — там от 2 до 4 тысяч в час.
Как вы можете догадаться, весь 2019 год это смотрелось отлично, и мы даже обсудили возможное применение модели с партнерами в Африке, Южной Америке и Европе. Но карантин резко поменял всю игру, и пока со всем этим придётся подождать. Может, в этом году к лету будет продолжение.