Детей чужих не бывает!
1 пост
1 пост
3 поста
54 поста
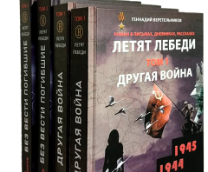
25 постов
1 пост
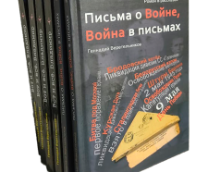
5 постов

3 поста
...Про Польшу тоже много вспоминали с подружками.
Вспомнили, как однажды мы, на нашей госпитальной машине, заблудились в городе Краков. Очень долго мы где-то блуждали, а тут раз, и к нам на подножку парень вскочил с букетом цветов. Мы, глупые, обрадовались, спросили у него, как проехать к восточному выезду из города, и он с улыбкой стал нам показать дорогу.
Едем мы по окраине, и вдруг из ворот одного дома выскакивает женщина–полячка и кричит:
– Злодий! Цо ты робишь?
Парня этого тут же с подножки, как ветром сдуло. Мы остановились, а женщина рыдала и рассказывала нам, что вёз он нас прямо на немецкое минное поле, на котором только вчера советская машина подорвалась, тоже им кто-то дорогу из местных показывал...
Метров триста не доехали до своей смерти.
Воспоминания военврача Гинзбург
МСБ 442
1944 год. Апрель. На Смоленщине уже весна, но снег и лёд ещё держат свои позиции. Через не закрашенную щелку в стекле дверного проёма вонврач Люба Гинзбург наблюдала, как дети – десятеро воспитанников детского дома, которых эвакуировали из-за линии фронта только сегодня утром, стоят и держатся за руки. Держатся уже четвёртый час. Также четвёртый час шла операция в 442 МСБ (в медицинско-санитарном батальоне, который располагался в деревне Ситьково, Смоленской обл. – прим.автора), мы боролись за жизнь лётчика Саши. Люба внимательно осмотрела и ощупала детишек, у них у всех не было ресниц – пожар в самолёте лишил их. У всех болело горло, было сложно дышать, едкий дым пожара оставил свои последствия... Пока только на теле детишек... Их воспитательница – они её называли мама Валя, сидела прямо на полу в центре детского круга и старалась не плакать. Но у неё это плохо получалось. Люба видела, как время от времени содрогаются её хрупкие плечи... Рядом с детьми были ещё двое партизан, их Любины военфельдшера пытались забрать на перевязку, но они закатили скандал, и командир медсанроты Ласточкин разрешил их перевязать прямо в коридоре, где все ждали, отчаянно ждали и вслух, не стесняясь молили Бога, чтобы он спас Сашу. Фамилию она его тогда не знала. Да никто не знал. Ни десять стоящих в коридоре детдомовцев–половцев, ни девятнадцатилетняя мама Валя, ни гвардии дед Григорий (так он представился им перед перевязкой), раненный в обе ноги, ни политрук партизанского отряда Михаил, с пулевым ранением шеи и со множественным осколочным ранением спины... Операция закончилась. Она не решалась открыть дверь и тогда это сделал военврач Воронцов. Дверь операционной открылась с едва уловимым скрипом... Военврач Пётр Иосифович вышел к ним как был... Окровавленный халат, и, несмотря на холодное помещение (за окном заканчивалась зима) полностью мокрый от пота... В руках он держал оплавленные по краям, летные очки. Стекла были покрыты мелкими трещинами и были даже не похожи на стекла, они были совсем не прозрачными, скорее мутно–белыми ... Он облокотился спиной о стену коридора и, скользя по стене, сполз по ней до положения корточек. В этом положении он и уснул. Спал он крепко, также крепко он держал то, что осталось от летных очков. Она тоже подошла к детям и с ними, в полной тишине, встали полукругом вокруг спящего хирурга, и старались даже не дышать, хотя детям это было крайне трудно делать – в таких случаях опаленное горло чешется и всё–время хочется прокашляться.
Люба немного прокашлялась, привлекая внимание детей и начала свой рассказ:
– Я считала себя опытным военврачом, пока не привезли этого лётчика, но я всё равно не могу понять, как такое могло произойти, ведь это противоречит всему, чему меня учили в медицинском ... девяносто процентов ожога всего тела... от одежды, зимней формы пилота, просто ничего не осталось – она отделялась вместе с кожей. Война. Проклятая война. А ноги! Ноги! Деточки! Их же просто не было! Остались обгоревшие кости! Мышцы ног превратились в угли! Этот человек давно должен был умереть от болевого шока! Давно! Ещё до того, как его привезли к нам в операционную! У лётчика целыми были только глаза, только глаза... Лётные очки не выдержали и оплавились ... стекла потрескались, волосы сгорели, а он довел самолёт до аэродрома и сел ... Я боролась, Пётр Иосифович боролся, мы все боролись за его жизнь до конца. Ампутировали сгоревшие конечности, но с таким процентом ожога не живут ... царство ему небесное ... этот человек был из железа ... кованного железа ..., а его воля просто не поддается описанию ...
Мне, тогда мужчине, у которого тоже были ампутированы ноги, который прошел всю войну и видел всё, что только можно на ней видеть, каждое слово Любы, рассказанное в ночной тиши двигающегося по рельсам поезда, врезалось, как зубилом по граниту ... раз и навсегда ... она рассказывала так, что мне казалось, что я присутствую там сам... Она продолжила:
«В этот момент проснулся Пётр Иосифович.
Он по–прежнему крепко держал в руках летные очки.
Мы стояли вокруг него в полной тишине. Десять напряженных пар детских глаз, двое мужских и две пары девичьих, ждали, что скажет военврач Воронцов...
Один из детей сказал, что он отказывался верить тому, что услышал от меня, ведь он сам видел и слышал после приземления голос Саши, так звали лётчика ... он спрашивал у подбежавших бойцов, живы ли мы – дети ...
Петр Иосифович снял с головы медицинскую шапочку и сказал:
– Дети..., – тут он прокашлялся и продолжил, – дети, ваш лейтенант боролся до конца и умер с открытыми глазами ... и он попросил отдать вам свои лётные очки, это всё, что осталось целым от его военной формы... он попросил отдать вам их и сказать вам, чтобы вы хранили их. Сказать, чтобы вы помнили, что советский человек крепче любой стали, и сможет выполнить свой долг, несмотря ни на что, ни на холод, ни на огонь и воду, ведь враг может убить только тело, а воля и дух принадлежат только вам, и каким этот дух будет, зависит только от вас!
Он выполнил свой долг. Лейтенант спас ваши детские жизни и завещал вам вырасти достойными людьми! А достойный человек – это тот, кто не даст свою Родину, свою семью, своих друзей, и просто своих сограждан на попрание кому бы то ни было, хоть самому дьяволу! Или зверью в человечьем обличье, которое мы называем немецко–фашистскими оккупантами! А после Победы, а она обязательно будет, вы должны стать такими людьми, которые прославят свою Родину! Пётр Иосифович замолчал. Обвел глазами всех нас, перевернул свою медицинскую шапочку и крепко сжав очки руками разделил их на несколько частей. Стекла также покрошились на небольшие кусочки. Мы все молча подходили и брали из шапочки военврача кусочки очков Саши. Я тоже взяла кусочек стекла. Мутного стекла, немного острого по краям. Я крепко сжала его в кулаке и храню по сей день...»
Иногда, я рассказываю своим пациентам и друзьям историю о том, как один детский дом в полном составе остался на оккупированной территории, и вот зимой, в декабре 1943 года, кому–то из фашистских начальников пришло в голову звериное решение: использовать воспитанников Полоцкого детского дома № 1 как доноров. Немецким раненным солдатам нужна была кровь. Где её взять? У детей ... у беззащитных ... у кого же ещё? Директор детского дома Михаил Степанович Форинко не бросил деток, не убежал вместе с отступавшими войсками, а остался с ними до конца. Он пытался их защищать... Но это было невозможно! Оккупанты не считали нас за людей, потому у них к нашим детям не было ни жалости, ни сострадания... Но директор попытался обхитрить фашистов! Михаил Степанович убедил немецкого начальника, что больные и голодные дети не смогут дать хорошую кровь. Ведь в крови голодных детей недостаточно витаминов или хотя бы того же железа. К тому же в детском доме нет дров, выбиты окна, очень холодно. Дети всё время простужаются, а больные – какие же это доноры? Сначала детей следует вылечить и подкормить, а уже затем использовать. Немецкое командование согласилось с таким решением. Михаил Степанович предложил перевести детей и сотрудников детского дома в деревню Бельчицы, где находился сильный немецкий гарнизон. И опять–таки железная бессердечная логика сработала. Первый, замаскированный шаг к спасению детей был сделан…А дальше началась большая, тщательная подготовка. Детей предстояло перевести в партизанскую зону, а затем переправить уже на самолёте на большую землю. А это можно сделать только в Бельчицах. Директору поверили, детей перевели и начали откармливать. На убой. В буквальном смысле. Подготовка к побегу заняла около месяца. И вот, наконец, всё было готово.
В ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из Бельчиц вышли двести человек детей и взрослых. Полторы сотни детдомовцев и около сорока воспитателей. Сопровождали и показывали дорогу в партизанский отряд члены подпольной группы «Бесстрашные». Они тоже уходили вместе со своими семьями. Сопровождали колонну разведчики из партизанского отряда имени Щорса (партизанская бригада имени Чапаева). Люба рассказывала, что иногда к ним в медсанбат доставляли раненых партизан. В детдоме содержались дети от трёх до четырнадцати лет. Старшие несли на руках младших. Ночь была очень темной. Все шли молча, предварительно обувь была обернута лохмотьями, чтобы не создавать шума при ходьбе по снегу. У кого не было тёплой одежды – завернули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши понимали смертельную опасность – и молчали… Их встретила большая группа партизан, которая после прохода детей установила мины и растяжки, это они готовили немцам засаду, ведь рано или поздно фашисты обнаружат то, что дети пропали и бросятся в погоню... А в лесу ожидал санный поезд – несколько десятков подвод. Операция по спасению детдомовцев началась. Когда группа уже была в лесу, то раздался звук моторов множества самолётов. Фашисты объявили воздушную тревогу, заухали зенитки... Это был отвлекающий маневр советских лётчиков, они кружили над Бельчицами, отвлекая от побега внимание врагов. Всех проинструктировали, что, если вдруг в небе появятся осветительные ракеты, надо немедленно садиться и не шевелиться. В партизанском отряде всем были несказанно рады, угощали деток, чем могли. Больше всего детки радовались замороженной морковке ... Теперь дело было за лётчиками. 105–й отдельный гвардейский авиаполк. Лётчики, доставляя партизанам боеприпасы, в обратную сторону начали вывозить детей и раненых. Было выделено два самолёта, мы их называли кукурузники ... Под крыльями у них приделали специальные капсулы–люльки, куда могли поместиться дополнительно нескольких человек, ну и лётчики вылетали без штурманов – это место переделали для маленьких пассажиров.
В ходе этой операции вывезли более пятисот человек.
В начале вывозили раненых и совсем маленьких детей.
Последним рейсом осталось вывезти десять пацанов и девятнадцатилетнюю «маму Валю», но в последний момент привезли тяжело раненных партизан, которые защищали отход детей, устроив преследующим фашистам засаду... Ночь с 10 на 11 апреля 1944 года. За штурвалом самолёта был гвардии лейтенант Александр Мамкин. Ему было 28 лет. Уроженец села Крестьянское Воронежской области, выпускник Орловского финансово–экономического техникума и Балашовской школы. Уже после всего происшедшего стало понятно, что Мамкин был опытным лётчиком. За плечами – не менее семидесяти ночных вылетов в немецкий тыл, две государственные награды (Орден Красного Знамени и Орден Отечественной Войны 1 степени, Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени). Тот полёт был для него в этой операции (которая называлась «Звёздочка») не первым, а девятым. Вместо взлётно–посадочной полосы использовалось озеро Вечелье. Лёд у него ещё был крепок, но сверху уже стояла по щиколотку растаявшая вода. В самолёт Р–5, за штурвалом которого находился самый жизнерадостный лейтенант полка, уместили всех оставшихся мальчишек, воспитательницу Валентину и тяжело раненных партизан.
Взлетели быстро, в полёте лётчик запевал разные песни, подбадривая детей, они же ему подпевали. При подлёте к линии фронта самолёт Р–5 попал в свет прожекторов, и дети сначала услышали свист осколков, а потом только услышали разрывы зенитных снарядов. Самолёт был подбит. Начал разгораться пожар. Линия фронта осталась далеко позади, а самолёт горел… По инструкции лётчик должен был покинуть горящий самолёт и выпрыгнуть с парашютом. Если бы летел один. Но лейтенант Мамкин летел не один, и не собирался отдавать детей смерти. Он кричал им, что всё будет хорошо, чтобы все детки сходили по–маленькому в свою одежду и накрыли ими свои лица, ведь дым уже давно не давал им дышать и они уже ничего не видели. Он кричал им, что не отдаст в лапы смерти, тех, кто только начал жить, тех, кого спасли из лап фашистских докторов, тех, кто пешком ночью убежал от фашистов! Потому он довезет нас, обязательно довезет! Лейтенант Мамкин пел своё любимое «Врагу не сдается наш гордый Варяг...» и вёл самолёт… он маневрировал, пытаясь сбить пламя, но огонь уже добрался до кабины пилота. От высокой температуры плавились лётные очки, прикипая к коже. Горела одежда, шлемофон. Как он вел свою машину в дыму и огне я не понимаю до сих пор. Когда нам привезли лейтенанта Мамкина, то я увидела, что от ног оставались только кости. Я помню запах жареного человечьего тела. Такое не забывается. Дети тоже не хотели погибать и выполняли все, что приказывал лейтенант Мамкин. Закрывали лица мокрыми тряпками, которые моментально высыхали и пели, пели его любимую песню! Как, каким образом, Александр Петрович Мамкин обнаружил площадку для посадки на берегу озера, неподалёку от воды для того, чтобы затушить горящий самолёт, и недалеко от советских частей, чтобы было кому оказать первую помощь, сложно сказать. Горящий самолёт был виден издалека. На земле знали, что в этом самолёте летят из–за линии фронта дети и женщины, и со всех ног бежали на встречу. Мы начали готовить реанимацию, предполагая, что пострадают все. Вот уже в горящем самолёте обрушилась перегородка между детьми и пилотом, у партизан начала тлеть одежда...
Самолёт сел. Мягко и безопасно. Практически на самом краю озера. Все начали выпрыгивать в воду. Тут уже пришла помощь. Бой со смертью Мамкин выиграл.
Мне рассказали о его последней фразе, которая была обращена к подбежавшим к самолёту бойцам:
«Дети живы?»
После того, как он услышал ответ, что все живы, Мамкин потерял сознание и уронил голову на берег озера.
Мы все врачи, опытные военврачи, но ни тогда, ни сейчас так и не смогли объяснить, как мог управлять машиной, да ещё и благополучно посадить её человек, в лицо которого вросли горящие очки, а от ног остались одни обугленные кости? Как смог он преодолеть боль, шок, какими усилиями удержал сознание?
Похоронили лейтенанта Мамкина на следующий день. Был залп. Многократный залп.
Так отдают последнюю честь погибшим офицерам. Любовь Гинзбург закончила свой рассказ тем, что иногда приезжает на воинское кладбище в деревне Маклок (Смоленская область), чтобы просто помолчать.
Она мне подарила осколок от «мамкиных очков».
Теперь это самое дорогое наследство для меня, и если у меня когда-нибудь будут дети, то им по наследству достанется осколок этого стекла, и история, которую мне рассказала военврач Гинзбург из МСБ 442.
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 2 "Без вести погибшие"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие)
Сначала Том 1, а после того, как его прочитаете, Том 2.
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
Предыдущая публикация
Или, история о том, как перевели через линию фронта, три двадцатилетние девушки–партизанки – три тысячи двести двадцать пять детей...
Ситуация на территории Смоленской области была непростой: лютовали фашисты, территория часто переходила из рук в руки – партизанская война. Деятельность партизанского соединения «Батя» под руководством Никифора Коляды, была на слуху у всех нас. Когда узнали, что против партизан и их семей готовят беспрецедентную карательную операцию под названием «Жёлтый слон», то было решено вывести из-под удара всех, до единого местных детей. Итак, как это было.
Июль 1942 года на Смоленщине – это самое страшное время. Фашисты, выполняя приказы из Берлина в борьбе с партизанами и их помощниками уничтожали по десять сёл в день, как правило, сжигая их вместе с жителями.
Особенно жестоко расправлялись с близкими партизан, их перед смертью ещё и пытали.
Сельской учительнице Матрёне Вольской доверили полторы тысячи детей, собранных партизанами с окрестных сёл. Боевая задача – лесами вывести детишек с оккупированной территории, и провезти через линию фронта в тыл. Помогали ей ещё две девушки, учительница Варвара Полякова и медсестра Екатерина Громова. Им было по двадцать лет. Старшей в группе была Матрёна, опытная двадцатилетняя партизанка имела даже орден Боевого Красного Знамени. Он был заслужен ей за неоднократные диверсии и распространение листовок. Да, и ещё, к этому моменту она носила под сердцем ребёнка. Но об этом руководству отряда она ничего не сказала – посылать на задание всё равно было некого. 23 июля 1942 года колонна вышла в свой путь. До линии фронта двести километров. Впереди лес и болото, кругом бездорожье. Поделили детей на три отряда. В первом отряде шли Вольская и ребята постарше, во втором отряде – Полякова с детками помладше. В третьем – Катя Громова с малышами.
Когда наступала ночь – заходили на несколько сот метров в лес. Утро начиналось с разведки – Матрёна быстрым шагом проходила вперёд, километров на десять, потом, если впереди было чисто вела свой отряд по проверенной дороге, если было чего подозрительное, то обходили...
Чем питались? Сухарями, ягодами, грибами, лесными цветами, одуванчиками и подорожником. Воду пили в ручьях, потому что в сёлах, в колодцах, вода была отравлена – фашисты в них сбрасывали трупы расстрелянных селян или партизан. Был случай, что вышли к реке (вышла первая группа – самые старшие), и дети без разрешения бросились к ней, а с другой стороны реки находилась группа немцев, которые со смехом начали стрелять по детям, (видимо просто хотели испугать или развлечься). Хорошо, что мгновенно сориентировались и вернулись в лес – ранило только одного ребёнка!
По дороге встречали разграбленные и сожженные сёла, в которых отыскали несколько маленьких деток, которые спрятались в лес во время карательных акций фашистов и вернулись на пепелище в поисках родителей и пищи.
Теперь по лесу шёл отряд численностью 3.225 человек.
Отправляя их в такой немыслимый путь, даже сами родители-партизаны не верили до конца в то, что дойдут все. Понимали и решили, что лучше пусть хоть один шанс у детей выжить так, чем достаться фашистам на убой в детском концлагере... Боевая подруга Матрёны, Варвара, тоже не верила в успех, глядя на неподдающиеся подсчёту количество детей, а спустя годы, смеялась над собой, ведь все свои ценные вещи она, при расставании, раздала своим родственникам, чтобы они напоминали о погибшей в лесу Варваре!
Начало августа 1942 года было дождливым, но настроение ливень не испортил, когда весь отряд вышел, наконец, на железнодорожную станцию. Там для деток был приготовлен сухой паёк – 500 килограмм чёрного хлеба. Когда разделили, то оказалось, что на каждого ребёнка пришлось по 150 граммов хлеба. Взрослые (встречающая сторона) даже предположить не могли, что выйдут все! Позже деток забрал специальный поезд, который их отвезёт за Урал. Шла война, наши отступали к Сталинграду, был оставлен Севастополь, Кубань, фашист рвался к Кавказу, потому было ли кому дело, до уже спасённых детей? Не было. Без еды, элементарных лекарств дети начнут болеть и умирать – это было очевидно, потому Матрёна на каждой станции телеграфировала в города, которые лежали на их пути: «Примите! Примите! Примите!». Помогали всем миром – не умер (даже не заболел) ни один ребёнок из трёх тысяч двухсот двадцати пяти! В итоге деток принял город Горький – сейчас это Нижний Новгород.
Вольская Матрёна Исаевна, псевдоним «Месяц»
Книгу об этих событиях написал партизан Леонид Новиков, именно он был в числе тех, кто отправлял этот отряд в путь. После окончания войны большинство из спасённых детей вернулись к себе домой, но некоторые остались в Горьком, как Матрёна Исаевна.
До 1970 года о том, что совершила эта учительница, никто ничего не знал. Потом Леонид Новиков со своими учениками собрал материал для книги, которую назвал «Операция Дети». Она вышла с настоящими именами и фамилиями и о героине узнала вся страна!
Сама Матрёна героиней себя не считала, говорила, что в то время, так бы поступил на её месте каждый.
Такая была у нас страна, такие вот жили в ней люди...
В 1995 году, к 50-й годовщине Великой Победы, у дороги, ведущей в поселок Пржевальское, рядом с Воробьевским перекрестком, в торжественной обстановке был открыт памятный знак «Операция «Дети». На табличке, которая прикреплена к памятнику, написано:
«Здесь проходила тропа жизни, по которой летом 1942 года из фашистской оккупации с помощью партизан и подпольщиков было выведено в тыл страны более 3 000 детей и подростков»
К 80-летию легендарной партизанской операции "Дети", в областном центре установлен новый памятник
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 2 "Без вести погибшие"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие)
Сначала Том 1, а после того, как его прочитаете, Том 2.
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
Предыдущая публикация
Как-то, уже после далеко войны, меня познакомили с Игорем Стечкиным. Я не поверил своей удаче, ведь увидеть легенду и пожать его крепкую, сухую и мужественную ладонь, это на самом деле – здорово. Мы познакомились на дне рождения, моего, как оказалось общего боевого товарища. И конечно, за столом Игорь был в центре внимания. О своём гениальном изобретении он рассказал так:
«В юности у меня прослеживался оружейный талант, но вот отношения с воинской службой и с армией вообще не сложились. А в 1941 году, незадолго до войны, выдали «белый военный билет», освободили от службы в армии, в связи со слабым зрением. С тех пор я всегда носил большие, тёмные очки. После неудачи с военной службой я уехал в Тулу, куда моя семья переехала в 1935 году в полном составе, и продолжил, оставленное некогда обучение в Тульском механическом институте.
Нужно признать, что сама специальность и направленность отделения уже тогда, вероятно, предопределили мою судьбу, как советского оружейника. Я был целиком и полностью поглощён обучением на оружейно-пулеметном отделении. А когда подошёл срок, то я выбрал в качестве дипломной работы тему проектирования и производства самозарядного пистолета калибром 7,65мм. Вот и экзамен, и тут, в ходе экзамена, стало экспертам и членам экзаменационной комиссии ясно, что чертежи пистолета, которые я предоставил для изучения, кардинально отличаются от выпущенных ранее образцов стрелкового оружия. Один из членов комиссии, вникая в чертежи молодого выпускника (преподаватели сомневались в том, что будет работать автоматика перезарядки при стрельбе) обронил фразу: «Молодой человек, пистолет, чертежи которого Вы предоставили, – потом посмотрел в зачётку, улыбнулся и продолжил, – Игорь Яковлевич, миленький, стрелять не будет и не может!». Знаете, что я сделал? Я достал из кармана заранее собранный опытный образец пистолета, улыбнулся, именно с целью доказать работоспособность механизма, мне пришлось стрелять, ну и произвел три выстрела холостыми патронами в потолок.
Улыбаться они перестали. Все.
Потом меня отправили домой с отметкой «отлично» в красном дипломе, а пистолет, которым я впечатлил комиссию, до сих пор хранится в музее Тульского государственного университета. Кстати, у нас в семье все так проекты защищают, первым «защитился» мой отец - он собрал минитрактор и защищал с этим проектом диплом в сельхоз.институте, а преподаватели сказали: он не поедет. а мы на нём по деревне гоняли, обкатывали».
Мы настолько долго веселились, после рассказа Игоря Яковлевича, что болели потом у всех животы...
Шутки сыпались со всех сторон:
– Через 50 лет будут говорить, что он стрелял боевыми через дымоход по комиссии, когда она пролетала над его домом.
– А следующим сдал Калашников. Сдал автоматом.
– Про Сухого рассказать?..
– Что там рассказывать? Принес ящик сухого и всё сдал.
– Ну так еще гангстер Аль Капоне говорил, что «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».
– Человек точно знал, что убедит комиссию одобрить его дипломную работу!
– Кто следующий на защиту?
– Курчатов..
– Всем в бомбоубежище!
– Или так, Курчатов посмотрел в зачётку, а очки с собой не взял, потому вместо «отл» прочитал «вкл»!
– Да, и на следующее утро к нему приходит следователь и говорит: «Ну всё, собирайтесь, гражданин учёный, поедем в тюрьму.
Жить!»
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 2 "Без вести погибшие"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие)
Сначала Том 1, а после того, как его прочитаете, Том 2.
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
Предыдущая публикация
Девочка-подросток, глядя на то, как сытно позавтракав, побрившись, постирав бельё, солдаты вермахта погрузились в свои машины и самоходки, и начали покидать городок, спросила у отца:
– Немцы убегают?
Отец ничего не ответил, просто устало кивнул головой...
Утром в городок вошли советские солдаты. Конец осени, шёл мелкий дождь, техника вся в грязи, кто-то находился на танке, но большая часть шла пешком. Сами солдаты в грязи, в болоте, уставшие, не бритые, они медленно, но очень уверенно и профессионально вступили в городок, проверив каждый дом, чердак, подпол, и не найдя ни одного немца, тут же расположились на постой, и большая часть легла спать, видимо переход был длинным. Кто-то играл на гармошке, повара готовили еду, танкисты залезли под свои танк, прямо в грязь, и что-то там ремонтировали.
У девочки появилось странное ощущение, что война для их городка закончилась, тогда она опять спросила у своего отца:
– Отец, почему мы немцам отдавали всё самое лучшее, но они, забрав у нас последние припасы, убежали, русские же голодны, но ничего у нас не забирают, они прежде, чем взять ведро для воды, спрашивают у нас разрешения...
– Они считают нас людьми, дочь, а немцы считали нас своей прислугой, рабами.
– А почему, отец, такие сильные, чистые, выбритые немцы убегают от русских, которые зашли к нам, и половина из них спала на ходу, и я вижу, что эти люди измождены, обувь у них истоптана, много раненых с грязными бинтами, и большей половины солдат нет и двадцать лет!
– Посмотри внимательно в их глаза, дочь, этих молодых и раненых солдат никто не остановит, они даже убитые дойдут до Берлина...
На фото Т-34-85 гв.мл. лейтенанта А.П. Оськина в населенном пункте Оглендув (Польша)
Бойцы в окружении польских женщин и детей.
Александр Петрович Оськин (на снимке он чуть левее от центра).
1941 год – командир танка Т-26 (18-го танкового полка).
Участвовал в обороне Москвы и 18 октября 1941 года был тяжело ранен. В июле-сентябре 1942 – радист-стрелок танка Т-34 163-й танковой бригады, в сентябре-октябре 1942 – радист-стрелок танка Т-34 56-й танковой бригады (Сталинградский фронт).
Участвовал в обороне Сталинграда. 29 октября 1942 года был тяжело ранен и контужен во время налёта вражеской авиации и отправлен в тыл. С января 1944 года вновь на фронте. В январе-июне 1944 – командир танка Т-34-85 5-го отдельного учебного танкового полка (1-й Прибалтийский фронт), в июне-декабре 1944 – командир танка Т-34-85 53-й гвардейской танковой бригады (1-й Украинский фронт). Участвовал в боях на витебском направлении и Львовско-Сандомирской операции. За время войны семь раз горел в танке.12 августа 1944 года, действуя в составе танковой группы, на подступах к деревне Оглендув (Сташувский повят, Свентокшиское воеводство, Польша) отразил атаку превосходящих сил противника в составе 11 танков. В бою уничтожил три новейших вражеских танка «тигр», а один танк повредил.
13 августа 1944 года его танк одним из первых ворвался в деревню Оглендув и уничтожил десятки вражеских солдат.
В ходе этого боя были захвачены три танка «тигр». За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года гвардии младшему лейтенанту Оськину Александру Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С января 1945 года – слушатель командного факультета Военной академии бронетанковых и механизированных войск. Из-за последствий контузии в декабре 1945 года был вынужден прекратить обучение. До января 1952 года служил в парке учебных машин Военной академии бронетанковых и механизированных войск: старшим механиком-водителем, командиром взвода, заместителем командира и командиром роты иностранных танков. Освоил все типы отечественных и несколько типов зарубежных танков того периода.
=====
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 2 "Без вести погибшие"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие)
Сначала Том 1, а после того, как его прочитаете, Том 2.
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
Долины Смерти Великой Отечественной. Ржев, Мясной Бор, пойма рек Ока и Зуша.
Как описать то, что там творилось? Как описать, чтобы современный человек увидел ситуацию глазами тех, кто там был в самом центре?
Я попробую опереться на воспоминания девочки–санитарки, которая пережила одну из таких «Долин» и дошла до Берлина.
«Когда я прибыла на фронт с пополнением, то буквально на следующий день для меня, совсем необстрелянной санитарки, прошедшей разве что два курса мединститута, начался ад. Не успев расположиться и познакомиться с теми, с кем буду воевать, как вечером приходит приказ: атакуем в 6.00. Гнетущая обстановка, из «стариков» два врача и четыре санитара, остальные вновь прибывшие – «молодняк», как я.
По разговорам всем всё в подразделении было в общем-то, понятно, их опыт, которым со мной делились, говорил о том, что ничего хорошего из этого наступления не выйдет. Достигнуть результата не получится, не готовы мы, бойцы не обучены, артиллерии мало, но и не атаковать нельзя, потому как приказ. И вот моя первая бессонная ночь перед боем. Атака. Бойцы штурмуют немецкие позиции, попадают под огонь немецкой артиллерии и пулемётов, стараются подобраться достаточно близко к немецким окопам, но не получается – отходят назад. Потери не то, что большие – громадные. Я и остальные санитары работают, вытягивают под непрерывным огнём раненых. Я вытащила двух, но после захода солнца, когда всё успокоилось, узнала, что среди бойцов медсанбата потери 2/3 личного состава. Такие же, если не больше потери в нашем пехотном полку. Спустя несколько дней всё повторяется. Потери растут. Меня, как кто-то хранит свыше. Всех вокруг убивают, а у меня ни царапины. Толком не успеваю знакомиться с пополнением. Утром прибыло двадцать пять человек санитаров, на следующий день после атаки – в живых четверо. Из них трое ранены и увезены в госпиталь. Я в который раз одна с сотней раненых бойцов, которые сами пытаются мне помочь, перевязывая друг друга. Сплю по пять минут, после каждой перевязки. Перевязываю сутки без остановки, без всякой надежды, что быстро пришлют пополнение. Смерть. Кишки. Оторванные руки и ноги, и бесчисленное количество погибших, большей частью даже необстрелянных солдат, которые приняли свой первый и, как оказалось, последний бой. Война продолжается. Я свыклась с мыслью, что каждый день живу, как последний, и каждое следующее утро, как подарок свыше. Опять приказ и бойцы из пополнения опять атакуют и атакуют. Мы выносим и перевязываем. В короткие времена передышки из разговоров становится понятно, бойцы осознают, что из этого степного ада есть только две дороги: либо ко мне в медсанбат и далее в госпиталь, либо в могилу.
Причем могила в нашем случае понятие относительное. Все погибшие лежат слоями прямо на поле брани. Не забирают даже офицеров. По началу пытались, но фашист пристрелял каждый метр перед своими позициями, а ночью пускают бесчисленные ракеты, потому светло, как днём. И лежат солдатики, постепенно дождями и землёй всё глубже смываемыми в землю. Безнадёга и депрессия полнейшая. Подымают нам настроение водкой и частушками. Не всегда, но помогает. К смерти многие относятся, как к избавлению...»
От автора
Вот такой вот, рассказ ветерана из самого центра «Долины Смерти». Сейчас становится понятно, что сложившаяся боевая обстановка дело рук не «тупых командиров». Им приказали, и они долбят в одно и тоже место фашистской обороны. Отказ от того же долбления в одно и тоже место, например в Сталинграде, привёл бы к скорому краху 62 и 64 Армии. Просто такова была военная тактика самого ведения войны в 1942 году. Потому нельзя обвинить командование в тупости. Ведь не начни наступление Красной Армии в ноябре 1942 года – немцы бы выдвинули свои резервы под Сталинград не из Франции, а из-под Ржева. Доехали бы они до места назначения намного быстрее. Немцы и так не верили в такую глубину операции «Уран». Они даже предположить не могли, что русские справятся со снабжением такой массы отмобилизованных войск. Да и кто мог в ноябре 1942-го сказать, что под Сталинградом контрнаступление получится (после стольких-то неудач!), а под Ржевом – нет? Но всё это анализ ситуации с высоты моего дивана, а для солдат Красной Армии Ржев в ноябре и декабре 1942 года выглядел полной безнадёгой. Приказ. Атака. Неудача или минимальное продвижение войск ценой громадных потерь. Заняли деревню. Потеряли деревню. Приказ. Новая атака. И надежды на её успех, столь же мало, как и раньше. Потери сначала десятками тысяч, потом сотнями тысяч. По сути, неисчислимы ни тогда, ни сейчас.
Масштаб этого кошмара наяву я просто не могу описать, но стараюсь.
И вот бабушка Нюра, а когда она мне всё это рассказывала, та санитарка, которая пережила Ржев и войну, была уже бабушкой, продолжает свой рассказ:
«Очередной приказ атаковать. Нас собрал командир пехотной роты. Молоденький такой капитан, Серёжа звали. Собрал и говорит что-то, а мы все вокруг понимаем, что приказ на атаку, это скорее всего смерть. Потому как задача стоит преодолеть рубеж и закрепиться в немецких окопах. Ротный продолжает нам говорить, что, пожертвовав собой, мы, бойцы Красной Армии, позволим другим выиграть немного времени и защитить, ещё не захваченные немецко-фашистскими захватчиками территории, а возможно и отбросить врага назад. Упомянул про заградотряды. Тогда в моей жизни это было впервые. Помню, как у меня случилось небольшое затмение в голове, и начали проноситься воспоминания о мирной жизни, где я, студентка мединститута, влюблена и счастлива, и у меня всё-всё впереди... И тут у меня появляется дикое желание пережить эту атаку. Спасти десяток, нет, два десятка раненых и выжить самой! Мы не преодолели даже половины... В этой атаке большая половина роты погибает на моих глазах. Когда вытаскивала четвёртого солдатика меня зацепил осколок, сделав мне дырку в шее. И вот я чудом, как сказал хирург Степанов, выжила и отправлена в тыловой госпиталь на длительное излечение.
Спустя год, в конце 1943 года я возвернулась на фронт. Ситуация уже поменялась тогда. Наши потери минимальны, а вот у фашистов, которые начинают бросаться в самоубийственные атаки, потери громадны. Часто начали перевязывать попавших в плен немцев, которые выглядят потухшими и безжизненными, и их становилось даже немного жалко. Даже закурить иногда давала, но спустя две недели я увидела освобожденный нашими войсками концлагерь, Шталаг по-ихнему, приняла раненых узников, и после разговоров с ними поняла, что фашистов жалеть нельзя – их надо уничтожать, как бешеных псов!
Всех без исключения!
Моя война продолжается. Атаки. Ползём. Тащим. Перевязываем.
И вот у нас впереди Берлин. На дворе 1945 год. Понимаем, что немцы истощены и бросают в атаки свои последние резервы. Во время одного из уличных боёв в предместье Берлина – Бранденбурге, мне в медсанбат приводят трёх раненых детей – 13-летних бойцов фольксштурма. Два из них умирают от осколочных в живот. Когда умирали, то звали маму. Один в бреду просил принести свою игрушку – деревянного слоника, к тому времени я уже хорошо понимала немецкий. Я его не спасла, это было невозможно, обширное кровоизлияние в живот, но у меня почему-то прошла ненависть к немцам. Не знаю почему. Как рукой сняло. 25 апреля 1945 года поступает приказ о начале берлинской наступательной операции, и мы пошли вперёд. Нам было приказано удержать плацдарм. Бой был страшный, потери опять огромны, на нашем участке оборону мы удержали с помощью трофейной «Пантеры». Как остальные справились – не знаю, но справились.
2 мая 1945 года немецкий гарнизон капитулировал. Война окончена. Я вместе с госпиталем переезжаю в родной Донецк.
Заканчиваю мединститут и работаю в детской больнице, а после работы вместе со всеми жителями восстанавливаю город. А потом вся наша семья переезжает в Таджикистан. Там построили новую детскую больницу и мне предложили должность главного врача. И вот, спустя сорок лет, я в окружении многочисленных внуков, показываю фотографии тех, кого я спасла – вытащила с поля боя, и кто меня нашёл и написал мне письмо, приложив фото. Вспоминаю войну, будь она неладна и проклята, и надеюсь, что она больше никогда не повторится».
От автора
Можете себе представить речь командира роты, о том, что надо пожертвовать собой дабы выиграть время, когда задача не выигрывать, а занять, например, деревню? Понимая, что с высоты командира роты по имени Серёжа, стратегических целей всего происходящего на поле брани не видно вообще. Если подняться на уровень командующего фронтом, тоже не представляю обсуждений в таком варианте «что от этого наступления не будет никакой пользы фронту, но хоть немцев отвлечём от Сталинграда».
Мне и сейчас непонятно, как она могла жалеть немцев, ведь все тогда прекрасно знали, что немцы творили на нашей территории.
Следующий раз я разговаривал с бабушкой Нюрой в 1997 году, как она выразилась «их пинком под зад» вышибли из Таджикистана, лишили квартиры, имущества, денег, работы, многих и жизни, но ей опять повезло, и она возвращается в Донецкую область, где пытается получить гражданство... Мы ей помогли, конечно. Я не знал, что ответить на её вопрос: «Что это такое вокруг происходит-то?» – когда она видела по телевизору социальную украинскую рекламу, в которой бывший эсэсовец обнимается и целуется с бывшим ветераном Советской Армии.
Бабушка Нюра, не смотря на свои тяжелые ранения, дожила до 2014 года. Она погибла под руинами собственного дома, спасая своего трёхлетнего правнука Мишку после ночного обстрела «градами» украинской армией. Их засыпало в подвале, она прикрыла его своим телом...
Вот такая вот судьба у человека, у девочки–санитарки, которая пережила Ад войны, Ад погромов в Таджикистане, и не смогла пережить Ад братоубийственной войны на Донбассе.
* * *
Первый раз во мне что-то сломалось, когда мы с друзьями проехали по тем местам. Там стоят таблички с тысячами имён... с десятками тысяч имен на каждом клочке земли. Читающему эти строки нужно просто попробовать осознать, сколько людей у которых были свои планы на жизнь, свои мысли и желания, расстались с жизнью, только с одной мечтой –дать всем нам шанс жить полноценной, не рабской жизнью...
...Ельник растет в лесу ровными рядами, значит, здесь есть погибшие, председатели местных колхозов давали указания распахивать места боев тракторами, и плуги тащили как можно дальше от тракторов – иногда срабатывали мины...
Трактора шли прямо по останкам наших воинов. Через год, на этих местах высаживали деревья, как правило – ёлки. Вот они сейчас и выросли на этих полях, своими ровными рядами говоря тем, кто понимает, почему они здесь. Обращайте на такие лесополосы внимание, ведь обычно деревья в лесу растут хаотично – значит, запахивали.
...Очевидцев тех боёв найти сложно – сёла исчезают, свидетели тех далёких событий стареют или переезжают, растворяясь среди других жителей страны. Одна из немногих, с кем встречались – Валентина Степанова, жительница деревни Юдино Островского района теперь живет в Пскове, но еще помнит, как в детстве хоронила солдат:
«Когда брали Псков, недалеко от нашей деревни Юдино были вырыты траншеи. Я уже ходила в 7-й класс. Весной на этих окопах солдаты лежали убитые. И мы ходили с лопатами, переворачивали их, в этот же ров зарывали, который потом трактор запахал. И ещё закапывали убитых в поле. На другой год посеяли здесь овёс. И там, где были солдаты зарыты, вырос овёс зеленый-зеленый, он очень сильно отличался от остальных колосьев. Вот в этих местах лежали мертвые солдаты. Знали, все знали об этом…».
Только с 1 мая 1944 года стало действовать «Наставление по учету личного состава Красной Армии (в военное время)», где определялся порядок погребения погибших.
В пункте №108 говорится:
«Вынос убитых с поля боя и погребение их является обязательным при всех условиях боя». Для могил требовалось выбирать лучшие места – сухие, видные, на возвышенностях. Также предписывалось устанавливать временные или постоянные памятники с указанием воинских званий, фамилий, имен и отчеств погибших, а также дат их гибели. Раньше, при отступлении, так не делали. Хотя есть и единичные случаи, но при понимании потерь с 41-го по 43-й и количестве правильно оформленных могил, становится понятно, что это капля в море...
История одной фотографии
14 апреля 1942 года снайпер 30-й армии Калининского фронта младший сержант Кузьма Захаров в боях за Ржев довёл свой боевой счёт до 27 убитых немцев и двух убитых немецких лошадей. Сам подготовил 8 снайперов.
Погиб в бою подо Ржевом в сентябре 1942 года. На момент гибели уничтожил 100 нацистов.
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 2 "Без вести погибшие"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие)
Сначала Том 1, а после того, как его прочитаете, Том 2.
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
Северная Осетия. Маленькая, но очень гордая республика, которая всегда гордилась своими сынами. Село Дзуарикау. Вся мужская часть села ушла на фронт – почти триста мужчин.
В семье Газдановых, которые жили в этом селе, было семеро сыновей – на фронт ушли все.
Первый, самый старший, Махарбек, погиб в 1941 году, в контрнаступлении под Москвой.
Последнее письмо пришло от него 5 декабря. Этот день в России празднуется, как день великого подвига – День Воинской Славы... Надломили тогда хребет фашистам... В тот день, когда принесли первую похоронку в дом Газдановых, его мама Тасо стала полностью седой...
Город–Герой Севастополь обороняли два сына из семьи Газдановых. Погибли они один за другим. Почтальон очень долго не решался постучать и просто сидел перед домом Газдановых, сидел и молчал. Мама Тасо вышла сама. И, когда почтальон Алибек достал вторую похоронку, на Хаджисмела, у матери отказало зрение – она в миг ослепла, почтальон это не понял и, когда он достал из почтовой сумки третью похоронку, то мама Тасо спросила, что ты мне даешь в руки, Алибек, письмо?
Алибек ответил, что это похоронка на её третьего мальчика, Магомета... Взяв похоронку в руки, она сжала до судороги серый конверт и осела на землю... мама Тасо умерла. Так её и похоронили с извещением о смерти третьего сына Магомета Газданова в руке.
Четвертую, пятую и шестую похоронки уже приносили отцу Асахмету Газданову. Четвёртую – на Дзарахмета Газданова из Новороссийска. Пятая пришла в виде известия от боевого товарища Созирико Газданова, который сообщил отцу о его смерти при побеге из концлагеря.
Шестая извещала о геройской смерти Шамиля. Пал он на подступах к Германии, когда победа была уже видна. Погиб он в Прибалтике. 9 мая 1945 года вся страна праздновала Победу над нацистской Германией. Праздновал со всем селом и отец Газдановых – Асахмет, надеялся, что жив его последний сын – Хасанбек, правда и писем он не писал, но и похоронка на него не приходила, думали, что ранен он... не знал отец, что пропал без вести ещё в 1941 году... Но выяснилось это только после Победы.
Было это так. В июне 1945 года письмоносец–инвалид, который сам потерял на войне, помимо руки и трёх своих братьев, отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых – Хасанбека... И тогда старейшины села решили, что они сами должны пойти в дом Газдановых и рассказать ему эту страшную, черную весть... Отец сидел на пороге с единственной внучкой Милой на руках и учил её шитью. Асахмет увидел, как идут к нему старейшины, вместе с почтальоном, и сердце его не выдержало. Он умер, так и не увидев похоронку на своего последнего сына...
Северная Осетия (Алания) небольшая, но богатая на бесстрашных воинов республика. Так 34 воина–осетина стали Героями Советского Союза, за время Великой Отечественной Войны... и ещё 8 осетин стали Героями, но они призывались не с Осетии... В 1963 году в селе Дзуарикау установили обелиск. На нём было изображено семь улетающих птиц (журавлей) и скорбящая мама Тасо. Название дали позже в честь песни «Журавли», которую написал дагестанский поэт Расул Гамзатов.
Так выглядел памятник в 1963 году
Сам поэт много слышал об этой истории и решил приехать из Махачкалы, где он жил и посмотреть на памятник, ну и пообщаться с теми, кто знал его историю из первых уст. Узнал. Гордым кавказским мужчинам не к лицу слезы, но Расул их не смог сдержать. Он плакал, глядя на памятник и слушая рассказ Милы Газдановой...
За некоторое время до этих событий...
...Под сильным впечатлением, во время поездки в Японию, он написал стихотворение на своем родном аварском языке.
Его друг Наум Гребнев, перевёл это стихотворение на русский язык.
Я думаю, что этот перевод знаком каждому:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли, когда–то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из–под небес по–птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Но вы сейчас прочитали и, надеюсь, вспомнили окончательный вариант стихов и песни. Памятник и песня, какое-то время, жили независимо друг от друга, но пришло время объединиться.
Памятник–обелиск и одноименный стих–песня Расула Гамзатова «Журавли» теперь олицетворяют Память, общую Память нашего народа о Героях, которые смогли отстоять свою землю, смогли переломить хребет нацизму, но не смогли вернуться домой живыми... Это стихотворение, уже на русском языке, попалось Марку Бернесу, и поразило его в самое сердце. Как он сам говорил «легло на душу». Война принесла его семье очень много горя. Марк обратился к своему другу, известному композитору Яну Френкелю, и дал почитать стихотворение. Прочитав, Ян решил написать музыку к этим гениальным стихам.
Но с музыкой у композитора сразу не получилось.
Но об этом позже. Сейчас немного расскажу о нем.
Ян Френкель, был высокого роста. В 1941 году он подделал документы, (стал старше на 5 лет) для того, чтобы поступить в Оренбургское зенитное училище. Окончил его в 1942 году. Принимал участие в боевых действиях, был тяжело ранен и после лечения с 1943 года до конца войны служил во фронтовом театре, играя на рояле, скрипке, аккордеоне.
Следующая история уже уносит нас к переводу этих стихов на русский язык.
Оригинал одной из строчек выглядел так:
– Мне кажется, порою, что джигиты...
Бернес не спал несколько ночей, и, как–то утром попросил заменить слово «джигиты» на «солдаты». С его точки зрения, это слово расширяло границы песни на весь мир.
Далее. В оригинале стихотворения есть такое четверостишие:
«Они летят, свершают путь свой длинный,
И выкликают чьи–то имена
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?»
Марк Бернес решил его не вставлять в песню по ряду причин, хуже от этого не стало, потому решение было принято. Работа по созданию песни началась. Через два месяца Френкель написал вступительный вокализ. Слушали вместе с Бернесом. Оба расплакались. Вокализ был утвержден. Бернес начал торопить события, потому что был болен раком лёгких. Ну и прослушав музыку он понял, что последний шедевр в его жизни должен получится. Последний, он это знал, так как с его болезнью долго не живут. Слабость и проблемы с передвижением не останавливали его, и 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню.
С первого раза.
Без помарок и ошибок.
Так, как она и вошла историю.
После того, как прочитаете эти строки, послушайте ещё раз эту запись, и вы услышите все, абсолютно всё в его голосе, он пел и знал, что жить ему осталось четыре недели, он пел и переживал каждый звук в каждом слове, наполняя глубоким смыслом спетое, потому как сам должен будет превратиться в белого журавля...
Марк Бернес умер 16 августа 1969 года.
Памятник в наше время
Предыдущая публикация из серии Первый круг ада (KZ Auschwitz)
---------------
Отрывок из романа Летят Лебеди, том 1 "Другая война"
Вышлю всем желающим Пикабушникам на почту в формате электронной книги первые два тома (Том 1 – Другая война и Том 2 – Без вести погибшие), третий чуть позже...
Пишите сюда:
weretelnikow@bk.ru
всем отвечу с удовольствием
Пароль Сила Пикабу
--------
Пост повторяю для тех, кто не видел или не читал
Тут ссылка на ютубе с новым роликом и самой бессмертной песней...
Прослушайте её, пожалуйста
Выползло мне прямо в квартире на встречу это чудо, не испугался ни меня, ни собаки, ни кота. Понял, что ему хреново.
Потому первым делом усадил и накормил.
На улице дожди на три дня. Хз что с ним дальше делать
Пока сидит и кушает.
Жена боится, что меда накушается и полетит дом изучать