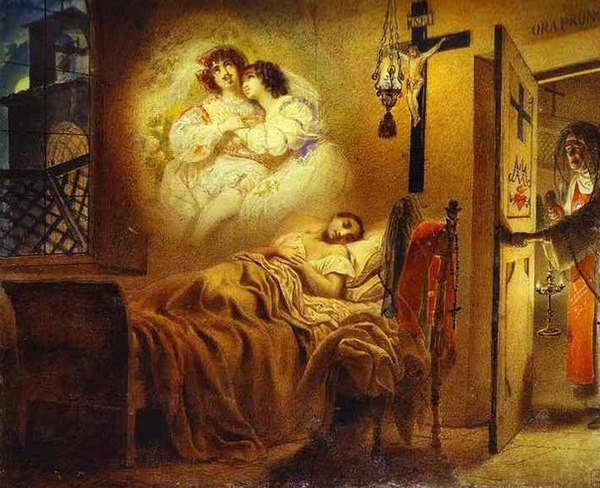От «пустого стула» к «круглому столу» — техника работы с субличностями (2/2)
(окончание, первая часть была вчера)
4.
Первую из имеющихся здесь возможностей можно назвать методом «круглого стола» или меж-субличностных переговоров. При действительном желании часто оказывается возможным так договориться, что все интересы будут удовлетворены. Если не цепляться за «позиции», а смотреть на реальные интересы, нередко оказывается, что материя реальности достаточно пластична, чтобы допустить необходимые трансформации.
Психотерапевт выступает здесь в роли «рефери», который, не вмешиваясь в сам процесс достижения консенсуса, является гарантом объективности и безопасности переговоров. Позже клиент может научиться сам удерживать эту позицию, интериоризовать ее, создавая в себе собственного «рефери»-интегратора.
Эффективная договоренность требует, чтобы все заинтересованные стороны удовлетворили свой интерес, и даже в большей степени, чем рассчитывали. Для этого нужен творческий подход к ситуации. По сути дела это сделать нетрудно, — если это действительно делать, но для этого нужно во время всей этой дискуссии держать субличности на стульях, то есть, с одной стороны, не дать им вскочить со стульев и опять войти в клинч или подраться, а с другой стороны, — что еще труднее — не дать им «рассосаться», убраться под лавку. Нужно, чтобы они настаивали на своих интересах, отстаивали их. Это самая важная вещь: обеспечить не только наличие интересов, но мотивированность к поддержанию переговоров и обеспечение «творческой части» энергией.
Обеспечивается это целым набором условий. Во-первых, важна актуальность для человека самой проблемы. Если проблему можно не решать, а отложить (ну встаю я в десять часов, и Бог с ним, если по условиям жизни я могу себе это позволить), то оно так и будет продолжаться. Но если проблема действительно актуальна, если решать ее надо, если мотив достаточно силен, то это составит необходимое условие того, что субличности на стульях будут продолжать вести переговоры.
Второе условие, столь же необходимое: чтобы заинтересованные субличности продолжали участие в переговорах, у них должна быть обоснованная надежда на то, что из этого что-то выйдет. Чем больше у клиента либо собственного, либо чужого опыта, что это действительно происходит, тем легче обеспечить заинтересованность субличностей в продолжении переговоров. В этом преимущество групповых форм работы, даже если терапевт работает с одним клиентом «горячем стуле», а не с группой в целом. Кроме того важен опыт клиента в отношении межличностных переговоров и психотехнической коммуникации.
Еще одно обязательное условие, которое требует специального аналитического искусства, — участие в переговорах всех (или хотя бы основных) заинтересованных субличностей. Я вернусь здесь к примеру со своим утренним вставанием и немного его разверну. Реально вопрос был вовсе не в том, что мне лень было вставать. Раннее вставание для определенной моей «части» было накрепко связано с состоянием унизительного школьного рабства, когда меня заставляли рано вставать и могли отругать за опоздание, — и все это ради того, чтобы сидеть и слушать, как мой сосед по парте вяло бубнит то, что я и так уже давно знаю. Когда мне удалось объяснить этой своей субличности, что теперь я волен вставать или не вставать по собственному желанию, и ждут меня, когда я встану, интересные и приятные дела, — ситуация сильно изменилась.
Когда наконец достигнуто соглашение о том, как «мы» (субличности) будем вести «себя» в определенных ситуациях, необходима так называемая «пристройка к будущему». Нужно определить условия соблюдения достигнутого соглашения, установить санкции, напомнить каждой из сторон, что она получает при этом все, что ей нужно, и т.д.
Возможны и более сложные ситуации. Например, может оказаться, что выделенная нами субличность представляет не один интерес, а группу противоречивых интересов. Такую субличность нужно дальше раскладывать на составляющие субличности и рассаживать их по своим стульям. Здесь есть свои структурные проблемы: однопорядковы ли получившиеся субличности (то есть можно ли их собрать за одним и тем же «круглым столом») или нужно провести какие-то предварительные группировки и переговоры, и т.д.
Это хорошо видно на следующем примере из области искусства. В юности я имел возможность близко наблюдать развитие одного известного пианиста. У него были две совершенно разные «манеры» для романтиков и для музыки ХХ века — две разные субличности для двух разных «музык». Совершенно иначе звучал рояль, менялось выражение лица и посадка за роялем, как будто играл другой человек. Постепенно по мере творческого роста он эти субличности («манеры») интегрировал в единый более богатый творческий облик, в единую творческую личность. Но вот в более поздний свой период он стал играть на органе. Тут, наоборот, пришлось не синтезировать, а очень резко разделять, потому что на органе играют совершенно иначе, чем на фортепиано, и ему нужно было очень точно, четко и жестко различать, «кто» он в данный момент — органист или пианист: прежде всего это касается аппарата рук, но задействовано и все остальное, весь «строй души» разный. На «предметном» уровне здесь нужна не интеграция, а, наоборот, ясная дифференциация. Конечно, где-то «на высотах» все это соединяется в единой Музыке, но практически необходимы две разные субличности: Пианист и Органист.
5.
Следующая методика — функциональный анализ субличностей.
Неудобная, мешающая клиенту субличность часто «живет» на том, что выполняет определенную функцию в структуре личности. Например, у большинства клиентов есть на службе внутренний Очень Критический Родитель — «Грызла», выполняющая функцию контроля за поведением и деятельностью. Ее невозможно так просто выгнать, уволить, потому что тогда человек остается без контроля.
Необходимо, по-видимому найти других исполнителей на функцию, другие способы исполнения функции. Если функция обеспечена и клиент получил соответствующий опыт, то можно ставить вопрос об освобождении Грызлы от обязанностей грызлы (а также об исключении должности «грызлы» из внутреннего штатного расписания).
Часто субличность выполняет не одну функцию, а три-четыре. Она тем и сильна, потому и может осуществлять свое грызлое дело, потому ее и не прогонишь, что она сидит одновременно на трех-четырех функциях и говорит: «Ну да, с этим ты справишься иначе, а с этим, а с этим?» — И тут нужно «дожать»: сначала проанализировать, понять, каковы эти функции (для этого технически может быть задан вопрос: «Чего ты лишишься, если избавишься от этой Грызлы?»), а потом последовательно обеспечить другой способ выполнения всех (или хотя бы основных) функций этой Грызлы. После этого ее можно будет уволить.
Впрочем, фрейдовская надежда, что достаточно проанализировать и понять, а дальше «само рассосется» (русский перевод латинского «natura sanat») далеко не всегда сбывается. Реально психотерапевту, группе, а главное — самому клиенту, который работает над собой, стремится к собственной свободе, — нужно много чего «дожать». Мы нашли функции, нашли новых исполнителей на них, но исполнителей надо еще «нанять», надо обеспечить действительно другое исполнение функций, Грызлу надо еще на самом деле уволить. И это все специальные волютивные действия, которые надо совершать.
С теоретической точки зрения можно вспомнить, что все основные психические функции возникают в результате интериоризации (вбирания внутрь «себя») определенной внешней коммуникации. В этом смысле субличность — это функция (или набор функций), отягощенная личностными особенностями участников интериоризованной коммуникации, вообще «загрязненная» («контаминированная», пользуясь словечком Эрика Берна) привходящими обстоятельствами. Иными словами, субличность появляется тогда, когда функция или функции выполняются в некоторой определенной (не имеющей необходимого отношения к делу) «манере» и с «добавками», часто далеко не желательными.
Чтобы можно было осуществить перемену исполнителей функции, клиент должен отделить собственно функцию, которая ему необходима, от «добавок», которые портят ему жизнь. Для этого нужно вернуться к исходной коммуникации (которая интериоризована в виде рассматриваемой субличности) и посмотреть на нее новыми глазами. Вот два примера из практики.
Клиентка рассказывает, что хорошо управляется со своими делами на работе и дома, но только при условии, если она сама их себе назначила. Если кто-то (начальник ли, муж ли) говорит, что нужно сделать, — у нее возникает неприятное состояние неловкости, работа валится из рук, и хотя она сама тоже понимает, что сделать ее надо, это дается значительно труднее, чем если бы она делала это по собственной инициативе. Специально следует оговорить, что по многим вербальным и невербальным признакам в данном случае мы не имели дело с простым «подростковым негативизмом»: клиентка — вполне взрослый человек как в смысле физического возраста, так и в своих отношениях с окружающими.
В результате расспросов выясняется, что в ранние школьные годы у нее была учительница, которая очень ее не любила и каждое «ценное указание» сопровождала добавками уничижительного характера. Обобщенно эту коммуникацию можно выразить так: «Ты настолько глупая и скверная девчонка, что тебе специально приходится говорить о том, что другая сама догадалась бы сделать». Разумеется, у девочки это не вызывало энтузиазма. Но вместе с тем, по-видимому, учительница каким-то образом заняла важное место, и коммуникация с ней интериоризовалась настолько, что каждый раз, когда клиентке говорили, что надо сделать, — теперь уже без всяких дополнительных нагрузок, — она чувствовала себя «нехорошей» и униженной.
Выход из этой ситуации таков. Мы вернулись к первоначальной коммуникации и постарались выяснить, что же такое не нравилось этой учительнице. Выяснили, что у нее были свои дополнительные причины (для нашей темы несущественно, какие именно) не любить девочку. Когда с позиции взрослого человека это понято, коммуникацию можно «переиграть», не принимая «добавки» на свой счет. Если учительница научила чему-то важному, это остается достоянием клиентки, а привходящие особенности их отношений, будучи осознаны как личные особенности (если не неврозы) учительницы перестают быть личностными особенностями самой клиентки.
Другой пример. Клиентка обнаруживает в себе тонкое и хорошо компенсированное чувство, что она все время немного «не дотягивает». Выясняется, что ее мать, чувствуя себя неудачницей, все время завышала для девочки планку, чтобы та стремилась, но не могла быть полностью «успешной». Сложившуюся в результате функцию «стремления к все новым достижениям» клиентка очень ценит и не собирается от нее отказываться, а «недопрыг» она вполне может теперь объяснить тем, что мама, образно говоря, незаконно поднимала планку во время прыжка, и отнести эту особенность «на мамин счет», вполне понимая из своего теперешнего положения, какими трудностями в маминой ситуации это вызвано. Интересно отметить, что проведенный субличностный анализ кроме решения исходной проблемы привел еще к значительным изменениям в общении клиентки с реальной мамой: раньше это общение ограничивалось возней по поводу «планки», теперь, увидев, в чем дело, клиентка смогла найти другие области и формы контакта.
Понимаемые таким образом субличности с точки зрения идеальной интеграции подлежат «рассасыванию». В предельном абстрактном идеале должна получиться личность, синтезированная из всех возможных субличностей, а они в ней должны раствориться или синтезироваться. Но это не единственная возможность.
6.
Еще одно направление работы можно было бы назвать воспитанием субличностей.
Приведу еще один личный пример. При каком-то раскладе я обнаруживаю в себе в качестве отдельной субличности четырехлетнего мальчика, имеющего совсем другой опыт, нежели мой собственный: по определенным причинам он в свои четыре-пять лет был отсечен от дальнейшего развития и сохранился во мне в таком виде, каким был в то время. Эта субличность владеет большим запасом энергии и многого другого, мне сейчас недоступного. Я ее (субличность) высаживаю на самостоятельный стул, начинаю с ней разговаривать... И обнаруживаю, что она, эта субличность, мне совсем не нравится.
Я представляю себе, какая «она», эта субличность, то есть на самом деле «он» (желание пользоваться местоимением женского рода, отсылающим к абстракции субличности, а не мужского, указывающего на конкретного сорванца-мальчишку — замеченное мною свидетельство «сопротивления») — шумный, противный мальчишка, который всем страшно мешает. Я даже могу вспомнить, что я таким был, и как я таким был. Я помню, как сначала под внешним давлением, а потом внутренне с этим согласившись, лишал эту субличность возможности «вести себя» (то есть «меня») таким образом. И дальше я понимаю, что «я» (теперешний «я») страшно не люблю таких людей — шумных, никого не замечающих, захватывающих пространство и требующих к себе внимания.
И умом понимая, что ее, эту субличность, надо ассимилировать, я согласен это делать только «умыв и причесав», то есть «перевоспитав» этого мальчишку.
Однако же невозможно, как известно, перевоспитывать ребенка, не вступив с ним в контакт, то есть отказывая ему в том, что на психотерапевтическом жаргоне называется «принятие». Причем это должно быть не пустое и не формальное «принятие», неэффективное и никому не нужное. Это должно быть то самое, что, по Перлзу, называется контактом.
А это значит, что я этой субличности должен сказать, что признаю ее существование как части меня. Для того, чтобы получить возможность «перевоспитывать» этого мальчишку-во-мне, я должен дать ему определенное «право бытия», — ведь «быть» он может только как часть меня (больше-то нигде его нет).
Но такое признание означает нечто очень странное: мне при этом придется признать, что та — «взрослая» — часть, с которой я раньше отождествлял «себя», фактически является тоже всего лишь «частью» меня, и ей придется делиться какими-то «правами» — как минимум, правом на существование-во-мне — с этим мальчишкой.
Такая штука, прямо скажем, дорого стоит, но вместе с тем и очень дорого оплачивается.
Обратите внимание на разницу между холодноватой, рациональной формулировкой: «У этой субличности находится значительная часть моих ресурсов» (и мне бы хотелось заполучить эти ресурсы, а ее саму выгнать куда подальше, чтобы территория нам, а местные жители — в резервацию), — и совсем другой формулировкой: «Я признаю, что ты, субличность, хоть ты мне (то есть — другой, «взрослой» части меня) и не нравишься, — есть «законная» часть меня». — И тем самым я признаю, что та часть, с которой я себя отождествляю, — тоже всего лишь «часть меня». Это значит что то, о чем я раньше думал, что это «я», — не совсем «я», а «я» — это то, что получится, когда (и если — ситуация рискованная!) мы с ней договоримся. Тонкое и хрупкое предощущение правдивости такого предположения является ключом к возможности этой работы. Такое принятие дает мне шанс действительно вступить в разговор.
Тогда я уже не смогу сказать, что «мне» не нравится этот мальчишка. Мне придется сказать, что он не нравится той части «меня», которая получилась, когда его «загнали под лавку». Возможно, к тому же, что многие неприятные черты его, мальчишки, поведения вызываются как раз тем, что ему стараются отказать в праве на бытие — а он это свое право отстаивает, как умеет.
Теперь, когда «я» согласился «подвинуться» и поделиться с этой, ранее фрустрированной частью себя правом на бытие, можно вернуться к вопросу, в чем же может состоять ее, этой субличности, воспитание. «Принятие», как мы договорились, состоит в хотя бы относительном уравнивании в правах «меня» и «ее», сколь бы относительным это уравнивание ни оказывалось практически (понятно, что на первых порах контроль поведения сохраняется за «взрослой» частью «меня»). А «воспитание» может состоять в том, что я допускаю эту субличность — в меру ее возможностей и способностей, которые, разумеется, постоянно растут под моим присмотром моей «взрослой» части, — ко всему объему своего опыта, сохраняя за ней право своей оценки, предлагая ей по-своему прожить этот опыт, — иначе, чем «я» проживал его, когда исключил ее из своего обихода. Это дает «мне» возможность пересмотреть «мои» переживания и оценки, становясь более «целым».
Приведу еще один пример. У девушки лет в девятнадцать был бурный роман, который плохо закончился, с большим эмоциональным срывом. После этого она решила, что «больше никогда и ни за что», и стала строить себя как разумного, рационального человека, а «эмоциональную» часть «загнала под лавку». Получился действительно очень разумный, интеллигентный человек, с которым приятно иметь дело, только живет она почему-то тускло и скучно, и еще демонстрирует характерный невротический симптом — малейшее эмоциональное событие вызывает у нее совершенно неадекватный поток слез. Ясно, что большая часть эмоциональности находится у той части, которая изгнана под лавку, и она, эта часть, лишенная реального опыта проживания различных ситуаций, импульсивна, неконтролируема, инфантильна, — и прочее, что мы все так не любим в себе и в других.
Допустить эту часть до всего жизненного опыта — это значит, что все то, что клиентка прожила после того, как исключила ее из своей сознательной жизни, надо пере-прожить заново, вместе с ней, с ее эмоциональностью. Посмотреть: «Как бы я, если бы я была она, реагировала на ту или иную ситуацию». На каждом значительном событии из прошлого можно сопоставлять «свои» и «ее» оценки. Съеденный таким образом пуд соли послужит хорошим основанием для интеграции.
Вот так от сравнительно простой гештальттерапевтической техники мы приходим к глубокой проработке проблем интеграции личности, которая может состояться как гармоничный ансамбль субличностей, ранее не имевших возможности контакта, поскольку они находились — в гештальттерапевтических терминах — либо в изоляции друг от друга, либо в слиянии.
Автор: М.П.Папуш. Опубликовано на личном сайте.