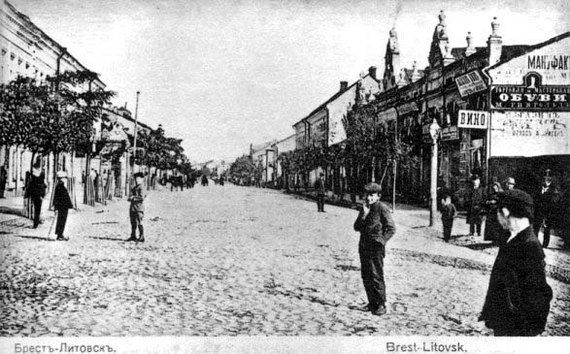История Бреста 49. "Польское кладбище". Проект "В поисках утраченного времени" от 12 февраля 2010
(Это все не мое, а с сайта газеты Вечерний Брест.
(ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)
Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.
Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)
О неизвестном пилоте, чью могилу на католическом кладбище Бреста отобразил карандаш Владимира Губенко, знаем лишь то, что печальная надпись на памятнике датировалась 30-ми годами. Польская авиация тех лет ассоциировалась с именами военного летчика Францишка Жвирки и авиаконструктора Станислава Вигуры, которые на маленьком самолете облетели вокруг Европы, преодолев 5 тысяч километров. В другом полете Жвирка установил мировой рекорд высоты для легких аппаратов – 4004 метра. А 11 сентября 1932 года информационные агентства передали сообщение, повергшее страну в шок. В воскресное утро двухпилотный RWD, державший курс на воздушный праздник в Прагу, попал над словацкой границей в страшную бурю. С оторванным крылом самолет рухнул на землю.
Останки летчиков и машины были привезены в Варшаву. Характер похорон и оказанные почести соответствовали высшему государственному разряду. Улицы и площади столицы были залиты людским морем, процессию возглавляло духовенство и первые лица страны. Гроб Жвирки несли военные, Вигуры – инженеры. На месте катастрофы тем временем работала специальная комиссия. Спустя несколько месяцев среди полувековых словацких сосен поднялась красивая каплица, а в Варшаве имена Жвирки и Вигуры были увековечены в названии улицы.
Брестского летчика, который не был национальным героем, хоронили, понятно, скромнее, но гибель пилота в мирное время неизбежно находит романтический отклик. Памятник с пропеллером («смигло», как говорили при Польше) стал на два десятилетия достопримечательностью кладбища на ул. Девёнтэго Лютэго (нынешняя Пушкинская за переездом).
Однажды рассохшихся от времени клееных лопастей не стало. За кладбищем уже не смотрели: в конце 40-х – начале 50-х закрыли костелы, посадили ксендзов, основная масса поляков выехала в Польшу по линии репатриации. Поговаривают, что большую часть исчезнувших памятников и скульптур уничтожила развлекавшаяся молодежь, особенно доставалось изящно вылепленным мадоннам, которых было великое множество. Сыграло свою роль и открытие пункта приемки металлолома на ул. Володарского. Благо не дошли руки до могил танкистов-панцерняков (к слову, почти соседствующих на погосте с летчиком): кресты из элементов передаточного механизма танкетки и гусеничные оградки устояли перед временем и вандалами. Вандалы эти давно выросли и остепенились – кому под полтинник, кому и за шестьдесят, но содеянное с ними навсегда…
Надо сказать, до войны польское кладбище занимало заметно большую территорию – усекли его из практических соображений немцы. С юга отрезали метров тридцать под расширение вагоноремонтного депо, а ряды могил у восточного забора перестали существовать ради подъездного пути – так устроили 1-й Минский переулок в его сегодняшнем виде (при Польше была короткая, до первого перекрестка, неширокая дорожка вдоль левой оконечности кладбища, носившая название «ул. Смутна» – Грустная).
Депо возвели еще в XIX веке, когда прокладывали киевскую ветку железной дороги, в 1941 году немцы его расстроили, возвели ангары, в которых вагоны можно было ремонтировать под крышей, и дополнительные мастерские. Привезли подразделения железнодорожных рабочих в темно-синей форме.
Ворота депо выходили на дом Косенюков. Тамаре Александровне Акуловой (в 1941-м ей, Томе Косенюк, едва исполнилось пятнадцать) запомнился статный немец с золотыми галунами, которого читавшие Мопассана киевские барышни называли «Мужчина бэль-ами» (от французского «Bel Ami» – «Милый друг»). Скибэ, так звучала фамилия немца, любил покрасоваться у ворот в артистической позе, девчонки на него заглядывались. Однажды при выдаче пайков он приказал наделить «вон ту темненькую» – Тамаре потом со смехом сообщили, что это Скибэ похлопотал…
Железнодорожных строителей мобилизовали по всей Европе, было много сербов, поляков. Это называлось «бау-цуг» – строительный поезд. Рабочие были не прочь приударить за девушками, и за одного из них, 29-летнего Бронека Печака, на излете оккупации вышла замуж 19-летняя подруга Тамары Ирена Казимерчак. Обвенчались в костеле и в том же 1944 году, не дожидаясь прихода освободителей, уехали в Польшу.
За неделю-две до сноса могил населению довели срок, в который следовало произвести перезахоронение. Весть разлетелась по городу, и люди, конечно, взялись за лопаты. Среди многих перезахороненных – прах брата упомянутой Ирены Казимерчак Стэфана.
Брестчанка Регина Владимировна Корвина, 1929 года рождения, при жизни поведала мне следующее: «Летом перед войной от воспаления легких умер мой дед. Его похоронили на польском кладбище, а в начале оккупации перенесли останки в другое место. Часть кладбища тогда отдали под железнодорожные мастерские, которые стоят и теперь. Что-то мешало немцам строить по костям – вывесили объявление, предлагая родственникам произвести перезахоронение до начала строительства. Правда, места отвели мало, приходилось ставить гроб на гроб или «подселять» в просторные склепы. Могилы, на которые родственники не нашлись, немцы вскрыли сами, погрузили гробы и кости на машины и увезли в неизвестном направлении».
По другим свидетельствам, ничего немцы не раскапывали, а просто сбросили бесхозные памятники, и часть могил остались лежать под дорогой.
ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ