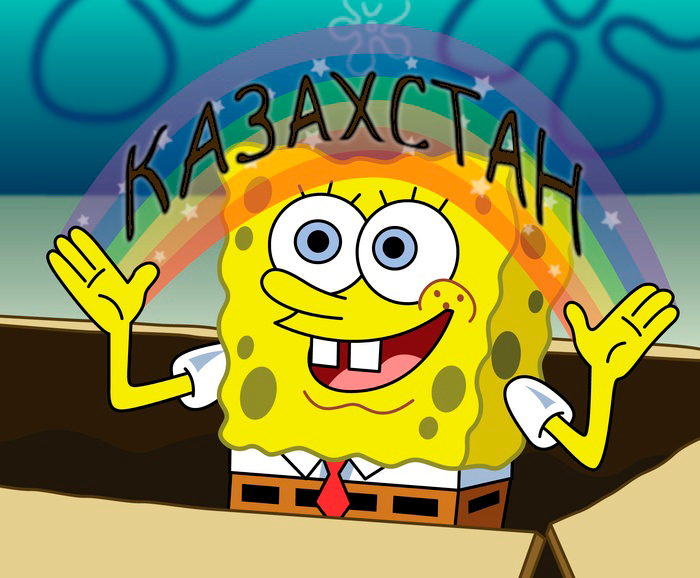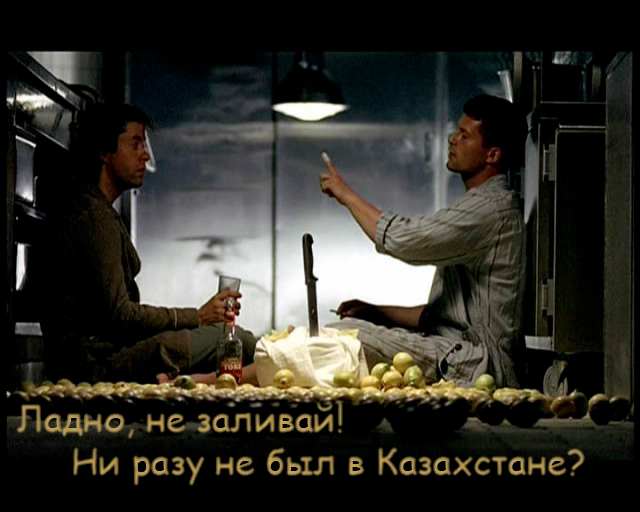GrapefruitMoon
Дорогой подарок.
У моей сестры Лены с мужем Лешей двое детей, и у Вани, лешиного брата, с женой аналогичная ситуация. Живут они в одном городе, общаются умеренно - в основном, по делам да по праздникам,ну, надо понимать, люди семейные, да и любить родственников проще на некотором расстоянии.
Однажды на свой День рождения, приходящийся на 2 января, Лена получила в подарок от Вани и его жены деньги в количестве 5000 вечно деревянных. Весьма широкий жест для наших суровых широт. Леша, для которого ударить в грязь лицом перед младшим братом - страшнее ядерной войны, постановил, что в феврале Ване на День рождения они тоже задарят 5000. Сумма была презентована, но родственники не успокоились, и в марте на День рождения дочь Лены и Леши получила от любимых дяди и тети 5000...
Не трудно догадаться, к чему это привело. 8 разв год эти замечательные ячейки общества дарят друг другу заветную купюру с памятником Муравьёву-Амурскому. Круг замкнулся.
Олдскул
Подслушано на корпоративе:
- Кто олдскул? ты - олдскул?! сколько стоит гравицапа?
- Ээ...
- Полкацэ! Иди уроки делай, школота!
УАЗДАО. Капитализм и общество потребления с точки зрения автомеханика.
Сейчас, когда все реже удаётся встретить людей с трудовыми мозолями не на локтях, мало кто может похвастаться тем, что его работа приносит реальную пользу. Да, всегда остаются врачи, военные и пожарные, рабочие и крестьяне — но чем дальше, тем меньше их процент в социуме. Вокруг как-то незаметно начали преобладать те, кто меняет время на деньги непосредственно, без промежуточных этапов вроде труда — всякие маркетологи, которые занимаются впариванием ненужных человеку вещей, рекламисты, придумывающие, как хитрее обмануть ближнего своего, бухгалтеры, в поте лица своего обманывающие государство, продажники, занимающиеся увеличением цены вещей, да журналисты, заполняющие брехнёй промежутки между рекламой. В общем, люди, которые, прекратив работать, принесли бы больше пользы: меньше электричества нагорит в офисе, меньше вырубят деревьев на бумагу, и сократятся пробки в часы пик. Большинство эта ситуация полностью устраивает, но есть те, кому внутреннее ощущение собственной бесполезности создаёт ощутимый душевный дисбаланс. Если они не имеют при этом душевных сил расстаться с комфортом социально одобренной имитации труда, то они пытаются вести суррогатную трудовую деятельность — так называемые «трудовые хобби». Строят заборы на дачах, сажают нафиг не нужную им картошку, или хотя бы лобзиком выпиливают на досуге. А некоторые всё же остаются в секторе реального труда.
Как ни странно, общество при этом устроено так, что именно люди с бессмысленными, а часто и просто вредными для социума занятиями находятся в нём в привилегированном положении.
Поэтому хорошие автомеханики будут в дефиците всегда. В самой сути этой профессии заложено глубокое противоречие: хороший специалист должен обладать прекрасными аналитическими навыками, умениями комплексной оценки и логического рассуждения, организационными способностями и прямыми руками… Ну и зачем ему при таких данных за копейки руки марать? Он и без вашего ржавого ведра с гайками прекрасно в жизни устроится. Тех немногих, но ярких талантов, которые ещё остались на наше счастье в профессии, удерживают в ней два разных, но взаимосвязанных качества личности — приверженность пользе и асоциальность.
Индивидуалист интеллектуально-ручного труда, каковым является частный автомеханик, просто обязан быть слегка асоциальным. Дело даже не в том, что его деятельность менее престижна, нежели труд человека, целый день перекладывающего файлы из одной папки в другую. (Нам ведь никто не обещал, что мир будет устроен логично, правда?) Дело в том, что социальное поведение предполагает постоянное стремление к повышению своего ранга в условной иерархии социальных ценностей. Человек, который этого по каким-либо причинам не делает — асоциален, то есть не встречает одобрения и понимания со стороны соплеменников. (Девиантность в социуме традиционно не приветствуется).
В социальной мифологии отчего-то умолчально предполагается, что всякий солдат мечтает стать генералом, каждый токарь — руководить заводом, а каждый автомеханик — сесть в кресло генерального директора сети сервисных центров. Тот факт, что число генералов и генеральных директоров всегда значительно меньше, чем солдат и механиков, и это соотношение не может быть изменено, из картины мира исключается. Обязаны стремиться, и всё тут.
Эта идея не просто ложна — она специально и нездорово ложна. Она изначально обрекает абсолютное большинство людей на страдания неудовлетворённости, ведь генералом станет кто-то один, остальным придётся удовольствоваться максимум прапорщиком. Но, хуже того, она совершенно не учитывает тот факт, что далеко не всем людям это на самом деле нужно. Не из всякого механика может выйти генеральный директор — это требует совершенно других компетенций и душевных склонностей, — но самое главное, мало кому этого всерьёз хочется. Посади хорошего механика в директорское кресло — так он сбежит через неделю, или весь изведётся от нафиг не нужной ему ответственности за сто ленивых косоруких долбоёбов перед тысячей недовольных клиентов.
Но ему изо всех сил поют в оба уха: «Ты должен хотеть этого! Если ты этого не хочешь — с тобой что-то не так!». Да тьфу на вас. Человек, может, хочет вовсе не этого. Он хочет выпить, на рыбалку и мотоцикл, а вы ему только настроение портите. Отстаньте, и он станет куда счастливее.
Проблема навязанных желаний — это вообще большая наша беда. Мы с некоторых пор пребываем в странном мире, где каждому очень и очень настойчиво объясняют, чего именно он должен хотеть. Максимум степеней свободы при этом — выбрать цвет и модель в утверждённом свыше списке желаемого. А в качестве главного мотиватора используется именно «социализация», причём даже не настоящая, а её набитое резаной бумагой чучелко — «социализация по типу потребления». Это когда ценность человека для общества определяется тем, насколько много он тратит денег. Тратит он их в безнадёжной попытке стать хоть чуть-чуть счастливее, а несчастен он потому, что хочет он любви, покоя и тишины, а требуют от него чёрт знает каких глупостей.
Счастливый, довольный собой и своей жизнью человек никому не нужен. Толку от него? Он работает свою работу, спокойно посвистывая, а в свободное время тихо сидит в своём гараже и возится с УАЗиком. Ну, или рыбу ловит. Или на мотоцикле катается. Какой с него профит? На нём денег не заработаешь. Поэтому злые люди изобрели сто тысяч способов сделать человека несчастным. Несчастные гораздо удобнее счастливых — они не находятся в устойчивом равновесии и их легко толкнуть на что угодно — на марш протеста, на баррикады, на войну, на покупку айфона в кредит, наконец. (Причём главное здесь именно кредит, а вот всё остальное только сложный путь к нему.)
Деньги, впрочем, вообще не то, чем они кажутся. Мало кто сейчас понимает суть денег — в первую очередь потому, что их настоящая природа тщательно маскируется. Это не просто так — именно в деньгах воплотилась вся утерянная человечеством сакральность. Деньги стали нашей магией и религией, Первотолчком и Перводвигателем. Любое движение, действие и событие имеет где-то глубоко в причинах именно их. Разумеется, любая сакральность порождает культ, а культ, в свою очередь, производит деление причастных на жрецов и простецов. И все эти внешние определения — «мера стоимости», «средства обращения», «эквивалент затраченного труда» — это для простецов, шелуха и мусор. Настоящая суть, как и положено, сокрыта, причём не только от нас. Как в каждом серьёзном культе, каждая следующая ступень посвящения отметает то, что считалось «Настоящей Тайной Истиной Для Знающих», и выдаёт новое, потрясающее, рушащее весь прежний порядок мироздания откровение. Есть ли та конечная, верхняя ступень пирамиды, где восседает Некто Знающий Как Всё На Самом Деле Устроено? Или там давно уже пустота? Понятия не имею. Лично я, как механик, считаю деньги жидкостью. Причём отнюдь не бензином или иным топливом, как принято в расхожих газетных штампах, а рабочей жидкостью гидравлической передачи. Субстанцией, передающей усилие.
Смысл их, как в любой гидравлической системе — в движении. Двигаясь сами, они приводят в действие разные механизмы, не двигаясь — бесполезны. Поэтому всё вокруг устроено для того, чтобы деньги двигались, двигались и ещё раз двигались. Как можно быстрее. Система построена так, что деньги просто не имеют шанса остановиться. Каждый человек в этой системе — насос. Маленький такой насос мелкого менеджера, или большой насосище владельца корпорации — не суть важно. Важно здесь то, что твоя функция в обществе — непрерывно качать деньги. Ты принимаешь их от работодателя или клиента — и немедленно с ними расстаёшься, придавая гидравлике общества новый кинетический импульс. И не расстаться ты с ними не можешь — во-первых, потому, что никакого толку от лежащих денег нет, а во-вторых потому, что система заточена на их изъятие. Если ты потратил чуть больше, чем заработал — ты хороший насос, правильный. Ты не тормозишь движение жидкости, а ускоряешь. Для создания этой разницы используются серьёзные механизмы перепада денежного давления, в частности — в виде кредитов. Денег всегда чуть-чуть не хватает, и в попытке компенсации этого «чуть-чуть», лопасти твоего насоса крутятся всё быстрее и быстрее, и поток ускоряется. По мере твоего карьерного роста сквозь тебя проходит всё больше и больше денег, но количество их у тебя всегда одинаково и равно… нулю! Даже если в данный момент в твоём кошельке (на банковском счёте) как будто есть некая сумма, на самом деле её нет — ведь ты уже знаешь, на что эти деньги будут потрачены. Чаще всего, они потрачены даже раньше, чем получены — зарплата заранее расписана на возврат кредитов, квартплату, бензин, одежду и еду.
Понимая гидравлическую суть денег, приходишь к выводу, что тратить свою жизнь, силы и здоровье на их зарабатывание бессмысленно. В самом понятии «заработать денег» уже содержится принципиальная ошибка — деньги нельзя заработать, их можно только пропустить сквозь себя. Если хватит смелости развить мысль дальше, то понимаешь, что тебя ловко засунули в беличье колесо — и тут уже неважно, куда именно ведёт приводной ремень, тут важно понять, что лично ты, как ни бежишь, всегда остаёшься на месте. Тебе кажется, что ты поднимаешься вверх — делаешь карьеру, растёшь в должности, — но на самом деле ты просто бежишь в том же барабане всё быстрее. И чем быстрее ты бежишь, тем выше инерция колеса, и уже проще поддерживать скорость, чем остановиться.
Засада в том, что выключиться полностью из денежных отношений практически невозможно. Созданный вокруг нас социум специально устроен так, чтобы цена выхода была неподъёмной. Однако, изменив своё отношение к процессу, можно устроить жизнь так, что ваш насос будет спокойно вращаться под действием набегающего потока, а не напрягаться, разгоняя его из всех сил.
Грусть и ностальгия в южном Казахстане.
Родственники бывают разные. Порой самые близкие сосут кровь, как стая голодных упырей, порой дальние оказываются куда ближе самых близких, но одно неизменно, родственники – неотъемлемая часть нашей жизни, и от некоторых из них никуда не денешься. Мой дед – не самый приятный человек, и дело не в старости, он всю жизнь таким был. Любил выпить, кабаки, карты и сходить налево, заниматься же воспитанием детей и домашним хозяйством категорически не любил. С годами тусовки и бабы отошли в сторону, остался лишь зеленый змий, с которым дед сдружился еще больше, и единственной преградой на пути их теплых отношений была жена. В принципе, бабушка была единственным авторитетом в жизни моего деда-нонконформиста, он ее даже слегка побаивался и признавал за ней право ограничивать его доступ к огненной воде. В общем, дед мой – тот еще мудак, дай ему Бг здоровья.
В феврале этого года бабушки не стало.
Дед, как человек, не отличающийся тонкой душевной организацией, переживал горе единственным доступным ему способом – квасил. Первые три недели после похорон походили на день сурка. Дед тарился черным хлебом, килькой и синькой, пил, слал всех родных матерно, смотрел телевизор и грустил. Разумеется, организм, весьма крепкий, но изношенный за восемьдесят лет использования, в скором времени отказался работать в режиме спартанца-алкоголика, и дед загремел в больничку. Строгий дяденька врач безапелляционно заявил, что так бухать в таком почтенном возрасте – оно, конечно, тоже подвиг, но за подобные геройства в Валгаллу не берут, поэтому торопиться некуда и злоупотребления надо прекратить.
Лишившись последнего друга, дед затосковал с удвоенной силой, и где-то между очередной серией очередного сериала про ментов и мыслями о конечности бытия в голову к нему пришла идея.
Казахстан.
Нет, вот так.
Тут надо внести ясность. Родители моего отца – русские, но родились и выросли в Казахстане, что совершенно нормально для Советского Союза. В середине 70-ых они по какой-то рабочей надобности переехали в Россию, сохранив при этом о Казахстане самые теплые воспоминания, особенно - дед. О, сколько раз слушал я, как он, сыпя топонимами на казахском, которые я не то, чтобы запомнить – выговорить не мог, рассказывает о вкусных шашлыках, вкусном пиве и прочих простых радостях жизни. Казахстан в его историях был если не землей обетованной, то местом к ней несомненно близким.
В общем, как не трудно догадаться, дед возжелал невозможного – совершить путешествие в молодость. Старческий азарт – страшное явление. Дед, намертво вцепившийся в идею о поездке в Казахстан («мой Казахастан!»), пер напролом. Все уговоры и аргументы отскакивали от него как нерасторопные пингвины от борта атомохода, штурмующего льды Антарктиды. Попытки призвать к разуму парировались в фирменном стиле поддавшего по такому случаю деда – горячо и нецензурно.
Смирившись с неизбежным, мы принялись организовывать поездку. Заказали билеты на самолет туда-обратно, связались с родственниками, договорились, чтоб деда встретили и разместили. Все это время виновник торжества, пульсирующий энергией как энергоблок, вываливал во все доступные уши свои светлые воспоминания о далекой родине и пренебрежительно комментировал сообщаемую ему информацию. Мол, не надо меня нигде встречать, я сам все знаю, там через поле пройти два шага и т.д. Когда я вез деда в аэропорт на самолет до Шымкента, его распирал такой заряд бодрости, что хватило бы на двенадцатичасовой ночной рэйв и шестичасовуюафтепати с экстази, абсцентом и девочками.
Спустя две недели дед вернулся, мрачный, как кладбищенский ворон. По началу на все вопросы он только махал рукой и недовольно цыкал, но со временем разговорился.
Как оказалось, прибыл он не в то место, в которое вылетал. Все вокруг было не то. Улицы, по которым он раньше ходил, были уже не те. Школа, в который учился – не та, люди – не те (единственные двое мужиков, принятые им за русских, на поверку оказались седыми узбеками), в здании ДК был какой-то магазин, на месте кабаков и лесочка, куда водили девчонок, высились новостройки. Кое-как дед отыскал свой старый дом, нашлась и пара старых соседей. С одним из них дед распил пузырь (единственное положительное впечатление от поездки) и поговорил про общих знакомых. Как выяснилось, абсолютное их большинство либо уехали, либо уже отбыли в страну Вечной Охоты. Погуляв несколько дней по городу, дед засел дома и оставшиеся полторы недели своего сомнительного отпуска смотрел телевизор. Того самого, «его!» Казахстана, который дед покинул сорок лет назад уже не существовало, теперь это была совершенно другая страна. Куда-то запропастились пьянки, гулянки до утра, кореша, подруги и карты, зато появились новые дома, новые люди, новые магазины и машины, и на фоне этой новой жизни, быстрой, непонятной и чужой, он – старый, растерянный и больной. Такого подвоха от мироздания дед не ожидал.
Мораль?
Мораль проста. Не стоит стремиться туда, где когда-то давно был счастлив.
Монстр.
Дело было в 90ых годах. Граждане новорожденных республик уже нарадовались обретенной свободе и перешли к главному номеру программы этого временного отрезка – выживанию. Промзона, примыкавшая к нашему району, вымерла. Под управлением эффективных управленцев, пришедших на смену тупым совкам, заводы и предприятия стремительно закрывались, но там, где взрослые видели крах и запустение, мы, дети, видели таинственный мир, полный загадок и секретов.
И пока родители пытались свести концы с концами, дети были предоставлены сами себе. Разумеется, лучшего места для игр, чем промка, придумать было невозможно. В стенах обветшалых бетонных зданий нас ждали удивительные сокровища и потрясающие открытия. Днями напролет можно было бродить по бескрайним цехам, копаясь в грудах промасленного мусора в поисках шариков от подшипников, или по офисным помещениям, в которых обязательно завалялось что-то оставленное прошлыми хозяевами, но представляющее несомненную ценность для десятилетнего мальчишки. Однажды мой сосед Женька отыскал настоящую ручку-ракету и долгое время гремела его слава, пока Леха и Саня не нашли монстра.
Леха и Саня были старше нас аж на два года (думаю, все помнят, насколько огромной была эта разница в детстве) и отирались на промке с более практичными целями. Они собирали старые медные кабели, обжигали их, сдавали, на вырученные деньги покупали сигареты и вино «Анапа», которые на этой же промке и употребляли. Стоит ли говорить, что такие славные мужи, имели в нашем кругу заоблачный авторитет.
Кончался сентябрь, мы все реже видели солнце и пытались выжать из уходящего тепла все и еще столько же, пропадая на улице. В тот день мы с Женькой бодро шагали по промке, тащили из ангара наше невозможное богатство – пластины со свинцом из разбитых аккумуляторов и вели ожесточенную дискуссию. Я считал, что из добытого ресурса стоит выплавить несколько фигурок, Женька же настаивал на изготовлении кастетов. На кой черт пухлому миролюбивому Женьке нужен был кастет, я так и не успел выяснить, потому что в самый разгар спора на нас из распахнутых и вросших в землю цеховых ворот с диким криком выскочил Саня.
«Монстр! – кричал Саня, бестолково тыча пальцем в непроглядную тьму, из которой только что явился. – Там монстр!»
Следом за ним вылетел рыжий Леха, вторя другу истошными воплями.
Мы с Женькой, как и прочие мальчишки, к Лехе и Сане испытывали глубочайшее уважение, но даже его оказалось недостаточно, чтобы поверить в рассказ о каком-то неведом чудище, живущем в заброшенном цехе. В ответ на высказанные мной и Женькой сомнения Леха отвесил по нам воспитательному лещу и сказал, чтоб завтра после школы все приходили смотреть монстра.
В те далекие года мой мир монстров ограничивался криповыми творениям советских мультипликации и кинематографа и маргиналами, расплодившимися после перестройки, потому фантазия моя рисовала картины неясные, абстрактные, но от чего-то столь ужасные, что в ту ночь я спал очень плохо. Следующий учебный день был, наверное, самым длинным за мои школьные годы, и после уроков мы с Женькой и кучкой ребят со всех ног понеслись на промку. Разумеется, абсолютное большинство зрителей с иронией относились к предстоящему действу, но дети на то и дети, чтоб если не верить, то допускать возможность чуда.
Леха и Саня курили около цеха. Завидев толпу в десять с лишним человек, они приняли очень важный вид и сказали, что сейчас вот подымим, и за дело. Растоптав окурки, они вошли в ворота, и мы, до этого весело болтавшие, притихли. Сомнения – сомнения, но кто его знает, как оно там на самом деле.
Ребят не было минут пять, за это время напряжение достигло высшей точки, и самые смелые из зрителей стали подходить к краю освещенного солнцем заезда и, вытягивая шеи, всматриваться в темноту цеха. Наконец, из пропахшего маслом мрака к нам высочил Саня.
«Леху поймал! – орал он. Уж что-что, а орать Саня умел громко. – Задерет!»
Первый шок продлился несколько секунд, тут же сменившись криками и претензиями. На Саню посыпались обвинения во лжи, перемежаемые требованиями в духе «давай иди уже зови Леху, чо он там прячется, мы туда все равно не пойдем». Саня клялся и божился, что не врет, но было видно, что зритель на слово не верит и стремительно теряет интерес к представлению.
И тут появился сам Леха. Припадая на правую ногу, он вышел на улицу и вскинул голову. Лицо его покрывало множество кровоточащих порезов. Мы ахнули.
«Ели вырвался, - прошептал он. – Мутант, сразу видно».
Такое неопровержимое доказательство вкупе с умным словом положили на лопатки самых упертых скептиков. Разумеется, никому и в голову не могло придти, что артист Леха разбил лампочку и исцарапал себе лицо осколком стекла. Мысль о том, чтоб нанести самому себе осознанный вред, вообще чужда детскому сознанию.
«Завтра выманить попробую», - слабым, но решительным голосом добавил Леха и, опираясь на дружеское плечо Сани, гордо продефилировал в закат.
На следующий день зрителей прибавилось, но не то, чтобы сильно. Кого попало не звали, ведь это теперь был наш монстр. Мы, видевшие израненного Леху, выходившего из цеха, чувствовали себя приобщенными к некому таинству и на новеньких в нашем кругу посматривали с дембельской снисходительностью. Мол, что вы, щеглы, вообще знаете о жизни.
Второе представление было организованно гораздо тщательнее. Саня нервно расхаживал перед воротами, то глядя в тающуюся за ними темноту, то на нас.
«Подальше, подальше отойдите, - деловито говорил он, размахивая руками. – Утащит, как нефиг делать».
Леха же молча курил в стороне, возвышенный и отрешенный, как пикадор.
Нагнав жути и тумана, они шагнули в цех.
Мы больше не толпились у ворот, а наоборот, старались держаться в отдалении – не хватало еще, как Леха, угодить в лапы чудищу. Как люди, уже поимевшие опыт в отношении монстров и мутантов, мы прислушивались, озадаченно хмурились и многозначительно обменивались авторитетными мнениями о том, что ребята задерживаются и монстр – не карась, тут уметь надо. Немногочисленные новенькие внимали нашим речам и тоже озадаченно хмурились, не желая показаться глупее своих прогрессивных товарищей.
Первым опять явился Саня. Озираясь по сторонам диким взглядом, он сел на траву и закурил. Ото всех посыпавшихся на него расспросов Саня нервно отмахивался.
«Все, - наконец выдавил он из себя, глядя вниз, - уволок Леху».
После его слов наступила тишина, и никто не отважился нарушать ее, словно первое же оброненное слово лишит Леху всех шансов на спасение. Ожидание затягивалось, и Саня начал с тревогой поглядывать на ворота. Наконец, он встал и, подойдя к темному проему, крикнул в него: «Леха!»
Мы, сбившиеся в кучку, поодаль безмолвно наблюдали за ним.
- Лех, хорош, не смешно уже!
Окликнув друга еще несколько раз, Саня по-деловому, без всякой мрачной торжественности, вошел в цех.
Внутри он пробыл долго и вернулся хмурый и озадаченный.
«Не выходил?» - спросил у нас Саня.
Получив отрицательный ответ, он сплюнул и пошел к выходу с промки.
«А Леха? А мутант?!» - понеслось ему вслед.
«С другой стороны вышел», - зло отозвался Саня, сердитый на разыгравшего его друга.
Мы постояли еще пару минут и побрели вслед за ним.
А Леха так и не пришел домой.
Его нашли в коллекторе под цехом. Сами того не зная, все это время ребята ходили мимо распахнутого люка, кое-как подсвечивая себе спичками, и Леха, оставшись один, угодил в смертельную западню. Упав с высоты в несколько метров, он ударился спиной о край бетонного блока и сломал себе позвоночник.
Так нам сказали, и не было поводов сомневаться в этом.
Но все же каждый из нас в глубине души был уверен, что Леху убил монстр.