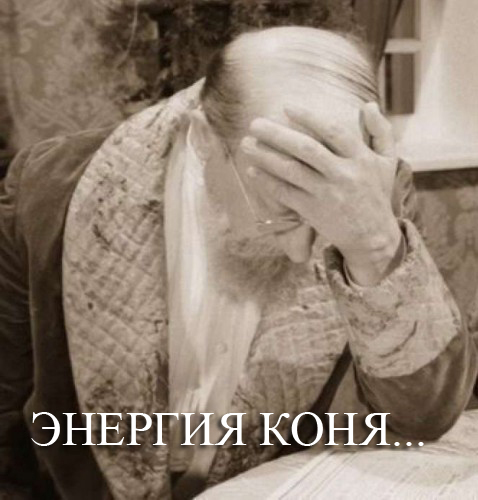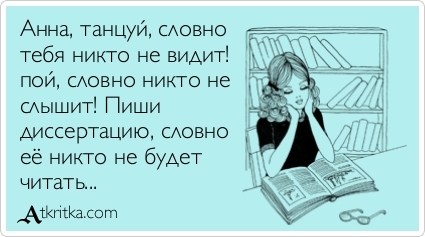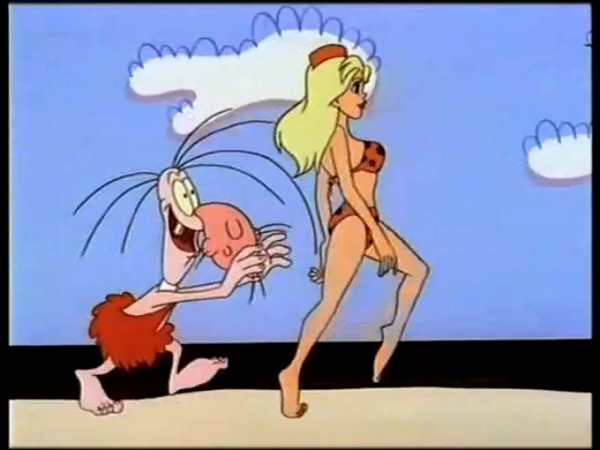Сам себе преподаватель
ххх: У меня коллега по работе получает второе высшее, чтоб кандидатскую таки защитить, с прошлого года в том же вузе на четверть ставки преподает. Так вот, в прошлом семестре он начитывал лекции той же группе в которой учится, а в конце семестра сам себе экзамен сдал. На отлично естественно.
ууу: Было бы интересней, если бы он себя завалил на дополнительных вопросах. Хотя это был бы «клинический» случай.
ххх: Он и завалил. Но после поставил преподу бутылочку коньячку… ;)
Кандидаты "небесных" наук.
Всем привет. Сегодня будет много текста про историческую науку от жены.
Чтобы не менять колорита, подаю как есть.
Во время учебы на истфаке мне посчастливилось устроиться по специальности в исторический музей. Для меня открылась музейная изнанка и мир благословенной академической науки. И хотя, за несколько лет работы в музее накопилась уйма курьезных корок, речь пойдет не о них.
Еще во время учебы кандидаты наук и академики грезились мне людьми с семью пядями во лбу в самом хорошем смысле слова, эдакими титанами науки. Среди них, в моем тогдашнем понимании, никак не могло оказаться королей абсурда. С восхищением я смотрела на атлантов, которые гордо держат высокую планку настоящей академической науки. После ухода таких специалистов, перед новым поколением обрушивается их наследие и осознание незаменимой утраты. Но рассказать я хочу о других. О тех, кого удачно назвал один из профессоров университета, интеллектуальными дегенератами, носителях казенных титулов. А точнее об их наследии.
Чтобы в красках описать всю вакханалию, увиденную мной, следует начать с пути кандидата наук, в моем случае, исторических. Отчаянно упорный студент отдает 7-9 лет жизни на такой квест: бакалаврат-магистратура-аспирантура. Целых 9 лет кропотливого профобразования. Не «мама-папа-сказали» и «положу корочку в стол», а изнурительный умственный труд, утопание в источниках, стирание зубов о методологию, затачивание языка в дебатах, развлечений в архивах и «десять тыщ мильёнов» правок. Ты лезешь на вершину, чтобы заслужено получить гордое звание К.И.Н. и отсалютовать атлантам науки: Кирпичникову, Горелику, Зализняку, Рыбакову, Арциховскому... А до этого пройти фейсконтроль у ВАК (Высшей Аттестационной Комиссии). И, разумеется, веришь, что каждый такой кандидат продрался за своим званием вот так. Не считаем тех, кто дал бабла, родственники в деканате, дед профессор и т.д. Только тех, кто пошел по призванию и пахал, как мул.
И вот передо мной молодые кандидаты, сверстники +/-5 лет. Вроде все ничего, но есть нюанс, прям как в анекдоте. Обычно, защиты кандидатских диссертаций проводятся в одном из столичных вузов перед авторитетными рецензентами. Более того, рецензенты – это гарант твоего успеха. Если ты защитил свой диссер перед этими авторитетными в научном мире людьми, значит и впрямь не пальцем делан, научрука не подвел. Ибо с тобой, таким дарованием, он и свою голову на плаху кладет. Ну, это научрук здорового человека, да и защита тоже. А бывает иначе.
В одном немаленьком городке, престижный технический ВУЗ имеет гуманитарный факультет. А на нем кафедра истории, кафедра, Карл! И вот, профессора этой кафедры в тандеме с военным училищем устраивают свои защиты с блекджеком и хм… кандидатами. Может есть какие профиты у минобороны или квота какая-то на регион для кандидатов, но ВАК каким-то чудом выдает эти звания. Всё бы ничего, может люди и правда вонзались.
Не тут-то было. Упомяну, что в городе имеется другой, целый национальный университет, где, о чудо, имеется исторический факультет. Но, 9 лет исторического образования для слабаков.
Итак, кандидат номер раз.
Забавный такой паренек, выпускник кафедры истории гуманитарного факультета технического вуза (!?)
Хороший парень, но лучше о диссере.
Волей случая, тема его диссертации оказалась довольно близка к моей магистерке. Прям старшая сестра, ни дать, ни взять. Автореферат схватила с интересом, а вдруг чего нового прочту, у человека защита же через три недели, там-то все с иголочки.
Угу, с нее, с такой себе иголищи в стоге сена здравого смысла.
Сорок минут жизни потрачено на подчеркивание абзацев карандашом, надписями «где пруфы, Билли» и непрерывным «ха-ха» до слез. Не потому, что я такая умная. Я пошла с этим авторефератом по знающим людям уточнить, вдруг 5 лет истфака повредили мне рассудок.
С рассудком оказалось все в порядке, часть доцентов знатно похохотала, часть пожала плечами и сказала: «не комильфо, но он старался». Старался он, блеать...
В общем, это был самый плохой реферат на 180 страниц, который я видела. Спросить у комиссии, как человек, не сидевший на лошади ни минуты, может так красочно и фентезийно писать о всадниках в кандидатской, мне не удалось. Публичная защита оказалась не совсем публичной. В кадетское училище абы кого не пускают, тем более ошалелого магистра с истфака с помятым и затертым авторефератом чужого диссера. Так что защищаться от нападок жалкого студента новоиспеченному кандидату не пришлось. Теперь гордый специалист по «использованию энергии коня» пополнил стройные ряды кандидатов исторических наук.
Кандидат №2.
Одним погожим днем стала к нам в научную инстанцию наведываться некая особа.
Так сложилось, что писала она свою кандидатскую отчасти по фондам нашего музея. Ну и пускай себе пишет – диссер – это всегда похвально. А еще очень модно, пафосно и неординарно.
Раз за разом в разговоре я стала замечать, что выпускница аспирантуры (все той же кафедры истории гуманитарного факультета технического ВУЗа) мягко говоря, не знает азов. Тех, что впиваются в мозг молодого историка на первых двух курсах, без которых, в принципе, не понятно, как можно было защитить адекватную бакалаврскую. Это как материаловедение или Present Simple, матчасть в общем.
Аспирантура технического универа сначала не обеспокоила, так как не всегда остаешься аспирантом в alma mater. Вот и решила уточнить у коллеги, как образовался такой пробелище в профобразовании у будущего кандидата наук. Ответ был прекрасен: «Так она же культуролог, откуда ей источниковедением владеть».
Тут стоит вставить ремарку (да простит меня немецкий классик). Я ничего не имею против культурологов. Скажем так, культурология – это кафедра философского факультета, а он на другом этаже. То есть, с истфаком напрямую ну никак не пересекающаяся.
На мой нелепый вопрос: «Джонни, а почему она пишет кандидатскую по истории?», ответ был безжалостен: «Ну так нет же кандидатов культурологических наук, вот и пишет по истории». Хм... К такому жизнь меня не готовила.
Мне встречались культурологи-кандидаты, кандидаты философских или искусствоведческих наук. Истфак, ну почему ты??
Стоит ли наговаривать на человека за отсутствие исторического образования?
Когда речь о звании кандидата ИСТОРИЧЕСКИХ наук, наверное, стоит.
Но знаете, от чего подгорело? Казалось бы, ну и шут с ним с истфаком твоим проклятым, может там прорыв в науке, не завидуй, злая ведьма. Суть кандидатской диссертации и всей научной работы сей героини: она доказала, что разорванная пушка разорвалась. Занавес.
Звание К.И.Н.а она также получила. С почином, сударыня.
На горизонте с новой силой засияло знамя тупизны.
К слову, защита снова была в кадетском училище и такая же «публичная».
Однако, всегда есть тот, кто ослепительно засияет своими пядями во лбу. И вот он, наш кандидат №3. Это прям royal flush, а не К.И.Н.
В этом году на работку к нам устроился новый сотрудник. Руководство всегда радо кандидатам в штате, научная же инстанция, вроде как.
И перед нами воспрял доктор богословия(!). Такой пастырь 30 лет отроду, с куцей бородёнкой и ЧСВ, которое явно не влезло в рясу. Вот и подался в кандидаты исторический наук. Истфак, ну что с тобой не так?!
Тут, видимо, снова стоит побеспокоить немецкого классика и добавить, что я адекватно отношусь к семинаристам. Более того, один из друзей студенчества был священником и вместе со мной получал второе светское образование. Все ок.
Но история не о нем, а о молодом «Игнатио де Лойоле», который отучился за кордонном. Точнее, в 17-ти километрах от него. Но главное, что в Европе.
Сие дарование посвятило свой диссер истории церкви, что неудивительно. И монографии, и статьи, и все остальное - по истории церкви. А главное, нормальный такой кирпич в 250 страниц о церкви в своем селе. Фантастическая производительность.
Хотя, производительность некоторых научных сотрудников требует отдельного поста.
Но цимес в ином.
И месяца не проработав в музее, блистательный К.И.Н. заявил, что никто в музее не смеет его оценивать. Он сомневается в компетенции руководителей инстанции, ибо он КАНДИДАТ, а вы тут так, поссать на огонек зашли. Ведущие научные сотрудники, мягко говоря, были озадачены такой постановкой вопроса. Доктор богословия оббивает директорские пороги и негодует, почему научный отдел не целует персты и не кланяется. Да и как посмели проверять его на профпригодность, он же кандидат наук, доцент кафедры (на этот раз уже моего страдальческого истфака), доктор богословия. В общем, аки корифей.
Жизненный опыт разное показывал.
Например, мой зять, будучи химиком-полимерщиком, попал на аспирантуру к физикам. Затесался, чтоб не служить, куда место было. Так вот, он чуть кандидатом физико-математических не стал. Просто потому, что умный парень, да и пожалел стариков профессоров. На втором году аспирантуры благополучно срезался и ушел работать на завод. Ибо не к лицу химику-полимерщику доктором ф.м. наук быть, все-таки не физик.
Совесть и профессиональная этика не подписали. А так бы прибавка к зарплате нехилая была за доцента, да и жена бы гордилась еще больше.
Причем, есть же нормальные специалисты.
Знакома я с кандидатом биологических наук 26-ти лет отроду. Парень все как должно прошел, универ, аспирантуру, защитился. Три года пахал, параллельно работая лаборантом при другом универе, писал статьи, выступал на конференциях, мама-папа не из деканатов. Защищаться поехал почему-то в столицу, в ведущий профильный ВУЗ страны, а не в городской приборостроительный.
Сейчас докторскую пишет. Прям фантастика.
Это я все к чему веду.
Наслышана о различных способах, причинах и порядках получения званий кандидатов наук. Кроме того, не имею особых сомнений по поводу компетенции сотрудников ВАК.
Не удивлюсь, если просто не хватает рук и глаз разбирать этот поток «научных открытий и прорывов». В любом случае, есть прецеденты перепроверки научных званий Аттестационной комиссией.
И дело даже не в том, что ряд интеллигентных дегенератов плодит новое поколение таких же носителей казенных титулов, и все они дружно получают деньги из бюджета. А скорее в том, что пользы академической науке от таких кандидатов, как от адептов плоской земли.
Наличие подобных персонажей катастрофически обесценивает труд тех, кто прошел «ад и Израиль» от первака до аспирантуры.
Почти 10 лет потратить на освоение ремесла, чтоб стать в один ряд со «специалистами» по энергиям коня, разрывам разорванных пушек и просто заноз в заднице, считающим, что доктор богословия - это причина для поклонения - бесценно…
У меня все.
Спасибо всем, кто осилил.
Ответ доктора исторических наук на комментарий доктора биологических наук к первой диссертации по теологии
Протоиерей Георгий Ореханов: Почему первая диссертация по теологии абсолютно научна
Кандидат богословия, доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор, член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, проректор по международной работе ПСТГУ протоиерей Георгий Ореханов в своей статье ответил на отзыв доктора биологических наук Юрия Валентиновича Панчина, представленный в диссертационный совет по теологии в качестве критики содержания автореферата и диссертации декана богословского факультета ПСТГУ протоиерея Павла Хондзинского «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Портал PSTGU.RU приводит текст статьи полностью.
Как известно, диссертация получила очень высокую оценку специалистов и в четверг была успешно защищена. Защите предшествовало активное продвижение и комментирование отзыва Ю.В. Панчина в сети его сыном, кандидатом биологических наук Александром Юрьевичем Панчиным. Кроме того, коллеги Ю.В. Панчина, попытались организовать своеобразный флешмоб – в последний момент перед защитой в совет по теологии был прислан ряд дополнительных отзывов, написанных биологами.
Представленный мной текст планировался как ответ Ю.В. Панчину, в отзыве которого, как мне кажется, сконцентрированы основные претензии биологов к теологам. Из-за недостатка времени ознакомить членов совета по теологии со своими соображениями я смог лишь частично, поэтому здесь предлагаю полный вариант своего выступления.
***
Критика Ю.В. Панчиным представленной диссертации строится вокруг нескольких базовых положений, к числу которых в первую очередь необходимо отнести следующие:
1) критика утверждения, что научно-теологический метод конституируется, в частности, “личностным опытом веры и жизни теолога”;
2) отсутствие в представленной диссертации анализа морального облика митрополита Филарета и ссылок на источники, в которых личность московского святителя подвергается критике (упомянуты воспоминания С.М. Соловьева и переписка В.К. Кюхельбекера с В.Ф. Одоевским); кроме того, это критика “противоречивых богословских взглядов” святителя, к числу которых автор отзыва относит взгляд на самодержавие, столоверчение и крепостное право;
3) утверждение, что содержание диссертации в некоторых пунктах противоречит “Положению о ВАК при МОН РФ” и принципу светскости, заложенному в Конституции РФ.
По сути каждого из этих пунктов я представляю важным сказать следующее.
1) О богословском методе (по поводу выражения «личностный опыт веры»).
Автор обсуждаемого отзыва, Ю.В. Панчин фактически всю свою аргументацию строит вокруг этого выражения, полагая недопустимым присутствие в научном исследовании столь субъективно окрашенного тезиса.
С глубоким сожалением я вынужден констатировать, что делается это с явным и тенденциозным передергиванием. Дело в том, что в самой диссертации этот принцип возникает не сам по себе, изолированно, а в связи с известными положениями теории «обращения» канадского богослова Б. Лонергана (см.: Диссертация. С. 17-18). Акцент в этом отрывке, посвященном методологическим принципам работы ученого-гуманитария, у автора диссертации, прот. Павла Хондзинского, делается на том, что в гуманитарных исследованиях т. н. «беспредпосылочное знание» (аналогом которого является также «аксиологический нейтралитет» и «свобода от ценностей») является интеллектуальной абстракцией. Тем более это понятие становится абстрактным конструктом, когда речь заходит о богословском исследовании.
Заметим, что личный опыт лежит в основании любой науки, в особенности гуманитарной, фундаментом которой является так называемый «субъект-субъектный подход». Человек не может добиться выдающихся результатов в истории, если у него нет личного восхищения древними рукописями, если бы не было личного восхищения звездным небом – не было бы астрономии, если бы не было личного восхищения стихами Пушкина, были бы невозможны серьезные литературоведческие работы. Более того, есть целый ряд дисциплин, в которых личный опыт необходим в качестве одного из исследовательских инструментов.
Но это соображения общего характера. С богословским исследованием ситуация совершенно особая. Являясь одной из разновидностей гуманитарного знания, богословие, в отличие от наук естественных, не рассматривает человека как безгласный объект. В основе методологии любого гуманитарного исследования лежит, по определению М.М. Бахтина, диалогический подход: человек с его внутренним миром и сложной душевно-духовной организацией не может восприниматься как безгласный и пассивный субъект такого исследования [1]. Именно поэтому богословское исследование – всегда диалог между двумя субъектами: исследователем и носителем духовной реальности.
Эта реальность есть область человеческого духа, «последняя смысловая позиция личности» [2], которая присутствует у любого индивида, вне зависимости от того, рефлексирует ли он ее и придает ли он ей религиозный, трансцендентальный статус.
Понятие «трансценденция» возникает здесь совершенно не случайно. Согласно концепции известного социолога ХХ века Т. Лукмана, трансценденция – ключевое понятие индивидуального человеческого сознания, которое способно описать его различные особенности, например, конфронтацию с другим человеком [3]. Трансценденция лежит в основе процесса социализации, в ходе которого взгляд человека на мир объективируется. Картина мира, полученная в процессе транцендирования, есть религиозный фундамент общества, «базовая социальная форма религии» [4].
Очень важно при этом, что, в отличие от религиоведческих дисциплин, религиозная реальность рефлексируется исследователем-богословом изнутри, в рамках определенной религиозной традиции, определенной религиозной нормативной рамки. Именно поэтому, в частности, академическое богословие в Германии исторически существовало и существует в университетах только в конфессиональной форме [5].
Богословский метод в широком понимании – это соотнесение культурно-исторического явления с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках конкретной традиции, с целью выявления его предельных (сотериологических) смыслов, причем термин «формализация» нужно понимать здесь не в духе позитивизма XIX-XX веков, а скорее как фиксацию нормы религиозного сознания в форме, в которой она становится общедоступной для научного изучения [6].
Задача теологии, наряду с другими дисциплинами – выявить глубинные, глубоко интимные религиозные основания человека, наличие или отсутствие в его картине мира и ценностных основаниях представлений о Личном Боге, Боге как Творце, Спасителе и Судье, представления о вечности, о загробной жизни. Отрицать присутствие этих оснований у огромного количества людей современная наука не может. В 2013 г. в Бостоне был издан сборник «Религия и секулярность. Трансформации и перемещения религиозных дискурсов в Европе и Азии», согласно данным которого сегодня религиозные представления характерны для 55% жителей нашей планеты, причем за последние 20 лет эта ситуация сильно не меняется. Именно поэтому Питер Бергер, один из ведущих социологов ХХ века, заявил совершенно определенно: «Современный мир столь же яростно религиозен, каким был всегда». Пытается это отрицать «не наука как таковая, а лишь особая, вненаучная вера, особое миросозерцание, которое невежественные или полуобразованные люди приписывают самой науке и которому действительно подвержены отдельные ученые, но которое не имеет ничего общего с наукой, а есть именно слепая, безотчетная вера; мы разумеем материализм или натурализм» [7].
В связи с этим обратим внимание на точку зрения по этому вопросу современных немецких богословов. Вот ответ профессора богословия Тюбингенского университета Иоганны Ранер (между прочим, биолога по базовому образованию!) на вопрос, обладает ли богословие каким‐то преимуществом перед религиоведением, чтобы вести межрелигиозный диалог. Вот что она отвечает: «Здесь мы имеем дело с внутреннеи и внешнеи перспективои. Богословы тоже могут применять религиоведческие методы и подходить к предмету извне. Но при таком, внешнем, подходе религиозныи феномен остается все-таки охвачен не до конца, потому что индивидуальная, внутренняя перспектива - это неотъемлемая часть работы, если нужно адекватно описать характеристики явления и дать им оценку <…> внутренняя перспектива также подлежит научнои рефлексии»[8]. В этом же смысле высказывается и другой известный немецкий богослов, профессор университета Мюнстера Томас Бремер: «Богословие — часть universitas litterarum, совокупности наук. Мы рассматриваем богословие как рациональную рефлексию веры. Богословие — не религиоведение, оно не явления изучает, а подходит к делу с точки зрения верующего, однако при этом работает не с интуициеи, а с научнои рефлексиеи» [9]. И еще одно свидетельство (проф. Йорг Диркен): «Будучи богословом, я должен быть в состоянии ввести в рациональныи дискурс основания, опираясь на которые верующие говорят о Боге» [10]. Именно поэтому в своей работе протоиерей Павел Хондзинский и употребил словосочетание «личный опыт веры». Безусловно, «личный опыт веры», взятый изолированно, то есть мои личные взгляды и представления о религии, не может быть главным и исключительным критерием для занятий богословием в университете и вообще для занятий научной работой. Именно поэтому формулировку протоиерея Павла Хондзинского я бы уточнил следующим образом: для профессиональных занятий наукой и, в частности, богословием, важен не только личный опыт, который может носить очень субъективный характер, а научно-методологическая рефлексия по поводу наличия или отсутствия религиозных представлений, соотнесенная с определенной конфессиональной традицией. Конечно, этот тезис требует дальнейшего дискуссионного обсуждения. Но если бы уважаемый оппонент потрудился прочитать диссертацию протоиерея Павла Хондзинского внимательно, а не ограничивался бы только авторефератом, он нашел бы достаточно подробное обоснование того, что диссертант понимает под «личным опытом».
2) Отсутствие в диссертации ссылок на работы С.М. Соловьева, содержащие критику личности святителя Филарета (Дроздова), его связи с масонами и т. д.
Читая отзыв Ю.В. Панчина, задаешь себе вопрос, имеет ли этот автор хотя бы приблизительное представление об объекте и предмете гуманитарного исследования. Остается совершенно неясным, почему в диссертации, посвященной богословским взглядам святителя Филарета, автор отзыва рассчитывал найти характеристику личности Филарета, какое отношение личные качества Филарета оказывают на его труды? Автору отзыва невдомек, что диссертация про то, был или не был святитель Филарет масоном или про то, как он относился к подведомственному духовенству, была бы диссертацией с другим объектом, предметом, источниками, историографией и методами. Учитывая общий фокус исследования, его предмет, критиковать святителя Филарета за его строгость по отношению к подведомственному духовенству так же уместно, как в диссертации, посвященной биологической теории эволюции, будет уместно критиковать Чарльза Дарвина за его личную жизнь.
Автору отзыва не приходит в голову спросить себя, насколько приведенные в воспоминаниях С.М. Соловьева взгляды и характеристика личности святителя Филарета являются справедливыми, в какой степени они находят подтверждение в других исторических источниках и у других авторов. Ведь в ответ на подборку критических материалов о митрополите Филарете всегда можно предъявить другую подборку прямо противоположного содержания – с хвалебными панегириками в его адрес. Повторю еще раз: ни то, ни другое не будет иметь к теме и фокусу представленной диссертации никакого отношения.
Аналогичный вывод можно сделать по поводу взглядов святителя на самодержавие, столоверчение и крепостное право. Видимо, автор отзыва полагает, что все эти сюжеты имеют отношение к проблемам богословия XVIII века, заявленным в диссертации. Возможно, впрочем, что данные темы просто выпадают в результате так называемого «гугления» по запросу «Филарет».
Складывается впечатление, что взгляды уважаемого оппонента, Ю.В. Панчина, страдают очевидной предвзятостью. Для автора отзыва так же безразлично, в чем и как обвинять и святителя Филарета и протоиерея Павла Хондзинского, лишь бы этих обвинений было как можно больше, причем аргументы при этом выбираются эклектично. Поневоле может прийти на ум известный литературный персонаж, Шерлок Холмс, который, как известно, не стремился перегрузить свой мозг излишней информацией, особенно не интересуясь вопросом, что вокруг чего вращается – солнце вокруг земли или наоборот. Очень надеюсь, что уважаемый автор отзыва далек от подобной стратегии.
3) Противоречат ли методы и содержание диссертации протоиерея Павла Хондзинского “Положению о ВАК при МОН РФ”?
Ссылаясь на п. 2 этого положения, автор отзыва указывает, что понятие «личный опыт веры» противоречит «требованиям светскости». Однако обращение к тексту положения показывает, что в указанном пункте «Положения» ссылка на светскость отсутствует, но присутствует ссылка на Конституцию РФ. Я напомню соответствующую формулировку. В 14 ст. Конституции говорится: “Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.” Заметим при этом: что такое “светскость”, убедительно пока в юридических документах не объяснено. Но очевидно, что в этой статье Конституции ничего не говорится об обязательности, как бы этого ни хотелось представителям позитивизма, исключительно атеистического (равно как и религиозного) мировоззрения в научном исследовании. Любое мировоззрение факультативно для исследователя, это дело его собственного выбора, поэтому никакое мировоззрение не может быть исследователю навязано государством или академической средой.
Содержание представленной диссертации полностью соответствует академическому принципу «мировоззренческого нейтралитета», который является общим основанием для любых гуманитарных исследований. Точно так же и указание сана на титульном листе не нарушает никаких установок ВАК.
Фактически претензии к работе протоиерея Павла Хондзинского подменяются претензиями к тому, что теология введена в перечень специальностей ВАК. Другими словами, эта атака предпринимается даже не столько против работы отца Павла, сколько против теологии как научной специальности. А если обратить внимание на комментарии к отзыву, помещенные на странице А.Ю. Панчина в сети Facebook, то становится понятным, что атака направлена на гуманитарное знание вообще (в первую очередь на философское) [11].
Общие выводы
«Материализм по существу есть не теоретическая онтология, не научное учение о составе мира, а вера в определенные ценности, утверждение определенной иерархии жизненных ценностей, некое волевое предпочтение, которое одному началу жизни отдается перед другим» [12].
Эти глубокие слова великого русского философа С.Л. Франка находят блестящее подтверждение в отзыве Ю.В. Панчина. Суммируя все сказанное выше, я прихожу к следующим выводам:
1. Отзыв Ю.В. Панчина по своему содержанию не соответствует заявленной в его преамбуле претензии на том, что диссертация и автореферат протоиерея Павла Хондзинского не отвечают тем или иным требованиям академического сообщества. Автор отзыва позиционирует себя как непримиримый оппонент не столько диссертанта, сколько гуманитарного знания в целом, о котором, впрочем, не имеет адекватного представления, потому что фактически не различает гуманитарные и естественные науки, к первым он подходит с критериями вторых.
2. Отзыв Ю.В. Панчина написан в духе нетерпимости и пристрастности. Риторика Ю.В. Панчина возрождает времена воинствующего секуляризма с его непременными спутниками – воинствующим материализмом, позитивизмом и вульгарным атеизмом. К сожалению, в запале агрессивного антиклерикализма, совершенно несовместимого с принципами научной этики, автор отзыва совершенно не видит разницы между мнимым стремлением Церкви на право преподавать богословие в светском учебном заведении и действительным правом миллионов юношей и девушек, обучающихся в этих учебных заведениях, на альтернативный позитивизму и материализму взгляд на человека, мир и общество. В этом и заключается «мировоззренческий нейтралитет»: сколько бы Ю.В. Панчин ни выступал против религиозного образования, он не может лишить миллионы молодых людей конституционного права именно в этой парадигме «жить, думать, чувствовать, любить» и даже «свершать открытья», а затем по этим открытиям защищать кандидатские и докторские диссертации.
3. При дискуссионности некоторых тезисов автора диссертации, для меня очевидно, что представленная диссертация абсолютно научна в самом строгом смысле этого слова: все ее положения проверяемы, обосновываются систематически и убедительно, содержат явную новизну и прекрасно вписываются в общий контекст гуманитарных исследований в этой области (исторических, филологических, философских и проч.).
4. При этом важно подчеркнуть, что в своем отзыве Ю.В. Панчин действительно затрагивает очень важные проблемы. Они требуют обсуждения, в первую очередь именно в академической среде. Диалог богословов с биологами (физиками, химиками и т.д.), который фактически только начинается, наглядно показывает, насколько благотворным может быть присутствие богословия в университете, причем благотворным в обе стороны: для самого богословия, лишенного по известным причинам в течение 80 лет участия в академической жизни, и для академической среды, лишенной в этот же промежуток времени и по тем же причинам участия в обсуждении мировоззренческих оснований науки.
В сущности, нет ничего странного в том, что биологи (физики, химики и т.д.) участвуют в дискуссиях, подобных нашей (вопреки мнению некоторых гуманитариев, выражавших удивление по поводу этого обстоятельства). Присутствие богословия в светском университете действительно нуждается в постоянном оправдании, так происходит и в Европе, где позитивистские взгляды в науке широко распространены. Весь вопрос заключается в том, в какой тональности и с какой степенью рефлексии своих методологических оснований эти дискуссии ведутся. Хочется выразить надежду, что в дальнейшем представители естественных (впрочем, и гуманитарных) наук будут учитывать это обстоятельство, а сама дискуссия будет проходит на соответствующем академическом уровне. Любая попытка к утверждению монополии на знание и методологию губительна для самого знания и недопустима в академическом пространстве.
--------------------------------------------------------------------------------------
[1] Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 363.
[2] Бахтин М. М. К переработке книги о Достоевском // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 313.
[3] Luckmann T. Die unsichtbare Religion. Frankfurt-am-Mein. 1991. S. 85.
[4]Luckmann T. Die unsichtbare Religion. S. 92.
[5] См. подробнее: Йоахим Виллемс: На все неудобные вопросы о религии есть ответы // Электронный ресурс: http://bit*.*ly/2rufBhr (интервью и перевод с немецкого – А. Брискина-Мюллер).
[6] См. подробнее: Польсков К. О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. Вып.7. 2010. С. 93-101.
[7] Цит. по: Оболевич Т., Цыганков А. С. «Конфликт религии с наукой есть конфликт двух вер…». Позиция С. Л. Франка. Приложение: С. Л. Франк <Об отношении между религией и наукой> // Соловьёвские исследования. Выпуск 1(53). 2017. С. 91.
[8] Брискина-Мюллер А. Богословие в университете: германский case // Государство, религия и Церковь в России и за рубежом. 2016. № 3 (34). С. 247.
[9] Там же. С. 258.
[10] Там же. С. 291.
[11] См., например: https://www.facebook.com/scinquisitor/posts/1021317982243609...
[12] Франк С. Л. Материализм как мировоззрение. Paris: YMCA Press; Варшава: Изд-во «Добро», 1928. C. 18.
04 июня 2017 г
Вопрос про науку
Начал писать дисер, в день страниц 5-8 получается. Тема междисциплинарная, история там и хуемое разное. Вопрос. Есть ли опыт у кого писать быстрее или это все индивидуально, а то у меня как-то после 12—13 страниц текста в день звёздочки летали в глазах. Сбавил темп.
Картинка иллюстрирует моё стремление к кандидатской степени.
Аспиранты поймут
Когда я думаю о предстоящей защите кандидатской диссертации, мне почему-то сразу вспоминается мелодия из "Миссия невыполнима"
Во всем надо видеть плюсы
- Доктор, неужели всё так ужасно?!
- Почему же - я вот кандидатскую дописываю по вашему случаю.