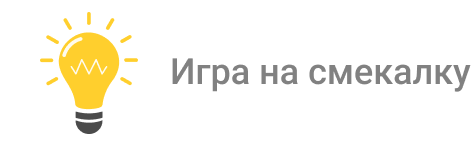Сухоты. Часть четвёртая(финал)
Он дал нож и с едкой улыбкой приказал пробиваться, никого не жалея. Я взяла свою цепь с оковами, обмотав вокруг пояса: она была прочной и крепкой, сгодится как оружие.
… Кровь и оторванные части тел вперемешку раскинуты в коридоре. Кишки и мозги с осколками кости превратились в фарш. Футбольным мячом лежала в углу голова беззубой Тараканихи. Кровь разрисовала стены малиновым узором.
В столовой вырванные с мясом мужские бороды фетишами безумца лежали на столах.
Старуха крысой забилась в чулан с посудой, зажав в трясущихся руках сковороду. И я, уклонившись от слабых замахов, несколько раз порезала ее, чтобы привести в чувство и узнать, где искать брата, получив при этом свою долю мстительного удовольствия, а она всё твердила о чудовище, пожравшем здесь всех, и не могла успокоиться, повторяя: «Это конец!»
Я забрала связку ключей, сорвав шнурок с её шеи. Там, за стеллажами, в продуктовой комнате, возле холодильников для мяса, стояли клетки. В одной из них сидел на откармливании Игорёк. Он бросился мне на шею, хныкая от радости, запинаясь, говоря, что его хотели зажарить, как поросёнка, насадив на вертел, на именины главаря.
У Плотника был план. Как оказалось, бандиты оставили его в живых только из-за компьютеров, в которых мужик шарил. Хотели восстановить заваленный отсек с генераторами и запасами пресной воды, топлива да пищи. Такие вот полезные отголоски прошлой жизни.
Он сделал всё, что смог, но компы из-за перепадов напряжения и сырости окончательно перегорели, а на просмотренных записях отлично отображалось, что там, за закрытой дверью, искать нечего, кроме изрывших всё вдоль и поперёк крото-крыс.
Но лучшего пути, чтобы обойти горы, не было - и Плотник с дурацки счастливой улыбкой пояснил, что за горами то самое озеро. Я обмерла. Сердце заколотилось в груди, больно трепеща. Ноги вдруг стали ватными. Поверить не могу. Это же просто чудо.
- Повтори, - неверяще сказала я, - повтори, что ты сказал!
И он повторил. То самое озеро – последний ориентир к убежищу. Спутник каждый час сканирует его.
Надежда и страх разом вскипели в моей крови чистейшим адреналином.
- Веди! - сказала я, усаживая Игорька себе на плечи.
Заброшенная часть бункера находилась прямо за туалетом и техническими помещениями с поломанными стульями и грудой металлолома. Чтобы туда добраться, нужно миновать спальни.
Тишину всколыхнули истошные крики вперемешку с ругательствами из комнаты главаря.Увы, не обойти. Я вздохнула.
Моя мать, голая, окровавленная с некрасиво обкорнанными волосами, раздирала когтями всех, до кого могла добраться. Её обступили трое: резали, кололи – но, похоже, собственные раны мать не шибко-то волновали.
Она кружила вокруг мужчин, как кошка, как размытая тень. И тройке мужчин во главе с вожаком тоже было некуда деваться.
Я знала, что заражённых тварей отпугивал огонь. В руках оказалась протянутая Плотником керосинка.
- Помогите нам, ты! - завопил главарь, почувствовавший наше присутствие. - Помоги же! - визгливо возопил он. - И я освобожу вас, дам всё, что захочешь: еду, одежду, укрытие, власть, чёрт возьми!
Я покачала головой, хватая Плотника за руку.
Всё тело матери даже сквозь кровавую корку было покрыто синяками. Такие же синяки я видела на ляжках и груди беззубой Тараканихи, когда вечером мыла её в тёплом баке душистым мылом. Расслабившись, она охотно рассказала, что любят вытворять их мужчины с пришлыми женщинами, для своего удовольствия не брезгуя откровенными подробностями, с плотоядной завистью глядя на мои волосы: у самой же, кроме редкого пучка волос на голове, красовались сплошные залысины.
Я знала, через что прошла мать, знала, чему вскорости хотела меня научить старуха по личной просьбе главаря – так сказать, поработать ротиком на его именины в конце недели.
- Не смей! - угрожающе прошипела я Плотнику, сжимая его руку, чтобы он не пожалел их, не помог. Он сглотнул, читая бушующие в моих глазах ярость и боль.
Бородач злобно завизжал, когда его нож застрял в плече моей матери. Она резко куснула его за нос, приподнявшись на носочки, и, отпрянув, стала жевать, шумно чавкая.
Мужчина, стоявший позади главаря, скорчившись, со стоном упал. Его окровавленная ладонь заскользила по стене, оставляя разводы. С бульканьем он харкнул кровью, его нож выпал из разомкнутых пальцев. Ещё один мужчина с рычанием бросился на мать сзади. Она перехватила его руку в полёте, сломала, ударила в живот, вспарывая брюхо острыми и тонкими, светящимися голубым, как у всех сухотных, костлявыми пальцами.
Бородач дико озирался по сторонам, сжав губы. Видимо, намеревался сбежать, пока есть возможность, но мать не дала.
Я же смотрела на это действо, не в силах отвернуться. Всё тело онемело, превратившись в вату. Не знаю, как можно одновременно торжествовать и ужасаться.
Мать развернула главаря на ходу, набросившись со спины, и, вырвав зубами кусок мяса с шеи, стала его жевать, урча, как голодное животное.
Тут, осознавший наконец происходящее, Игорёк пронзительно завопил. Тонко, пискляво, как испуганная до усрачки девчонка, и тут же забулькал, давясь рыданиями, задёргался на моих плечах, завывая отчаянно, жалобно, горько. Мать повернулась в нашу сторону. Уставилась на меня, не мигая. Безумная мысль пронзила мозг горящей стрелой.
- Мама, - прошептала я одними губами.
Она замерла, на секунду прекратив жевать. Казалось, её вытаращенные, запавшие в глазницы глаза только и оставались родными на измождённом, практически неузнаваемом лице.
Вдруг ноздри матери жадно затрепетали. Целый мир перестал существовать, кроме нас. Мы смотрели в глаза друг друга, и незримая, но нутром ощутимая нить тонким волоском натянулась между нами. Мать здесь и сейчас видела и слышала меня.
- Бежим! - выдохнул мне на ухо Плотник. – Бежим! Чего ты стоишь, о Господи!!!
Я покачала головой, сняла Игорька с плеч, твёрдо вложила его ладошку в ладонь мужчины. И уверенно сказала, игнорируя панический вопль испуганной до жути девчонки, рвущийся изнутри.
- Я догоню вас.
- Что? - опешил Плотник.
Я крепко сжала нож, другой рукой отматывала цепь с талии.
- Это же на хер грёбаное самоубийство. Да ты совсем спятила, малявка!!! - впервые за время нашего знакомства он повысил на меня голос.
- Я знаю, что делаю. Знаю – и всё тут, - со вздохом сказала я, снова встречаясь с матерью взглядом. Плотник покачал головой и всего единственный раз посмотрел на меня, а затем потащил Игорька за собой к спасительной двери.
- Мама, это я! – громко, с надломом произнесла я, входя в комнату.
Вонь тут же ударила в нос, к горлу подступил комок. Желудок взбунтовался.
- Мама, это я, Маришка, - смогла сказать уверенно, без сомнений, вкладывая в слова твёрдую веру.
Она снова на мгновение перестала жевать, и я поняла, что права. Её зрачки расширились, мать вздрогнула, посмотрела на свои руки и вдруг всхлипнула.
- Тсс, - попыталась её успокоить я.
Её затрясло, как припадочную. Ноздри раздувались и раздувались, по лицу стекали слёзы.
Каждый мой шаг к матери превращался в пытку, но я уже перешагнула безвозвратный рубеж. Будь, что будет. Она не заслужила такой смерти.
- Тсс, - снова шепнула я, - всё будет хорошо.
Мать позволила надеть на неё кандалы, туго завязать свой рот и послушно, с опущенной головой поплелась за мной. Я набросила на её обнажённое тело мужскую куртку. С трудом удалось натянуть на мать частично вымазанные кровью штаны, стащив их с самого тощего трупа. Ботинки бородача завершили её наряд.
Я делала все манипуляции с матерью механически. Чтобы не сбрендить, тихонько напевала колыбельную, которую в детстве, когда ещё был жив отец, мать пела мне, затем Игорьку, а потом враз прекратила. Сломалась, ушла в себя. Но когда мать болела и не могла заснуть, то я часто напевала ей: "Глазки скорее сомкни, Спи, моя радость, усни!"
Я знала, что Плотник и Игорёк будут идти медленно, осторожно, ведь заброшенная часть бункера почти слилась с пещерой. В стенах и в полу змеились корни, частично пол перерыли крото-крысы, с радостью вселившись в скрытое от дождей место.
Мать шла молча, но то и дело фыркала и начинала рычать, когда я прекращала пение. Несколько раз она яростно дёргалась на своём поводке, гремя цепями. Её ноздри хищно раздувались, язык высовывался изо рта. Она чуяла крото-крыс.
- Еда, - говорила она, и крото-крысы в ответ жалобно пищали в тёмных углах, но не решались выглядывать.
Верно подмечено, что на каждого хищника находится хищник посильнее.
Она таки ухватила одну крото-крысу, оторвала ей голову и пару секунд смотрела на меня с сомнением. Я вздохнула – и, глядя ей в глаза, медленно освободила ей рот, чтобы она могла, практически не разжёвывая, проглотить тушку крысы. Мне хотелось плакать, но я продолжала идти вперёд.
Плотник и Игорёк устроили привал, развели костёр и уже что-то жевали. Мать сторонилась огня. Плотник, увидев меня, только кивнул, точно не сомневался, что у меня всё получится.
Игорёк, забывшись, сразу же бросился ко мне, затем резко остановился и, наконец рассмотрев мать, закричал. Она взбесилась, не узнавая его и злобно, плотоядно поглядывая на младшего, как на недосягаемую жратву.
- Успокойся! - встряхнула я Игорька. Не получилось. Он ещё больше разревелся, и пришлось залепить ему пощёчину. Братишка булькнул и затих, уже затравленно поглядывая на меня. Я никогда не била Игорька, поэтому содеянное подорвало что-то внутри меня - и вдруг разом навалились вина перед братишкой и отвращение к себе. Но так ведь было нужно?
Плотник тоже смотрел на меня с осуждением, и я видела, что всё больше не будет как прежде. В его глазах я и сама не узнавала себя.
- Ты же понимаешь, что это глупо и опасно?!
Я неопределённо пожала плечами, усаживаясь возле костра, грея руки. Он молчал, затем протянул мне бутылку с водой в примирительном жесте. Мы включили радио, но, кроме треска помех, не услышали ничего.
… Мы часто петляли, несколько раз попадали в заваленные породой тупики. В керосинке оставалось совсем мало масла, приходилось экономить. Плотник постоянно сверялся с начерченной от руки картой, вздыхал, и я понимала, что он снова меняет маршрут.
Лишь одно успокаивало: с матерью на цепи можно было не волноваться о крото-крысах.
Наконец, мы нашли округлую дверь - люк – и, приложив совместные усилия, открыли её. Мать тут же подцепила длинными костлявыми пальцами несколько молодых крото-крыс, вытащив их из гнезда наверху. Её кляп прорвался от выпирающих изо рта длинных зубов, и я точно больше бы не смогла, даже если бы попыталась, остановить её. Она хотела есть. Голод довлел над ней всё сильнее, и с каждым часом она всё больше менялась, все меньше прислушивалась к моей колыбельной.
И трудно было сказать, даже предположить навскидку, сколько времени оставалось, прежде чем она набросится на одного из нас, полностью утратив тлеющую искорку узнавания и материнских чувств.
Коридор впереди, на удивление, не пострадал. Вентилятор не работал, и, чтобы выбраться наружу, предстояло карабкаться по лестнице. Битый час я угробила, наглядно, на пальцах показывая матери, чего от неё хочу.
С каждой преодолённой ступенькой она получала пайку из пойманных запасливым Плотником крото-крыс.
В целях безопасности мы с матерью выбрались на поверхность первыми.
С примёрзшей решёткой, закрывающей трубу вентиляции, пришлось повозиться. Пальцы замёрзли. Холодный, просачивающийся сквозь дыры в решётке воздух свербел в груди. Ветер тут же свистел в ушах, запорашивая лицо сухой и колючей крошкой мелкого снега.
Наконец-то мы выбрались. Я дышала полной грудью, оглядывая простор: внизу располагалось замёрзшее озеро с громоздкой махиной, застрявшей в центре, – то ли баржей, то ли кораблём. Вокруг – неприступные горы, облепленные снегом и льдом.
От холода заслезились глаза. Плотник положил мне на плечо руку и сказал, что если мы не хотим замёрзнуть насмерть, то нужно поспешить.
Тёплых вещей нет ни у кого. Лучший вариант - бег, ведь огненный сигнал в убежище не подать.
Игорек оказался у Плотника на руках. Зыркающей по сторонам матери, то и дело дёргающей оковы своих кандалов, судя по всему, холод оказался нипочём. Я вооружилась ножом. Из вещей в кармане робы – керосинка, в другом – бутылка с водой. Плотник держал топор. Мы высмотрели тропинку, по которой практически съехали к озеру. Жаль, нет радио, могло бы помочь.
Лёд на поверхности озера плотный, с синеватыми прожилками, и всё равно страшно: а вдруг провалится?
Под защитой гор безветренно, оттого легче бежать, и не так сильно, как наверху, ощущается холод.
Мать ведёт себя пугающе: сопит, фырчит и угрожающе щёлкает зубами, прорезавшими насквозь её тряпку-кляп.
Дзиньк-дзиньк – при каждом шаге матери лязгают оковы.
Мои волосы растрепались, лезут в глаза и рот... Неожиданно врезаюсь на ходу в Плотника. Он остановился, тяжело дыша.
Присматриваемся – и на той самой высмотренной барже видим размытое движение. Нет, это не крото-крысы, им тут нечего делать. И не люди – слишком стремительно двигаются. Твари.
Он вздыхает. Мы кидаем друг дружке тяжёлые, понимающие взгляды. В груди тут же разрастается ком размером с голову снеговика.
Слабое утешение, но хоть Игорёк больше не хнычет, не задаёт вопросов. В глазах Плотника застыли решимость и обречённость. Он крепко сжимает топор. Знает: надеяться, что проскочим, глупо. Обойти баржу – не хватит времени. Тогда наверняка замерзнем. Возвращаться в бункер – вариант отпадает, коль есть вероятность, что нас точно заметили и выжидают.
Сколько их на барже – даже предполагать страшно. Да и зачем теперь об этом думать?
Плотник переводит взгляд на мать. Что-то задумал. Так и вижу, как в его мозгу щёлкают себе колёсики-шестерёнки.
- Она будет моим щитом, когда нападут. Игорька отдам тебе, и тогда, Маришка, - впервые назвал меня по имени, ласково касаясь пальцами моих волос, - во весь дух бегите к горе, карабкайтесь, наверху вас обязательно засекут радары спутника. Верьте! – словно заклиная, попросил он.
Я кивнула. Больше ничего не оставалось. Тени на барже наконец обрели форму. Высокие, костлявые, со светящимися синеватыми провалами глазниц в безволосых черепах. Я насчитала десять фигур. Они уже не таились.
Я вздохнула и выдохнула, поцеловала Игорька в лобик, сказала ему смотреть только вперёд и бежать со всей мочи. Плотник посадил его себе на плечи. Мать чуть не откусила мне нос, но всё же вовремя отшатнулась и, передумав, замерла на месте. В тёмных, наполняющихся синевой глазах-чужака блестели слёзы.
- Ма. Мари. Маришка, - картавя, выдохнула она и обмякла.
- Я хочу, чтобы ты бежала, мама, сможешь? Пожалуйста, постарайся, ради меня, - умоляюще попросила я. Ответить она не смогла, только открыла рот, но затем кивнула.
Нестись вперёд по покрытому снегом льду было зубодробительно, аж дух захватывало, и я хоть не раз скользила, всё же не упала.
Они выпрыгнули с бортов обледеневшей и накренившейся, намертво вросшей в лёд баржи и помчались на нас. Босые - и когти на пальцах ног служили им почище шипов на бутсах. Никаких лишних движений.
Они живо окружали нас. Проклятая свора шакалов.
Я не оборачивалась. Не хотелось этого видеть, не хотелось ничего слышать. Но время настало.
- Маришка, отдай мне керосинку! - крикнул Плотник, спуская Игорька с плеч на лёд.
Братишка крепко схватил меня за руку. Плотник забрал ключи от оков матери, керосинку и притянул мать поближе к себе, точно собаку на поводке. Тащить Игорька на руках – сильно сбавит мою скорость, но иначе поступить не могла. Мой темп бега трёхлетка не потянет. Я взяла его на руки и прошептала Плотнику единственное слово одними губами вместо прощания: «Спасибо!» Он подмигнул мне, напутствуя:
- Спаси его.
Больше я не оглядывалась, только бежала и бежала вперёд во весь дух, подбадривая себя, задыхаясь и пыхтя. Чёртовы слёзы застилали глаза.
Я слышала лязг топора. Отчаянное матюганье. Хрипы, остервенелое урчание и визг. Звуки борьбы вскоре затихли. Невыносимо сдавило в груди. Я приближалась к кромке обрыва, замечая коренья и выдолбленные в замёрзшей глине ступени. В спину ударил ветер, принеся запах копоти и дыма. Конечно, то был не ветер.
Всё, что я успела сделать, - это подсадить Игорька наверх, сказать: «Хватайся и ползи!» Секунда раздумий – и братишка пополз вертлявым и гибким ужом. Не зря я заставляла его заниматься гимнастикой каждое утро на пару со мной. Не зря я его тренировала.
Нога провалилась в лёд. Я упала. На спину навалилось что-то вонючее и обгорелое. Прорубь расширилась, забрав меня с головой. Холод обездвижил. Я забыла, как дышать. Оцепенела, но вовремя сработали инстинкты. Тут же вынырнула. В руке оказался нож.
Мокрая и задубевшая от холода одежда на теле, казалось, весила тонну. Но мне отчего-то было так жарко, как если бы меня поместили в печь, решив зажарить до хрустящей корочки.
Игорёк всё потиху карабкался и карабкался вверх. Какой же он молодец.
Меня сбили с ног. Двое. В ход пошёл нож. Ударила вхолостую. Обернулась.
Материнские глаза с проступившей синевой чужака внутри я никогда не забуду, пусть даже на вспученном и почерневшем от огня лице.
Бросок и цепкий укус в плечо – туда, ближе к шее, где она открыта. Хороший клок мяса остался в зубах твари. Удивительно, но боли я не почувствовала.
Только хлестала кровь на белесый лёд.
Нож в дрожащей руке снова описал дугу и таки попал в глаз высоченному и полуголому ожившему скелету с нечеловеческой синевой во взгляде. От неожиданности он пошатнулся.
Я подпрыгнула, подстёгиваемая адреналином, и уцепилась за корень. Ещё бы рывок – и нога оказалась на глиняной ступеньке, но мать играючи стащила меня вниз. Спина грохнула об лёд. Сознание померкло от неописуемой боли. Мама стала рвать мою робу на животе, я выставила, обороняясь, руки и была укушена – ею, собственной матерью. Она облизнулась и вгрызлась сильнее, а потом неожиданно отпустила. Первая тварь вытащила из своей глазницы нож и сцепилась с ней за право сожрать меня.
Адреналин медленно затихал, сменяясь холодом и болью. Собственная кровь на снегу казалась до чёртиков живописной.
Бросила взгляд наверх: Игорёк всё ещё полз. Всё ещё был недоступен для них и имел шанс спастись.
"Я должна!- приказала себе. - Должна это сделать!" И встала. Голова кружилась. Прикусила губу и сжала раненую руку – резкая боль смыла собой холод и оцепенение. Снова прыгнув, подтянулась и стала карабкаться наверх, за Игорьком. Преодолела всего лишь единственную ступеньку, как за ногу ухватилась костлявая рука – материнская рука с удлинёнными пальцами. Вторая тварь внизу щёлкала зубами и трепыхалась на льду, отчаянно пытаясь перевернуться, цепляясь за снег одной рукой. Её ноги были вырваны из суставов и разбросаны в стороны. Я поймала взгляд матери, в нём совсем не осталось человечности. И, сколько теперь, Маришка, ни пой, она не узнает ни твоего голоса, ни давнишней колыбельной.
Смех взорвался бульканьем в горле. Мать цеплялась за мою ногу одной рукой, вторая же висела на сухожилиях, повреждённая, как и грудная клетка с торчавшими прямо из мяса рёбрами. Вместо крови - подрагивающая голубая плёнка.
Сил лезть дальше не осталось. Рука кровоточила и не подчинялась командам мозга, я замерзала, ресницы слиплись от льдинок, и волосы превратились в льдистую паклю.
Я знала, что умирала. Знала, что выхода нет. И всё, что могла, - не позволить ей добраться до Игорька. В памяти всплыло радостное лицо отца. Летний день и наши совместные игры. Счастливое тепло разлилось в области сердца. Я приподнялась и, с горем пополам повернувшись набок, вцепилась зубами в пальцы твари, остервенело вгрызлась в плоть, разрывая сухожилия.
Руки совсем замёрзли, и собственные пальцы, как и всё онемевшее тело, полностью обессилили, отказываясь работать. Но челюсть ещё двигалась, а зубы превратились в капкан, движимый лишь отчаянной силой воли: но ведь этого мне ещё хватит с лихвой на то, чтобы тварь полетела вниз.