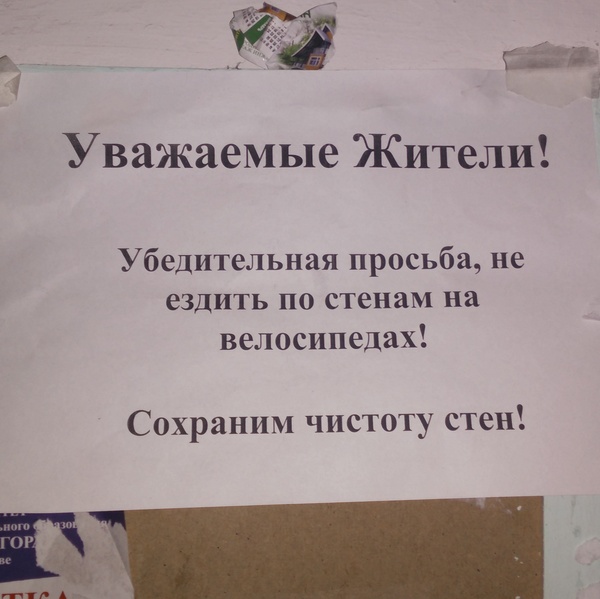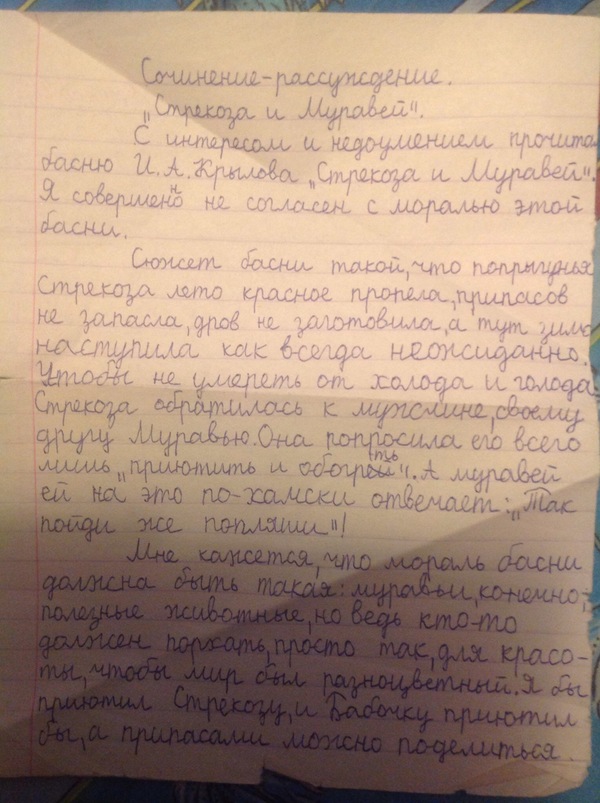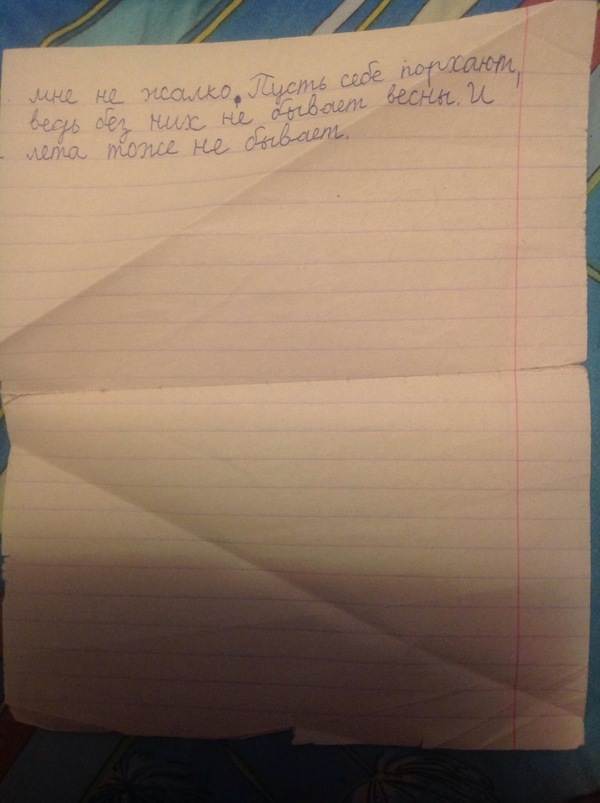Невинная история с эротическим подтекстом
Моя семья — это жена, программист-разработчик каких-то там защитных
банковских систем, и дочка Машка. Жена с дочкой последние недели находятся
в состоянии перманентной войны "за сиську": доча большая, зубатая, отлучать
пора от груди, а она ни в какую.
И вот я вчера прихожу домой после ночного. Все спят.
Машка пускает во сне пузыри, жена тихо улыбается.
Из-под легкого покрывала виден ее темный нежный сосочек.
С мыслью "наконец-то он полностью МОЙ!" приникаю губами...
А жена отпихивает меня, спросонок приняв за нахалку-дочь:
— Машка, отстань.
Я, обиженно:
— Да это я! Муж родной!
Так и не открыв глаза, любимая стаскивает с себя одеяло со словами:
— Голос идентифицирован. Доступ подтверждаю...
Жаль,что напавший на нас хохот долго не позволял воспользоваться
полученным доступом...
День рождения русской парашютной промышленности
18 апреля 1930 года на фабрике в Тушино были сшиты первые серийные советские парашюты — наследники ранцевой системы Глеба Котельникова
О том, что 2 августа ежегодно свой день рождения отмечают самые крылатые войска страны — воздушно-десантные, — знает, наверное, каждый житель России в возрасте старше шести лет. Действительно, 2 августа 1930 года на военных учениях под Воронежем впервые в истории русской армии 12 бойцов совершили групповой прыжок с парашютом для выполнения тактической задачи. Но мало кто знает, что есть еще и день рождения — пусть неофициальный — русской парашютной промышленности. 18 апреля того же 1930 года на первой в СССР парашютной фабрике в московском районе Тушино начался промышленный выпуск первых отечественных парашютов. Без которых, собственно, не могли бы появиться и сами «войска дяди Васи».
Путь к этому дню был долгим и непростым. Начать, пожалуй, стоит с событий, вроде как прямо и не относящихся к авиации и парашютизму, но во многом предопределивших их судьбу в России. После промышленных реформ императора Александра III семимильными шагами начало развиваться русское техническое изобретательство — производство требовало новинок, не уступающих зарубежным. Процесс этот достиг колоссальных масштабов как раз накануне Первой мировой войны, в которую Россия вступила, имея самый большой парк самолетов среди всех воюющих стран. И лучший ранцевый парашют — результат кропотливой работы изобретателя Глеба Котельникова. То, что он был лучшим, доказывает статистика: из 57 документально подтвержденных к 1918 году случаев применения парашюта РК-1 (то есть «Русский, Котельникова, первая модель») лишь в одном зафиксирован… ушиб ног летчика, воспользовавшегося средством спасения! При этом только с 8 июня по 4 октября 1917 года, по данным «Летучей лаборатории» профессора Николая Жуковского, погибли восемь русских летчиков, воспользовавшихся французским парашютом «Жюкмесс» — вторым по распространенности в отечественной авиации начала ХХ века.
Но, к сожалению, Октябрьский переворот и порожденная им катастрофа, получившая название Гражданской войны, поставили крест на очень многих отечественных изобретениях. Да что там изобретения! Сама русская промышленность за несколько лет превратилась в руины. Но даже в этих условиях русским инженерам приходилось делать все, чтобы удовлетворить запросы руководства страны на новые изобретения, прежде всего военного характера. И, конечно, не могли остаться в стороне и те, кто занимался парашютным делом. К концу 1920-х Глеб Котельников, уже немолодой человек, передал все свои патенты на парашюты — а их накопилось немало! — советскому правительству, и ему на смену в качестве создателей новых образцов пришли совершенно иные люди. Среди них был и Михаил Савицкий — профессиональный военный летчик, в 1916 году окончивший Гатчинскую военно-авиационную школу, а в 1928 году — Военно-воздушную академию РККА имени профессора Жуковского. По ее окончании Савицкий и получил предложение войти в состав нового отдела НИИ ВВС — парашютного.
К этому времени стало совершенно очевидно, что без массового применения парашютов, а значит, и их массового производства планы по развитию отечественной авиации, прежде всего военной, обречены на неудачу. О том, насколько важна роль парашюта в деле спасения жизни летчиков, доказал такой случай. В 1927 году летчик-испытатель Михаил Громов сумел спастись из введенного в штопор и отказавшегося выходить из него самолета только с помощью парашюта. С этого момента применение этого средства спасения для летчиков признали обязательным, но встал новый вопрос: как обеспечить достаточное количество парашютов. И поскольку в Советской России их производство еще не было налажено, системы приходилось покупать за рубежом. В основном это были американские парашюты «Ирвинг», каждый из которых обходился казне в 600 долларов (а другие системы — и того дороже, по 1000 инвалютных рублей).
Найти решение этой проблемы и создать фактически с нуля и новые русские парашюты и русскую парашютную промышленность и был призван отдел, руководство которым доверили Михаилу Савицкому. На первых порах все, чем он располагал, —небольшая мастерская-лаборатория в старом доме в Арсеньевском переулке в Москве, где он вместе с восемью подчиненными-единомышленниками занимался расчетами парашютов, изучал импортные конструкции и составлял исследовательские задания для смежников из текстильных НИИ, которые искали наиболее удачные образцы парашютного шелка.
На эту работу ушло почти два года, за которые удалось, взяв за основу американский «Ирвинг» компании Irving Air Chute, спроектировать первый советский парашют — НИИ-1. Именно он-то и стал первым серийным парашютом в Советском Союзе, именно их-то и сшили в первой партии, работа над которой закончилась 18 апреля 1930 года. Причем шили новые парашюты уже не в арсеньевской мастерской, а на первой отечественной парашютной фабрике. Под нее отдали кирпичные корпуса сукновальной фабрики товарищества «Николай Третьяков и компания» в Тушино. Выбор места был очевиден: с одной стороны, фабрика была профильной, а с другой, именно в Тушино в то время концентрировались практически все русские производственные и исследовательские силы, связанные с авиацией.
Парашют НИИ-1.
С тушинской фабрикой, кстати, связано одно очень примечательное совпадение. Последним руководителем товарищества, которое владело ею, был сын купца Николая Третьякова — Сергей, который принял руководство фирмой в 1899 году в возрасте 17 лет. После Октябрьской революции он эмигрировал, но связей с родиной не потерял: в 1929 году он стал сотрудником советской разведки, сыгравшим колоссальную роль во многих предвоенных операциях, связанных с Русским общевоинским союзом (РОВС). Увы, в 1942 году жившего во Франции Сергея Третьякова арестовало гестапо, и два года спустя он был расстрелян в концлагере Ораниенбург. Днем его смерти стало 16 апреля — то есть практически годовщина рождения советской парашютной промышленности, первенец которой обосновался в стенах его фабрики…
Но это будет позже, много позже. А тогда, в 1930 году, все только начиналось. После выпуска первой партии парашютов НИИ-1, в июне 1930 года директора фабрики (и по совместительству руководителя парашютного отдела НИИ ВВС РККА) Михаила Савицкого командируют в США на заводы фирмы Irving Air Chute. Эта поездка мало что дала с точки зрения разработки парашютов, но помогла модернизировать и перестроить работу тушинской парашютной фабрики. Ведь ей предстояло совершить невозможное: в течение кратчайшего времени полностью обеспечить потребности советской авиации и воздушно-десантных войск в парашютах!
И Михаил Савицкий вместе со своими коллегами с этой задачей справился более чем достойно. Вскоре после сдачи первых НИИ-1 в производство были запущены еще три типа парашютов: ПЛ-1 для летчиков, ПН-1 для летнабов (то есть штурманов) и ПТ-1 для учебно-тренировочных прыжков. Вот как описывала эти парашюты изданная в 1936 году книга «Парашютизм. Вопросы теории и практики парашютного дела»: «Парашют, применяемый у нас, относится к парашютам свободного падения системы "Ирвин". Изготовляется он в четырех вариантах: 1) Парашют-подушка для сидения (П.Л.) (для летчиков); 2) Нагрудный парашют (П.Н.) (для летчиков-наблюдателей); 3) Наспинный парашют (для воздухоплавателей и планеристов); 4) Тренировочный комплект (П.Т.), состоящий из двух парашютов — главного (наспинного) и запасного (нагрудного). На нем совершаются все спортивные и экспериментальные прыжки».
«Наспинным парашютом» в то время назывался созданный чуть позднее, чем ПЛ, ПН и ПТ, парашют ПД-1, то есть десантный. Сконструировал его сам Михаил Савицкий в 1931 году, и тогда же была выпущена первая партия этой системы в количестве 70 штук. Всего же в том году первая в СССР парашютная фабрика смогла сшить более 5000 парашютов, которые немедленно разобрали по всем авиачастям и аэроклубам. А на следующий год объем производства резко вырос: в 1932-м фабрика выпустила, как это и было запланировано, 12 035 парашютных комплектов всех моделей, и больше эти системы наша страна для военных нужд не экспортировала.
ПД-1 официально поступил на вооружение молодых воздушно-десантных войск в 1933 году. Его «летные» коллеги — ПЛ-1, ПН-1 — быстро совершенствовались: очень быстро появились вторые, третьи и четвертые модели этих систем, с которыми советские ВВС прошли всю Великую Отечественную войну (эти парашюты и сегодня находят в боевых самолетах тех времен российские поисковики). Тренировочный ПТ-1 стоял на вооружении до 1940 года, и за это время с его помощью были установлены 22 рекорда страны, в том числе и прыжок с минимальной высоты 80 м. Но все это было бы вряд ли возможно, если бы не была проведена та колоссальная работа, которая началась в мастерской в Арсеньевском переулке и принесла свой первый результат 18 апреля 1930 года — на три с половиной месяца раньше, чем родились Воздушно-десантные войска.
Российские учёные создали «электронные синапсы» для нейроморфных процессоров
Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) создали прототипы наноразмерных «электронных синапсов» на основе сверхтонких плёнок оксида гафния. Достижение в перспективе может привести к появлению принципиально новых вычислительных систем.
Группа учёных из МФТИ изготовила мемристоры на основе тонкоплёночного оксида гафния размером всего 40 × 40 нм. При этом созданные наноустройства проявляют свойства, аналогичные биологическим синапсам. С помощью разработанной технологии мемристоры были объединены в матрицы: в перспективе это позволит создавать компьютеры, работающие на принципах биологических нейронных сетей.
Синапс — это место соединения нейронов, основная функция которого — передача сигнала (так называемого «спайка», или сигнала определённого вида) от одного нейрона к другому. Каждый нейрон может иметь тысячи синапсов, то есть связываться с огромным числом других нейронов. Это позволяет обрабатывать информацию не в последовательном (как делают современные компьютеры), а в параллельном режиме. Именно в этом, по мнению специалистов, кроется причина столь фантастической эффективности «живых» нейронных сетей.
Синапсы могут со временем изменять свой «вес», то есть способность передавать сигнал. Это свойство является ключом к пониманию функции памяти и обучаемости мозга. Как и у биологического синапса, величина электрической проводимости мемристора является итогом всей его предыдущей «жизни» — от самого момента изготовления.
Есть несколько физических эффектов, на основе которых можно создавать мемристоры. Российские исследователи использовали устройства на основе тонкоплёночного оксида гафния, в которых наблюдается эффект обратимого электрического пробоя под действием приложенного электрического поля. Чаще всего в таких устройствах используют только два разных состояния, кодирующих логические ноль и единицу. Однако для имитации биологических синапсов необходимо было реализовать непрерывный набор проводимостей в изготовленных устройствах.
На созданных «аналоговых» мемристорах учёные смоделировали несколько механизмов обучения («пластичность») биологических синапсов. В частности, речь идёт о таких функциях, как долговременное усиление или ослабление связи между двумя нейронами. Общепринято, что именно эти явления лежат в основе механизмов памяти.
Кроме того, специалистам удалось продемонстрировать более сложный механизм — так называемую временную пластичность («spike-timing-dependent plasticity»), то есть зависимость величины связи между нейронами от относительного времени их «срабатывания». Ранее было показано, что именно этот механизм отвечает за ассоциативное обучение — способности мозга находить связи между разными событиями.
При этом для демонстрации такой функции в своих мемристорных устройствах авторы специально использовали электрические сигналы, подаваемые на электроды мемристоров, по форме воспроизводящие сигналы в живых нейронах, и получили зависимость, очень похожую на те, которые наблюдаются в живых синапсах.
Таким образом, как утверждается, созданные элементы можно рассматривать как прототип «электронного синапса», на основе которого можно создавать искусственные нейронные сети «в железе».
Пруф:https://mipt.ru/news/fiziki_sozdali_elektronnye_sinapsy_dlya...