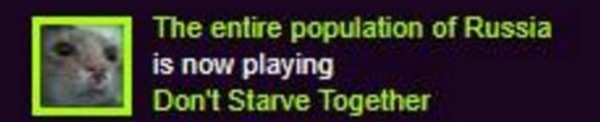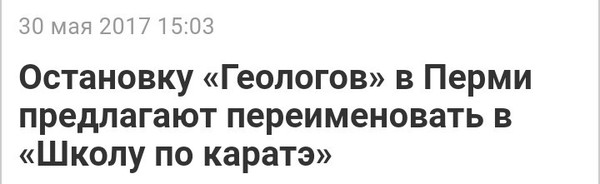Помню как умирал дядя. Еще молодой, ему едва перевалило за пятьдесят. Рак желудка или что-то вроде того. Ирония в том, что еще студентом он видел как от этой же формы рака умирала мать одногруппника, умирала долго, несколько недель, с криками, матом, обгаженными простынями и разругавшись со всей семьей. Потом он признавался: в тот момент для себя решил что хотел бы умереть как угодно, но лишь бы не так.
Помню как меня оставили с ним на выходные. Учился тогда в старших классах или уже на первом курсе универа. Так получилось, что и мои родители и его семья уехали из города, поэтому папа привез его к нам. Я знал об их отъезде заранее, поэтому позвал в гости свою девушку. Проблема уединения для нас, как и для любых подростков, стояла особо актуально. Но потом выяснилось что оставить дядю больше не на кого, поэтому уединение несколько сорвалось. Наверно, не хорошо говорить что я расстроился, но на тот момент так оно и было.
Девушка всё равно пришла и мы провели целый вечер за разговорами. Дядя говорил много, ему хотелось как можно больше рассказать нам о своей жизни, поделиться тем, чем еще не успел. Мы слушали. Хорошо помню этот вечер: на улице уже темно, теплый кухонный свет, девушка у меня на коленях, на другом конце стола дядя, непритронувшийся к чашке чая, очень эмоционально рассказывает о своем хулиганском детстве. Помню это странное чувство: мы, молодые, живые, горячие с одной стороны стола и он худой, со впалыми висками и уже несколько месяцев как постоянно холодными руками — с другой.
В тот вечер он сказал очень важные для меня слова. В детстве дядя каждое лето ездил в небольшую деревню, к родителям матери, моей прабабушке и прадедушке. Как и любое детство это было сказочное время, он всегда с упоением рассказал о нем своей дочери, моей двоюродной сестре. Она, городской ребенок, очарованный сельской романтикой, всегда просилась у него съездить туда, покупаться в пруду, посмотреть на пасеку, погулять по лесу. Но съездить никак не выходило: дела. И дядя тогда произнес фразу, которая надолго отложилась в моей памяти: “Представляешь, я в упор не помню что там были за дела. Важные, не важные, мог я их перенести, не мог. Не помню и всё, их больше нет. А то что моя дочь не съездила туда и, видимо, уже не съездит — это есть. И это останется навсегда, понимаешь?”
Понимаю.
Он продержался около года. До самого конца сохранял чувство юмора. Смеялся над лысой головой, над пожелтевшей кожей, над вставленным ему в живот сосудом с трубками, который приходилось таскать за собой в целлофановом пакете. Последние недели он провел уже дома. Молчал, смотрел телевизор, читал Библию. Умер тихо, успел только попросить воды, но когда стакан принесли пить было уже некому.