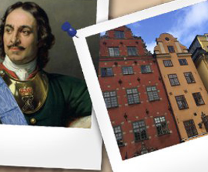
Истории об истории
23 поста
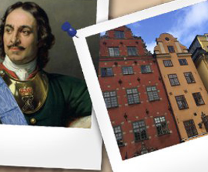
23 поста
10 постов
Я, наконец, все поняла. Медицина в нашей стране хоть и бесплатная, а воспользоваться ей могут только избранные. Должно же как-то государство поощрять стойких и находчивых. Вот и придумало оно квест на выживание. Какая ещё может быть причина расположения приемного отделения для взрослых в здании, озаглавленном как "детская реабилитация". Хотя... возможно тут скрыт смысл более глубокий и философский.
Вообще, я не хотела посещать это заведение, но некоторая хворость нежного организма вынудила, да и поликлиника у нас новая, поэтому без любопытства тоже не обошлось. После толики мучений, в случайно обнаруженной регистратуре, я была отправлена в кабинет 303. Наивно полагая, что он будет находиться между 302 и 304 и, увидев кабинет 301, я глупо решила, что цель где-то рядом. Но следующая дверь обозначенная номером 304 родила в моей душе некоторую тревожность. И не зря, потому как нужный мне кабинет, в конце концов, сыскался в противоположном крыле между 302 и 335. Не иначе, потомок создателей "энигмы" приложил руку к нумерации.
Гордость от собственной смекалки даже как-то оздоровительно подействовала. У врача ещё не была, а процесс уже пошёл, поэтому к доктору я зашла на полпути к исцелению. Внимательно выслушав мои жалобы, и не найдя ничего лишнего у меня в горле, терапевт загрустил. Я тоже, потому что печаль в глазах медика действует угнетающе. Приглядевшись, я поняла, что это не печаль, а скорее разочарование, потому, вспомнила ещё пару симптомов. Это доктору понравилось больше, стало очевидно, что мне дарован второй шанс. С энтузиазмом изучив мою шею, он, пылко сверкая глазами, вынес вердикт - неврологическое. И радостно заулыбался. Как мне ни хотелось сказать, что одни только поиски его кабинета могут довести человека и до неврологического и до психиатрического, совесть не позволила. Не часто становишься причиной восторга участкового терапевта.
Можно было бы предположить, что поводом для этого стали мои прекрасные зеленые глаза, подернутые томной поволокой боли, подчеркивающие аристократичную бледность страдающего лица. Но, думаю, все же причина в моем троичном нерве, выгодно выделяющемся на фоне тривиальных кашлей и соплей. Пока я боролась со своей совестью, доктор писал и писал в моей субтильной карточке, параллельно выспрашивая причины немощи. Природная скромность не позволила мне признаться в прогулке без шапки с недосушенными волосами, потому я предложила лояльное "переохлаждение". Доктору понравилось. Как и мой отказ от уколов в пользу таблеток. "Только бабки уколы любят" - сказал терапевт и кокетливо улыбнулся.
Решив, что если это и комплимент, то весьма сомнительный, но и не желая терять расположение до окончательного излечения, я на всякий случай выразительно и согласно моргнула. Таблетки мне выписали хорошие, но, несмотря на их благотворное влияние и неожиданный побочный эффект в виде снов в стиле «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», лучше я все-таки куплю полис ДМС (здесь, страховщики, могла быть ваша реклама), а бесплатную медицину оставлю более отважным гражданам.
Филипп I Генрихович стал королем в 7 лет. Ну, мы помним, эту капетинговское ноу-хау – короновать наследника еще при жизни предшественника. Так что его должность была чисто номинальной еще лет восемь, пока не умер его папа – Генрих I. Но и тогда Филиппа к руководству страной не допустили, решили, что мал еще. Поэтому регентами при нем были назначены мама - Анна Ярославна и граф Фландрии - Бодуэн V.
На первый взгляд никакого подвоха. А на второй – ужас, вот где ювенальная юстиция нужна была. Опекун-мама самовольно похитилась графом де Крепи и стала с ним жить, оставив ребенка на произвол Бодуэна, а тот стал зятем Вильгельма Нормандского и как-то сразу просел по линии защиты интересов малолетнего подопечного.
К счастью Филиппа, когда ему исполнилось 15 лет и он мог править уже сам, Бодуэн умер. Не то, чтобы мы радовались его смерти, просто с его попустительства вассалы юного короля совершенно распоясались. Вассалы вели себя отвратительно. Непослушно. Строили свои замки где попало. Королю уж и шагу ступить некуда, чтобы не наткнуться на очередную частную собственность. Причем, заметьте, не его. Филипп возмущался, дескать, чего это они, будто бы самостоятельные люди. Вассалы отвечали, что они такие и есть, Филипп закатывал глаза: «А про феодализм и самодержавие не, не слышали?» И все начинали воевать.
Воевал король экономически целесообразно. Так он думал. Вот, например, поссорятся два брата из-за владении - Жоффруа Бородатыи и Фульк де Решен. Вроде бы, ну и пусть. Нам то с Филиппом какое дело? А самое выгодное! Хитрец Фульк возьмет да и подарит королю графство. Думаете коррупция? Нет, программа повышения лояльности. Конечно, Филипп голосует за Решена, а Жоффруа в заточении сходит с ума. В прямом смысле этого слова.
Идейно король тоже мог повоевать. Например, когда во Фландрии случилась семейная распря. Надо сказать, что тетя Филиппа – Адель Робертовна Французская была там главной графиней. Правда, она же еще была и тещей Вильгельма Завоевателя, но об этом пока не сейчас. Вернемся к распре. Сын Адели – Роберт вознамерился возглавить Фландрию взамен собственного племянника, Арнульфа. Адели Робертовне это было неприятно и она попросила нашего Филиппа остановить непослушного сына. Филипп отозвался и прислал большую-пребольшую армию. Но, к сожалению, пока эта армия строилась на поле будущего боя, сторонники Роберта напали и победили. В процессе убили Арнульфа. Как бы делить Фландрию стало не с кем. Филиппу пришлось признать Роберта графом, а чтобы Филиппу было не так обидно, Роберт предложил в качестве утешения свою падчерицу Берту. Королю Франции деваться некуда, на Берте он, конечно, женился, но прекрасно понимал, что его супруга - это «голубая каска» и вообще казачок то засланный. С должностными обязанностями она справляется, наследников рожает, но в то же время зорко следит, чтобы Филипп не задумал чего обидного для родины ее - Фландрии.
Филипп потерпел Берту 18 лет, а потом устал и отправил супругу пожить в замке под подписку о невыезде. А в Рим он написал, что внезапно вспомнил, они же с супругой родственники, поэтому сожительство с падчерицей двоюродного брата ему претит. Берта спустя три года странным образом скончалась. И отчего бы такое могло произойти?
Мы не станем голословно обвинять, но еще при ее жизни, правда, спустя два года после высылки, Филипп поразился красотой Бертрады де Монфор, супруги нашего старого знакомого де Решена. Дама, чьим внучатым племянником, кстати, был Симон де Монфор - учредитель «бешеного парламента» в Англии, судя по всему, тоже чем-то в короле прельстилась, потому что сговорилась с Филиппом о похищении. И Филипп, чью маму в свое время похитил ее воздыхатель, за что был порицаем и гнан, сделал то же самое.
Де Решен не стал скандалить, Бертрада у него была уже пятая, женой меньше, женой больше, и признал притязания Филиппа. А церковь не признала. Один епископ даже страшно ругался по этому поводу. Филиппу сделалось обидно и он арестовал епископа, а духовенству предложил вообще негодяя уволить. Церковники глубоко шокировались, попытались королю объяснить, что они поддерживают позицию коллеги, и всех не пересажаешь. Но у Филиппа же любовь.
Отгадайте, что в ответ сделал Рим? Естественно, отлучил короля и Бертраду от церкви. А тем и все равно, знай себе, живут и детишек рожают. Однако, вы же понимаете, рейтинг не картошка, в окно не выкинешь. Стал Филипп замечать, что все мировое сообщество как-то косо на него смотрит, подданные плохо слушаются, а в крестовый поход так вообще не взяли, будто он нехристь какая. Предложил тогда Филипп супруге сделать паузу в отношениях, мол, поживем отдельно, подумаем. Но надолго его не хватило. Лишь за четыре года до смерти он окончательно разъехался с Бертрадой. То ли надоела, то ли чувствовал приближение кончины, а умирать отлученным не хотел, а может, просто утомился постоянно извиняться перед детьми от первого брака за Бертрадины попытки их отравить. Тоже можно понять, он уже старый, его девушки не любят, ему бы тишины и покоя, а под носом черти что – то наследники при живом еще отце уже корону делят, то Бертрада с отравляющими веществами шалит.
В общем, под конец жизни Филипп устал и решительно умер. 48 лет отцарствовал и все, поминай, как звали. А звали его плохо. Неблагодарные потомки забыли про то, что богатство Франции при нем графствами прирастало и, что англо-нормандскую монархию он пошатал. Да, шутка ли сказать, Филипп даже стал косвенным виновником смерти английского короля. Все забыли. В памяти у них осталось лишь его неповиновение церкви и сомнительный брак.
Не знаю, кого как, а меня в детстве когда кормили геркулесовой кашей, развлекали биографией Геракла. Вряд ли она меня впечатлила, но определенный эффект достигнут точно был. За свою, как мне кажется, недолгую жизнь, я оторвала ручки у трёх входных дверей. Вроде бы крышку у банки открутить мне не всегда подвластно, а двери калечить это запросто.
Первые жертвы моей силушки богатырской особого внимания и не стоят. Мне говорили: "открыто", я настаивала: "закрыто". На волю хотелось сильно, итог печален. Но последняя ручка запала в душу. И не только потому, что её замена мне обошлась чёртову уйму денег.
В тот прекрасный день я продала любимую машину. Такие противоречивые чувства накатывают после этого. С одной стороны, пухлая кучка наличности греет душу. С другой - машину-то жалко. Но наличность греет. Но и машина такая родная была... В общем, эти качели до покупки нового транспорта. Неадекватным становишься - жуть. Ну, да ближе к делу.
Зайдя домой, крепко прижимая к груди несметное богатство, я в волнительном смятении чувств захлопнула дверь и поняла, что вот что-то не то. Что-то не так. Что-то даже как-то эдак. Документы отдала, ключи отдала, денежки вот они, что смущает? Ручка железная дверная в моей ладони и круглая дыра в железной двери, вот что смущает. Истерика, паника, растерянность. Продала, блин, машину. Так удачно, что кусок металлической двери вырвала.
Мастер, конечно же, все починил. И установив усиленную, как он акцентировал внимание, ручку, после пары изумленных взглядов на мою скромную персону, спросил: "Как? Как вы это сделали? Не понимаю".
Размышлялось в русле психосимволизма - преграды, рамки и запреты. Язвилось в русле бытового ехидства - про незабвенных бабу, избу и коня. Кокетничалось тупо, инстинктивно и на генетическом уровне - хлопая ресницами, закатывая глаза. Ответилось тихо и прозаично: "Овсянка, сэр".
Под пятой исторических событий, было бы моветоном обойти милитаристическую тему. Но, поскольку, действительность к шуткам юмора не располагает, стряхнем пыль с 18-го века. Поэтому расскажу о том, как недопонимание и жадность могут привести к самым плачевным последствиям.
В 1788 году многонациональная армия одной европейской страны отправилась в поход на Балканы, дабы выполнить свои союзнические обязательства перед Российской Империей. Армия отправилась большая, свыше 100 тысяч человек, поэтому растянулась она, как могла.
Гусары, нетерпеливо гарцуя, выдвинулись в авангарде в поисках неприятеля. Перейдя реку и утомившись, они с радостным изумлением обнаружили на противоположном берегу вместо врага табор дружелюбно настроенных цыган. Последние были так гостеприимны, что пригласили кавалеристов к столу. Накормили, напоили и с собой еще подарили, правда, за денежку, несколько бочек шнапса, который гусары тут же начали употреблять.
К тому времени, когда употребление достигло апогея, на берегу показалась рота пехотинцев той же армии. Пехотинцы предложили кавалеристам угостить их, то есть себя, то есть их - пехотинцев, шнапсом. Гусары ответили категорическим «нет» и стали сооружать из бочек баррикаду. Не знаю, почему пехоту это не развеселило, мне лично смешно, а вот им показалось обидно и они стали обзываться. Мальчики всегда мальчики, поэтому перебранка очень быстро приняла форму потасовки, во время которой один из гусар то ли случайно, то ли намеренно выстрелил в оппонента, совсем того убив. Драка переросла в побоище.
Ночь, темно, пьяные кавалеристы и злые пехотинцы выясняют отношения. Мероприятие развивалось настолько хаотично и непредсказуемо, что часть гусаров решила от греха подальше вернуться на другой берег. По стечению обстоятельств, такая же идея осенила и часть пехотинцев. А оставшимся частям тех и других в голову пришла мысль преследовать своего убегающего противника. Поэтому вся эта компания начала перебираться через реку обратно. К тому времени, к переправе дошли наконец и опоздавшие части этой замечательной армии, и с удивлением стали вглядываться в непонятную возню на берегу. По причине никому неизвестной, один из пехотинцев начал кричать: «Турки, турки!». Гусары, приняли решение, что перед лицом общего врага стоит объединиться с пехотой, внезапно влились в их компанию и побежали не за ними, а с ними, чем весьма удивили пехотинцев.
Войско, до сих пор стоявшее на берегу, в недоумении наблюдало, как к ним в ночи движутся некие вооруженные силы, но в растерянности не могло понять, что вообще такое происходит. Потому когда кто-то из командования начал кричать «стой, стой» (Halt! Halt!) в попытке остановить пехотно-кавалерийский табун, напряжение вкупе с воображением и превратило Halt в Allah и застывшие в ожидании войска решили - на их лагерь напали турки. Среди солдат началась паника, лошади вырвались из загона и топтали всех на своем пути. Артиллеристы стреляли, со страху роняя снаряды, которые взрывались у них под ногами. Массовая попытка отступления привела к тому, что мост не выдержал и рухнул, увлекая за собой в пучину тех, кто не умел плавать. Армия воевала сама с собой, не понимая этого.
К сожалению, история умалчивает, каким образом выяснилось истинное положение вещей. Зато не умалчивает об удивлении османов, которые придя на место битвы, долго озирались в попытках понять, какой неведомый непонятно кто положил 10 000 раненными и убитыми. Европейское государство до сих пор не любит упоминания этой страницы своего прошлого, но и не забывает битву при румынском городе - Карансебеш.
Героиня этой статьи родилась в большой и любящей семье. Пусть жили небогато, да и не всегда гладко, но, как бы мне не хотелось подкинуть сюда пару, разрывающих душу, драматических коллизий, увы. Родители воспитывали детей, и мальчиков, и девочек, почти в равенстве возможностей. Насколько это было допустимо. Не имея средств обеспечить образование всем отпрыскам, отец семейства, служитель церкви, дочерей обучал сам. С малолетства поощряя и развивая их тягу к знаниям. В то время как для многих подобное было немыслимо, женская доля – рожать детей и блюсти семью. А быть образованной, начитанной, да еще и, не дай Бог, умной, это моветон и опасное нравственное разложение.
Стоит ли удивляться, что с момента, когда наша героиня начала первые шаги на писательском поприще и долгие годы после, самой верной ее аудиторией были домочадцы? Они ее поощряли, со снисхождением относились к моментам творчества, когда она, поймав в воображении видимую только ей сцену, обрывала беседу и бросалась писать страницу за страницей. Они с удовольствием и гордостью слушали на семейных посиделках очередные опусы, восторгаясь, а иной раз и справедливо критикуя. Такая поддержка помогала укрепляться ее уверенности и намерению продолжать.
Читатели, когда дают оценку произведениям нашей героини, обращают внимание на своеобразный, но легкий слог. На добрый юмор и самоиронию. На простоту и изящество. Такой была и она сама. Противоречивой. Одновременно чувствительной, но не сентиментальной, даже наоборот, трезвомыслящей и рациональной. Часто ее относят к авторам женского романа. Она же женщина и главные герои ее книг тоже женщины. А это неудивительно. Ведь она писала о том, что понимала и считала важным для себя и своих близких. Очень немногие помнят одну из первых ее работ - «Историю Англии». Пусть эта книга и в пародийном стиле, зато точно не женский роман. Некоторые упрекают ее в примитивности сюжетов, в однообразии паттернов. Другие сравнивают искренность ее повествований с наивностью сказки про Золушку. Даже если это и так, она всего лишь хотела, чтобы ее герои «после некоторых невзгод получили все то, чего они жаждут». И раз за разом на страницах своих книг дарила в это веру.
Поклонники таланта нашей героини видят в ней хорошего психолога, потому что она тонко чувствует героев и четко прописывает их образы. Вряд ли тут речь о психологии, скорее об эмпатии - умении поставить себя на место другого, понять, проникнуться и выразить его переживания. На мой взгляд, здесь не столько знание о природе человеческой души, сколько чуткость, эмоциональная открытость и восприимчивость. Между прочим, те же качества были замечены у Шопена еще в детстве, но психологом его так никто и не назвал. Затворницей наша героиня не была, но и возможности путешествовать, которой бы для себя хотела, у нее тоже не было. Однако она легко обошла это препятствие. Активно переписывалась с многочисленными членами семьи, друзьями, членами семей друзей и друзьями членов семьи, собирала материал для творчества и вдохновения, а дальше - воображение, талант и усердие делали свою работу. Война, которая хоть и шла где-то там, в Европе, беспорядки, политические и социальные потрясения в мире приходили к ней в дом с почтовыми конвертами. Пусть напрямую она об этом не писала, в ее произведениях можно уловить настроения, царящие в обществе и последствия событий, которые оно было вынуждено преодолевать.
Наша героиня росла в теплых заботливых объятиях и взаимном уважении, может потому с бесстрашием бросалась в любые чувства, а потом вела через них своих героев. Она выучила язык жестов, ведь только так могла общаться с неговорящим братом. Делила боль утраты с сестрой, чей жених скоропостижно скончался. С отчаянной, если не сказать мужественной, решимостью прожила личную драму, что разбила ей сердце.
Обычно именно эту историю трактуют в качестве причины, по которой наша героиня так никогда и не вышла замуж. А ведь однажды, уже после печального опыта, она все-таки приняла предложение. Правда, на следующий день отозвала согласие. В этом месте ее биографии традиционно раздается хор унылых голосов: «не смогла больше впустить любовь в свое израненное сердце». Мне кажется, имей мы шанс спросить у нее напрямую, ответ бы многих удивил или даже разочаровал. Девушка проницательная, наша героиня прекрасно отдавала себе отчет, что брак, как явление социальное, основанное на самоотдаче, вполне вероятно, стал бы обременительной и со временем ненавистной ношей. Вряд ли она сумела бы совместить заботу о семье с бесконечным желанием пропускать через себя эмоции, осознавать их, чтобы затем рассказать о них при помощи персонажей своих книг. Быть может, она всего лишь грамотно расставила для себя приоритеты. Понимая, что отказ от творчества лишит ее смысла жизни, пожертвовала тем, что представляло для нее меньшую ценность. В пользу этой версии говорит тот факт, что писательство хоть и приносило ей некоторый доход, в конце концов, она, одинокая дама, могла себя худо-бедно содержать, тем не менее, избегала публичности и встреч с поклонниками, а какое-то время даже печаталась под псевдонимом.
Умерла она несправедливо рано - в 41 год. От болезни. Признание таланта пришло несправедливо поздно. Лишь спустя 100 лет после ее смерти. А сегодня 16.12.2022 отмечается 247-й день рождения нашей героини. К сожалению, поздравить ее у нас не получится, зато получится поздравить меня, мне сегодня исполняется чуточку меньше. Свое же почтение Джейн Остин, имениннице, о которой был этот текст, можем выразить, открыв одну из ее книг и погрузившись в мир Эммы, мистера Дарси и обитателей Мэнсфилд-парка, чтобы поверить - после некоторых невзгод мы тоже получим все то, чего жаждем.
В прошлый раз мы говорили про то откуда взялись славяне, сейчас предлагаю обсудить кто такой Рюрик. Как обычно, в наличии у нас есть только теории.
По одной из них, в 862 году нескольких финно-угорских, балто-славянских и просто славянских племен, проживающих по соседству, в край испортили между собой отношения. Ну, то есть не обострили, не эскалировали, а как-то вот перестали друг друга понимать. Вроде договорятся о чем-нибудь, а потом все одно у них монополярный мир получается. Потому собрались делегаты этих племен и решили разорвать порочный круг: «А что если мы вот прямо серьезно объединимся и возглавимся человеком со стороны? Чтобы не лоббировал интересы своего племени, а был напротив, абсолютно непредвзят и справедлив». Идея показалась здравой. Тем более, тогдашние хедхантеры принесли весть, что поблизости как раз в свободном поиске находится замечательный соискатель, товарищ Рюрик. У него даже и команда эффективных менеджеров сразу с собой имеется. Вот ведь везение. Пригласили Рюрика на собеседование, тот себя ждать не заставил, захватил парочку братьев, дружинников вольнонаемных и прибыл. По прибытии представился, что сам он Рюрик, братья его Трувор и Синеус, массовка, а все вместе они варяги-русь. Конфедерация славянских племен впечатлилась, трудоустроила, и в честь такого дела, тем более раз уж они теперь дружная крепкая семья, обозвались руссами, как пришлые варяги. Подвели, так сказать, к общему знаменателю. Ну, и стали строить Новгород, зарождать государственность и так далее.
По традиции норманистов, Рюрика из этой версии записывают в шведы. Шведы по-фински «руотси», поэтому будто бы, когда Рюрик представлялся старейшинам симпозиума славянских племен, то ли у пришлых варягов были фефекты фикции, то ли финно-угры ближе всех стояли, но все услышали «руссы», а финно-угры, следуя логике норманистов, загадочно улыбнулись и подумали: «шведы».
По другой версии, жил-был новгородский посадник Гостомысл, великого авторитета и мудрости человек. И приснился ему сон, как из чрева его дочери Умилы, жены финн-угорского князя вырастает дерево, покрывающее своими ветвями огромный город. Подивился Гостомысл сначала, какая только дичь не привидится, но знающие люди ему растолковали, что это знак – править будет его внук, сын Умилы. Гостомыслу сделалось приятно. Собрал он глав окрестных племен и рассказал о своем видении. Зовите, говорит, внука моего скорей и умер. Старейшины позвали, и приехал к ним Рюрик с братьями и прочими вольнонаемными варягами. А дальше - строительство Новгородской республики, зарождение государственности и так далее. При этом, как мы понимаем, уже и Новгород есть, и Рюрик нам не чужой человек, а минимум на ¼ славянин, на ¼ финно-угр. Так что шах и мат, норманисты.
По модифицированной В.Н. Татищевым версии, Рюрик вообще был женат на другой дочери Гостомысла - Ефанде. Был ли он при этом племянником собственной жены непонятно, давайте надеяться, что нет. Но мало нам страданий в поисках корней Рюрика. Тут еще и сюжет делает головокружительный вираж. Ефанда то, хоть и дочь новгородского посадника, по совместительству еще и норвежская принцесса, причем норвежская еще до свадьбы с Рюриком, если вдруг кто решит Рюрика в норвеги записать, а также сестра Вещего Олега. Версия вполне себе симпатичная, хоть запутанная и мелодраматичная, но немного высосана из пальца Татищева. Василий Никитич был большой любитель исторической науки в современной ему понимании её, все это вычитал кое-где, не рассказал где, и в Иоакимовской летописи. Которую сам опубликовал и к которой сам же рекомендовал относиться с долей здравой критики.
Думаете, все, версии закончились? Держите карман шире, это мы только разогревались.
Следующая теория явления Рюрика народу была поддержана и одобрена самим М.В. Ломоносовым. А это вам не шутки. Так вот Михайло Васильевич считал, что Рюрик самый что ни на есть истинный славянин, то есть русс, просто жил рядом с пруссами, оттого в летописях и появилась непонятная закавыка, мол варяг этот был из пруссов, а он и не был. Да и сами пруссы тоже не совсем что бы пруссы, а звались так, потому что жили рядом с руссами. Что непонятного то? Все очевидно. Смех смехом, но его утверждение, что корень «рус» неизвестен в скандинавских языках, которым он аргументировал свою теорию, опровергнуть-то никто и не смог.
Если вы все еще не запутались, продолжим.
Сейчас головокружительный вираж сделаю я. И предложу к рассмотрению версию, согласно которой Рюрик не Рюрик, а Рёрик. Принц Датский. Ладно, это я балуюсь. Рёрик - конунг Ютландский. Справедливости ради, это почти тоже самое, что принц датский. Тем более что под этим персонажем скорее всего понимается Хрёрик Метатель колец, дед того самого принца. Представляете, как бы мы тут сейчас замутили фэнтези из «Гамлета» вперемешку с «Повестью временных лет», если бы нас вовремя не одернули историки, указав, что версия с Хрёриком по логистике не совсем проходит критику. К тому же, Хрёрик хоть в 862 году будто бы и был занят покорением славян-венедов, это все со слов Саксона Грамматика, датского хрониста, ну такой себе источник. Поэтому забудем и поедем дальше.
Вот вам самая интересная, на мой взгляд, история поисков истоков Рюрика, отголоски которой чувствуются и сейчас. Ко дню тезоименитства российской императрицы Елизаветы Петровны, великие умы ее современности готовили научпоп мероприятие. Чтобы и публику развлечь и интерес к наукам подогреть. Среди выступлянтов был господин Герард Фридрих Миллер, извиняюсь за выражение, немец. Который накропал труд о самом что ни на есть скандинавском происхождении Рюрика, Рюриковичей и прочих Романовых. Согласно его диссертации выходило, что Россия - отколовшийся от топота копыт Золотой Орды кусочек Швеции, обложенный данью еще Рагнаром Лодброком, и вообще «скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили». Собрался товарищ Миллер всю эту гадость рассказать, в том числе, императрице, чья держава с переменным успехом на протяжении столетий воюет со шведами. Ну, это то же самое, если бы какой-то ученый Сталину заявил, что тот от немцев родословную ведет. К моему удивлению, Миллеру кроме разгрома его работы в пух и прах, в том числе Ломоносовым, особо ничего и не было. Ну труд его приказали уничтожить, ну запрет наложили на ведение генеалогических изысканий, чтобы своим калашным рылом, ересь всякую не искал и не распускал. Так, Миллер, тот еще жук, тайную копию своего пасквиля на Запад переправил и пустил, таки, зловредное детище в массы, тем самым, практически, сформировал западноевропейский взгляд на российскую историю. Козел. Простите.
Ладно. Зато еще по одной из гипотез, Рюрик с потомками и вовсе родня древнеримлянам. Не верите? А вот смотрите. Был такой Гай Юлий Цезарь, а у него был внучатый племянник - Октавиан Август. Так вот этот Октавиан «брата своего Пруса посадил на берегах Вислы-реки по реку, называемую Неман, что и доныне по имени его зовется Прусской землей, а от Пруса четырнадцатое колено – великий государь Рюрик». Ну и мы же помним, оттуда пришли Рюрик и сотоварищи, у них спросили «вы кто?», они сказали «пруссы», все услышали «руссы», а дальше вы знаете. Для меня не меньшей загадкой, чем происхождение Рюрика, является глухота населения в 9-м веке. Кто-то занимается этим вопросом? Почему они вечно слышали слова без части звуков? Хорошо, допустим, не разобрали, может говорящий косноязычен, ну переспросите, чтобы людям спустя тысячелетие не пришлось сто мильонов гипотез строить. Эх. Теория с древнеримлянами была особенно популярна, когда к крови российских монархов основательно добавилась кровь немецких. И конечно же гордились тут родством с Юлием Цезарем, не с пруссами.
В 19 веке на сцену вышла еще одна теория. Какая по счету? Кто-нибудь считает? Один из историков, Гедеонов, предъявил аргумент, что имя Рюрик и не имя вовсе, а прозвище, причем Ререк, которое переводится как «сокол». Так якобы называли племена венедов (западных славян) в скандинавских сагах. И, как акцентировал внимание историк, в «Слове о полку Игореве» Рюриковичей тоже звали соколами. Ну, может, не слышал человек о метафорах, хотя ведь, помимо прочего, драматург. По его же мнению, созвучное Рюрику имя Рориг, которое видимо опять все недослышали или переврали, это и славянское божество, и название племени ободритов (еще одно племя славян) и вообще похоже на слово «Сварог», в русском происхождении которого усомнится лишь умалишенный. И вот вроде уже почти все сошлось, но лингвисты с Гедеоновым не согласились. Благодаря чему, понятнее откуда взялся Рюрик, и кто он вообще такой, снова не сделалось. Так что переходим к очередной версии.
А тут у нас суровые нравы века 20-го и жесткое мнение Д.С. Лихачева, что Рюрик ваш - это вообще выдумка, легенда и фантазия. Причем ссылается Дмитрий Сергеевич на аналогичные истории у британцев. Говоря современным языком, был такой тренд у летописцев, грамотный пиар и качественный маркетинг по продвижению в массы авторитета правящей династии. Это совсем неинтересно. Если мы прислушаемся к мнению Лихачева, то нам придется признать, что Рюрик персонаж мифический, а это скучно, и к тому же лишает удовольствия лицезреть кровожадные дебаты между норманистами и антинорманистами, что иной раз увлекательнее истории самого Рюрика. Так что при всем уважении, мы мнение Дмитрия Сергеевича аккуратно обойдем и, как прогрессивные люди, зададимся вопросом: а что там по генетике?
Секунду. Перестану ухмыляться и продолжу.
Итак. Век нейросетей, космических технологий и почти магических способов восстановления лиц египетских фараонов из праха мумий сейчас прольет свет на загадочное появление таинственного Рюрика. Да ведь? (извините, снова ухмыляюсь)
Конечно же генетики озадачились вопросами изучения аллелей, гаплогрупп и других непонятных простому обывателю признаков родства. Но.., родства кому? Людям, считающим себя потомками Рюрика. Ууух… Ладно, у людей, называющих себя потомками Владимира Мономаха, а он все ж на 200 лет к нам поближе, считай вчера это было, генетики тоже чего-то взяли, тоже изучили. И, знаете, что? Ничего.
Легче нам от этого не стало. Пусть мы и узнали, что такие аллели и гаплогруппы в основном водятся у людей, проживающих на территории от Скандинавии до Урала, к Рюрику и тайне его происхождения нас это приблизило примерно на расстояние, что между Скандинавией и Уралом. Да и то, при условии, что люди, считающие себя потомками Рюрика и Мономаха помимо прочего, во-первых, не считают себя в остальное время Наполеонами, во-вторых, действительно являются потомками Рюриковичей, и в-третьих, вместе с пращурами были верны своим супругам. Как по мне, так слишком много допущений.
Возможно, стоит вернуться на шаг назад к теории Дмитрия Сергеевича Лихачева или признать, что был Рюрик или нет, был ли он скандинавом или славянином, для нас навсегда останется загадкой. Кто знает, может оно и к лучшему…
Давненько мы не теребили Швецию за ее полуостров, думаю самое время.
Со скандинавами у нас всегда были сложности в отношениях, хотя всякое случалось, по одной из версий они чуточку родня, по другой – с их пришествия мы государственность свою принялись взращивать. Последний факт между прочим по-разному можно трактовать. Может, пришли варяги, мы на них посмотрели, они нам понравились, и мы предложили стартап совместный замутить. Или напротив, глянули, мать честная, во животные! И целях выживания генофонда, сплотились в государство. Как бы там ни было, а отношения между нами складывались многогранные, но с одной только Швецией у нас было 16 войн с 12-го по 19-й век.
Сейчас одни говорят: «Ироды! Нейтральную милаху Швецию, добрейшей души страну в НАТО толкаете». Другие возражают: «Да кто это Швецию нейтральной сделал? Россия под Полтавой». Мы с этими товарищами спорить не будем. Потому что они неправы. Вернее, правы, но не совсем. Последней войной наших скандинавских соседей, после чего они на все это дело плюнули и решили жить дружно, была война с Россией, но мудрое решение их осенило вовсе не степях Украины, а гораздо севернее. Вот как это начиналось.
1809 год. Шла очередная русско-шведская война. Тогда, в 19-м веке «Северных потоков» еще не было, а холодно зимой уже было, поэтому обе армии решили на этот период взять тайм-аут. Ну не воевать же в такую погоду, в самом деле. И если Швеция проводила время вроде как с толком - пополняла запасы оружия и человеческих ресурсов, Россия думала. Мысли ее были о том, что как-то семь веков войны уже нереально задолбали и пора бы это цирк сворачивать. Но уступать или отступать России в голову не приходило. Так что сидела она, в лице Александра I, и чесала репу, в лице его лысины. Иногда к императору приходили генералы из штаба и тогда они уже все вместе сидели и думали, думали и чесали. Пока кому-то из них не пришла гениальная идея: «А давайте, наша армия не будет ждать милостей ни от противника, ни от природы, а возьмет и по Балтийскому морю пойдет, аки Иисус, в Швецию». Тут все генералы воодушевились, захлопали в ладоши и отправили гонца в расположение войск с радостной вестью.
Полевые генералы, в отличие от штабных, радость не разделили. Глянули в депешу, глянули на лед Балтики и хором сказали: «Да ни в жисть!»
Александр, узнав об этом, не позволил себе унывать и просто назначил новое командование. Которое уже было похитрее, отказываться от похода по застывшему морю оно не стало, но принялось тянуть резину. То им идти не в чем, то не с чем, то они толстые. В общем полоскали мозги самодержцу аж до февраля. И тут возник вопрос: что лопнет раньше - лед или терпение Александра. Лед выдержал, а император нет. Поэтому полетели головы и поехал Аракчеев. Поехал он по поручению императора, чтобы столкнуть-таки армию на лёд. Прибыл к войскам весь такой красивенький и стал с ними по душам говорить, мол, чего бы вам хотелось, чего не хватает, кем вы видите себя через пять лет, ой, посмотрите, какие я вам тулупчики привез. Обаял. Но и снабдил, что есть, то есть. Обеспечил с ног до головы и укомплектовал с головы до ног. Стоит, смотрит на войска, любуется. Слеза умиления по щеке катится. Говорит: «Господи, до чего ж вы у нас красивые и бравые. Хоть прямо сейчас на шведов идти. И раз уж вы спросили, то я за. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья! Швеция вон там».
Не успели солдаты глазом моргнуть, как Багратион и Барклай-де-Толли их уже на первый-второй рассчитывают, чтобы одни пошли с Багратионом к Стокгольму с кочки на кочку по Аландским островам, а другие сильно севернее с Барклаем. Миссия последних почти невыполнима.
На дорожку, конечно, тоже посидели, по традиции подумали, почесали. И отправились. Уже начало марта, еще немного и от льда ни следа.
Это нам только с берега кажется, что море сковано прочно и идти по нему вопрос не особенно сложный. Ой, как мы заблуждаемся. Оттепель, шторма, ледяные горы и промозглый ветер. Видимость ноль, лошади не помощники – все приходится тащить на себе, еще и времени на марш-бросок отведено не более 48 часов. Помимо покорения метеорологических условий, нужно ведь еще и сюрприз шведам сделать. Двигаться русской армии приходилось быстро, никаких перерывов на кофе или поныть. Тем более, с продвижением, до всех стало доходить, что они вообще-то посреди моря и, если что-то пойдет не так – грош цена их жизням. Спасти просто невозможно. Так что энергично и целеустремленно войска шли в гости к шведам. Последние, кстати, уже имели опыт наших визитов и не очень-то их любили. Может, потому что вот такие вот они люди с гнильцой, а может напротив, потому что в первый же визит новгородцы спалили дотла им столицу. Еще и ворота уперли. Ибо..., ну вы знаете. Сути это не меняет, если бы шведы знали о предстоящих гостях, они наверняка грызли бы лед Балтики, но они не знали.
Тем временем, части Барклая продвигались и утром 9 марта десантировались на шведский берег, где их никто не встретил. Люди спят еще никого не ждут. Русским стало немножко обидно, и они на всякий случай подожгли первый попавшийся корабль. Ну хоть как –то привлечь к себе внимание. У них получилось. Что тут началось. Аборигены в кальсонах бегают, в рынду стучат, в Стокгольм депеши шлют, мол, вы чего нас не предупредили, к нам гости, а мы в исподнем и чего делать-то??
Но Стокгольму тоже не до того, и у них гости на пороге – Багратион со своими частями расположился и вроде даже потихоньку обживает Аланды. Все психуют: «Ну кто так делает? Приперлись! Варвары и есть, додуматься только по морю пешком припереться. Кто так воюет вообще?» Обижались и грозились пожаловаться мировой общественности. Ко всеобщему везению, среди шведов нашлись здравомыслящие люди, которые трезво оценили ситуацию и предложили России перемирие. Россия его приняла и отозвала свои части.
Правда, потом мы еще ненадолго поссорились, но это совсем другая история.
Армию дома встречали как героев, называли их подвиг беспрецедентным и всевозможно восхищались. "Понесённые в сём переходе труды единственно русскому преодолеть только можно» - говорил шотландский немец Барклай-де Толли. Наших воины счастливо рделись, но не возражали.
Сейчас об этом походе почти забыли, а жаль. Потому что это не только пример воинской славы, но и возможно первый военно-политический троллинг со стороны нашей страны. Ведь идею сюрпризно приходить к противнику по льду придумали не мы, а как раз шведы, когда за 150 лет до этого также пришли к датчанам и также принудили их к перемирию. Но мы, конечно, об этом никому не расскажем.
Давным-давно, жили индоевропейские племена... Ладно, не буду томить. Никто не знает наверняка, от кого славяне произошли. И тайна их происхождения, скорее всего, навсегда останется тайной. Непонятно, то ли мы из кого-то выросли, то ли где-то появились сами по себе, или кто-то нас с собой принёс. Увы, тут нет никакой мистики, никаких теорий заговора и инопланетных вторжений. Проблема в том, что это была так давно, и не сохранилось читаемых следов, по которым можно было бы сделать выводы. Не подумали о нас предки, не записали нам этот путь, поэтому все теории лишь теории, ни один здравомыслящий человек, не даст нам точного ответа. И, кстати, никто также до сих пор не может с полной уверенностью нам сказать: славяне и русские это одно и тоже или нет.
Но вернемся к индоевропейским племенам. Было среди них такое племя – скифы. Историки, например, Геродот или Плиний описывали Скифию довольно размыто, примерно в границах бывшего СССР. И записывали они в эту Скифию всех подряд, хотя фактически там еще были и роксоланы, аланы, сарматы, но тогдашним историкам это было неважно, у них было: «Ты оттуда? Оттуда? Ну все, поздравляю, ты скиф». Иногда, они вдруг замечали среди скифов сарматов, но согласно их версиям, то были потомки от союзов скифов и амазонок. Вот и удивляйся теперь, что Запад нас до сих пор за варваров держит. Напридумывают себе сначала чёрти что.
В общем сарматы дружили со скифами, родня как никак. А потом они поссорились. Да так сильно, что следы скифов вдруг растворились. Поначалу у скифов просто настала черная полоса в жизни. Внутренние неурядицы дополнительно драматизировали нападения готов с Запада. И пока скифы пытались справиться с трудностями, сарматы решили, что их долг родственникам помочь, даже если родственники будут против, даже если их придется немножко поубивать.
Вобрав и растворив в себе остатки скифов, любознательные потомки амазонок, решили развеяться прогулкой в сторону Римской империи и отправились в евротур. Древнеримляне гостей не ждали и визит получился весьма скомканным, в основном, конечно, сарматы комкали легионеров, которые и так от постоянных стычек с готами уже изрядно вымотались. Но империя все же не лыком была шита и пусть сарматы нападали с энтузиазмом, римлянам удавалось, невесть откуда взявшихся, кочевников выдворять и отодвигать.
Пока ребята выясняли между собой отношения, в глубоком тылу сарматов зародилось еще одно племя – протославяне. Эти товарищи были незлобные, спокойные, промышляли преимущественно земледелием и охотой. Причем распространялись они активно, один из античных историков, даже назвал их «спорами», очень может быть, что он на что-то намекал. А с другой стороны, ну а чего бы протославянам не распространяться? Они же земледельцы, год-другой землю пообрабатывают, потом ей и отдохнуть надо. Не будут же протославяне сидеть и смотреть на пустошь в ожидании голодной смерти? Пойдут другое место осваивать, в пустоши оставят кого за порядком следить и пойдут. Почти под бок готам и подобрались.
Казалось бы, что может пойти не так? Древнеримляне с готами и сарматами земли делят, протославяне сеют-пашут. И идти бы всему своим чередом, как вдруг из глубин Великой степи заявляет о себе племя гуннов, возглавляемое харизматичным лидером, Аттилой. Гунны парни были простые, звезд с неба не хватали, а Аттила хватал. Вот он им и говорит: «Чего мы тут сидим, горемыки? Что-то у нас тут все как-то не благоустроено, быт без комфорта и растет лишь ковыль да лебеда. Пойдемте-ка за лучшей долей, на Запад». Вскочили на коней и поскакали. Вообще, гунны конечно были воины и убить, безусловно, могли, но не то что бы со зла. Однако поскольку они продвигались неспешно и вдумчиво, получалось так, что помимо смертоубийств народов, встречавшихся на пути, могли кого-то и для компании прихватить, а кого-то, наоборот, в рабство. Таким образом пополняли свои генофонд и численность. Встреченные племена растворялись в потоке гуннов. Разговор у тех был короткий: либо ты наш, либо мертвый.
По мере продвижения, слава о гуннах начала их опережать и теперь племена, не пожелавшие стать жертвами или частью орды гуннов, заслышав о приближении варваров, снималась с места и в рассыпную. Кто успевал, конечно. Правда, бежать не сказать, чтобы особенно было куда – впереди недобрые римляне, позади злые гунны. Выбирали римлян. Заявлялись к ним на правах беженцев и требовали открыть дверь. Легионеры поначалу не понимали, что за ажиотация, впускать не хотели, но беженцы слезно просили и были так напуганы, что империя сжалилась и разрешила пожить пока у себя, тут с краешку.
Протославяне не стали исключением и тоже снялись с мест, заслышав о предстоящей встрече с Аттилой, но далеко не все. Многие были настроены к гуннам вполне лояльно, мол, понятно, ребята они агрессивные, возможно, в чем-то не правы, но в целом же они парни неплохие, почему бы нам не попробовать найти с ними общий язык? Те из протославян, кто не желал ассимилироваться с гуннами, добежали аж до готов, упершись тем в спину. Готы оглянулись и потребовали объяснений. Протославяне, отдышавшись, обрисовали плачевную ситуацию с нашествием гуннов и стали давить готов массой. Готам пространства для маневров осталось немного, кто вверх - в вестготы, кто вниз - в остготы, кто даже до Британии добрался, а часть ввалилась в Римскую империю, перепугав последнюю не на шутку. Теперь объяснений требовали древнеримляне. На что готы лишь отмахнулись и предложили римлянам потесниться. Империя нехотя теснилась и трещала по швам.
Тем временем, гунны приближались. Всем было жуть, как страшно - картины будущего рисовались самые мрачные, люди плакали, прощались с жизнью и тут вдруг… гунны закончились. Аттила умер. А достойного преемника нет. Гунны же кочевники, если их не направлять, они так и будут туда-сюда, как перекати поле, бесцельно кататься. Поэтому, лишившись лидера, они решили, что здесь их миссия и закончится. Молодцы какие, кучу людей с обжитых мест подняли, поубивали немало, заставили разные племена по всей Евразии бегать, спровоцировали Великое переселение народов, а потом: «На этом у нас все. До свиданья».
А люди то, в частности протославяне, уже кто в лес, кто по дрова. Одни берега Вислы заселили, другие берега Днепра, третьи еще какое место хорошее нашли. Пораскидала их орда Аттилы. Что теперь делать? Решили осваивать новые территории, вернувшись к пашням и охотам.
Но недолго у них получилось вести мирную жизнь. Едва перевели дух от бега гуннов по пересеченной местности, как, здрасьте-пожалуйста, аварский каганат.
Эти господа оказались похуже предыдущих. Обижали протославян, почем зря. Речь об ассимиляции вообще не шла, как только авары вспоминали про славян, тех ждала либо смерть, либо рабство. Вот такие они злыдни были. Тоже до Европы дошли. Ну, а чего бы и нет? Гунны логистику настроили, вставай на те же «рельсы» и вперед. Даже Византия с опаской на каганат смотрела, хотя тоже ведь не страна третьего мира, а боялась. Всё головы свои ломали, то ли вступить в союз с протославянами, чтобы вместе дать отпор общему врагу, то ли наоборот, кинуть славян в пасть аварам, авось, те до Византии и не дойдут, насытившись. В общем, уже расселившимся из-за гуннов славянам, пришлось снова рассыпаться на отдельные части, снова переезжать, теперь уже из-за каганата. Кто-то в леса ушел – древляне, кто-то в поля – поляне, ну, и так, по всякому. А тут и каганат пропал. Вот вроде только под дверью стоял, ножкой топал и дань требовал. Как, глядь, а нет никого. Но славяне урок усвоили и стали от родовых общин переходить к организациям с четко выраженной вертикалью власти. Теперь они не просто селились, где Бог на душу положит, а обносили это место забором и назначали воеводу, чтобы тот за их безопасность отвечал и формировал отряды гражданской обороны. Воеводе за вредность полагался и дом покрасивей или землянка получше, в общем, начинали проклевываться ростки расслоения общества на классы и призрак государственности уже виднелся на горизонте.
И вот живут славяне на своих берегах или деревьях, кто где, думают, решили все свои проблемы, делами занимаются. Как вдруг новая беда – викинги.
Северяне, уставшие жить на одной селедке на своих скалистых берегах, решили поискать удачи по миру. Только без мира. Ведь викинг - это что? Это профессия, только все народы так называли морской разбой с насилием и прочими убийствами населения, а северяне считали вполне себе уважаемым и хорошо оплачиваемым занятием. И начали викинги северяне набегать на всех подряд. Плывут на своем драккаре, глядь - страна, набегают. Всех замучили своей навязчивостью и кровожадностью. А ведь это еще даже не Великая армия язычников. И в этот трагический для человечества момент, впервые всплывает слово "рос" или "рус". По одной из версий, так называлось какое-то из славянских племен, что проживало на берегах Днепра. По другой, это одно из названий викингов. Есть и третья, будто бы при визите викинги невнятно представились, принимающей стороне послышалось то ли «рось», то ли «русь», а переспрашивать застеснялись. Так имечко и прилипло.
В общем рось ли, русь ли, а викинги продолжали всех трепать. Славян, между прочим, особо не обижали, ну только если поймают, так поди ж еще поймай. Местность то у славян какая – то овраги, то лес, не разбежишься, то ли дело на английской лужайке, дал мечом по башке, поселенец и умер. А славянин - кто на дерево залезет, кто за валуном спрячется. Северяне мореходы хорошие, а спортивное ориентирование на суше коньком их точно не являлось. Да и славянам, если честно не до противостояний серьезных было. Они ж племя молодое, им развиваться надо, традиции, обычаи придумывать, может даже письменность, а им все некогда – только сядут летопись сочинять, как гунны бегут, надумают похоронные обряды регламентировать – каганат скачет. Никак не до войны с викингами было. Дел по горло. Так что удалось им с северянами сохранить отношения хоть и напряженные, зато продуктивные. Совместные проекты организовывали к взаимному удовольствию – из варяг в греки или визит в Константинополь, например.
Наберут славяне с варягами иноземцев в плен или купцов возьмутся подвезти, пока плывут, разглядывают, чего у пассажиров такого с собой есть, чего у самих нет, а в хозяйстве бы пригодилось. И любопытствовали не только о материальном, но и о духовном, то миф какой-нибудь с собой привезут, то легенду. Переврут правда по дороге, но суть оставят. Дружить с викингами было страшно, зато интересно и полезно, ибо культурный обмен.
Потому, когда славянские племена между собой ссориться начали, закономерным итогом стало приглашение на вакансию антикризисного менеджера кого-нибудь из неплохо зарекомендовавших себя северян. Ну, серьезно, не из каганата же звать. Идея была здравой и совершенно непонятно, почему у противников норманнской теории появления государства Российского от нее зубы скрипят. Ведь лига славянских народов и конкурсный отбор строгий проводила и иноземца не абы почему призвала, а лишь для того, чтобы никакому лобби неподвластен был, ибо не местного роду и интересы блюсти будет общественные, не семейные. Вот так, невесть откуда взявшиеся, славяне, пройдя череду напастей и путешествий, превратившись в группы разрозненных племен, вплотную приблизились к появлению государства. Но это уже другая история.