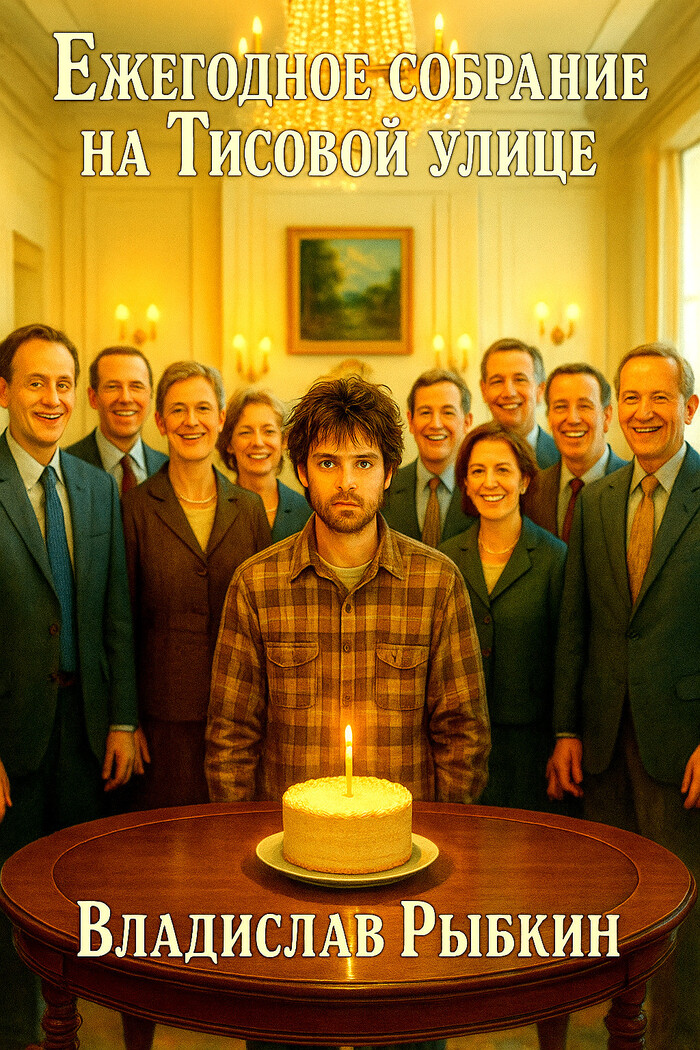Вертолет шел на бреющем. Слишком низко — Борис Рогачев это понимал, даже не будучи пилотом. Лопасти взбивали снежную пыль, которая мгновенно кристаллизовалась на иллюминаторах, превращая мир снаружи в молочную муть с темными пятнами сопок.
— Психи долбаные, — донесся из кабины голос пилота через треск помех. — Февраль. Минус пятьдесят на земле. И они хотят, чтобы я сел на площадку, которую последний раз чистили в прошлом году.
Рогачев не ответил. Рядом с ним Семен Крутицкий сжимал подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Молодой геофизик смотрел в иллюминатор, но Борис подозревал, что видит он не заснеженную пустыню, а что-то свое, внутреннее.
Через проход Анатолий Пищиков дремал. Или делал вид, что дремал — трудно было сказать наверняка. Старый техник сидел с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками, качаясь в такт тряске, словно это было не хуже кресла-качалки на веранде.
Виктор Сазонов читал. Руководитель экспедиции держал планшет на коленях и что-то помечал стилусом, даже когда вертолет проваливался в воздушную яму, и желудок подскакивал к горлу.
«Четверо мужчин в железной коробке над замерзшим адом, — подумал Рогачев. — Звучит как начало забористого анекдота. Жаль только, что панчлайна я не знаю».
Вертолет качнуло. Сильно. Крутицкий вскрикнул — короткий, приглушенный звук, который он попытался скрыть кашлем, но было поздно. Пищиков открыл один глаз.
— Не ссы, салага, — сказал он негромко. — Если суждено сдохнуть на Севере, вертолет — самый быстрый способ.
— Анатолий Сергеевич, — начал Крутицкий, но Пищиков уже закрыл глаза.
Рогачев посмотрел в иллюминатор. Внизу, сквозь разрывы снежной пелены, мелькали белые холмы, черные провалы распадков, редкие темные пятна карликовых берез. Ничего живого. Пейзаж, в котором отсутствовала сама возможность жизни.
Шесть месяцев назад комиссия Российской академии наук признала его расчеты по байкальскому проекту «методологически несостоятельными». Изящная формулировка означала простую вещь: ты облажался, Борис Михайлович, и из-за твоей ошибки потратили двенадцать миллионов рублей государственных денег. Статья в «Природе» была отозвана. Защита докторской — отложена на неопределенный срок.
Жена ушла от него через неделю.
Укладывая вещи, она не кричала. Вот что добивало. Просто молча собирала чемодан — аккуратно, методично, будто отправлялась в обычную командировку.
«Знаешь, что самое смешное? — сказала она, сворачивая свитер. — Я даже не злюсь. Устала. Просто устала ждать, что ты когда-нибудь окажешься здесь. Не физически. Мысленно, эмоционально. Ты всегда был где-то в другом месте. Вечно в экспедициях, в расчетах, в своих термодинамических моделях. Теперь будь там по-настоящему. Навсегда».
Рогачев попытался возразить что-то про статью, про защиту, про необходимость. Она подняла руку — хватит.
«Борь, я уже подала заявление».
Вот тогда Рогачев и понял — это не просто ссора. Это конец.
И вот он здесь. В самом другом месте из возможных. Сибирская тундра, февраль, минус пятьдесят два по Цельсию. Полярная ночь. Два месяца в бараке советской постройки с тремя незнакомцами.
Мониторинг вечной мерзлоты. Геотермальные исследования. Стратегическая важность.
Вертолет начал снижаться. Пилот громко матерился сквозь помехи — длинная, виртуозная конструкция, в которой участвовали мать шеф-пилота, проектировщики посадочных площадок и вся вертикаль власти до президента включительно.
Земля приближалась. Рогачев разглядел оранжевый контейнер-блок, серый барак, натянутые между ними коммуникации. Крошечный островок человеческого присутствия в океане белого безмолвия.
Посадка была жесткой. Что-то заскрежетало под днищем. Крутицкий ойкнул. Пищиков открыл глаза и усмехнулся:
— Пока, — добавил Сазонов, не поднимая взгляда от планшета.
Холод ударил в лицо. Рогачев вдохнул — и сразу пожалел. Воздух обжег легкие изнутри, превратился в ледяные кристаллы где-то на уровне бронхов. Он закашлялся, пригнулся, чувствуя, как из глаз текут слезы, которые мгновенно замерзают на щеках.
— Дышите неглубоко, — донесся голос Сазонова. — Через нос, медленно. Пока не привыкнете.
Крутицкий спустился по трапу, оглянулся — и замер. Лицо его приняло то выражение изумленного восторга, которое бывает у людей в первый момент встречи с чем-то, что превосходит воображение.
— Боже мой, — выдохнул он. — Это же... это невероятно.
Пищиков, тащивший вниз баул с оборудованием, бросил на молодого геофизика тяжелый взгляд:
— Красиво, да. Первую неделю. Потом захочешь сдохнуть, лишь бы не видеть это каждый день.
— Можно, — оборвал Пищиков. — Поверь старому.
Пилот не стал глушить двигатель. Выкинул их вещи в сугроб, развернул вертолет и ушел на запад, оставив за собой облако снежной пыли, которая оседала медленно, нехотя, словно даже частицы льда не хотели касаться этой земли.
Тишина обрушилась на них с физической силой.
Не просто отсутствие звуков — присутствие тишины. Плотной, осязаемой, давящей на барабанные перепонки. Рогачев поймал себя на том, что прислушивается к собственному дыханию, стуку сердца, шороху крови в венах — любому свидетельству того, что он еще жив.
— Ладно, товарищи, — сказал Сазонов. — Тащим вещи в барак. У нас десять минут, пока пальцы не начнут отмерзать.
Они двигались быстро, молча, экономя дыхание. Снег скрипел под ногами — не хрустел, а именно скрипел, высоко, пронзительно, как будто они шли по пенопласту. Каждый выдох превращался в белое облако, которое оседало инеем на воротниках курток.
Дверь барака открылась с усилием — петли примерзли. Внутри было не намного теплее, но хотя бы не было ветра.
— Добро пожаловать в рай, — сказал Пищиков, включая свет.
Лампочка мигнула, зажглась — грязный желтый свет, от которого все казалось еще более убогим. Барак примерно шесть на восемь метров. Четыре койки вдоль стен, стол посередине, буржуйка в углу, соединенная с дизель-генератором кустарной системой отопления, аккумуляторный блок. Полки с консервами, канистры с водой, радиостанция, коробки с приборами. Рогачев сразу заметил: на столе кто-то вырезал «Козюльский 2019», рядом рисунок мужского детородного органа.
Рогачев поморщился. В бараке пахло так, как пахнет в аду, если ад отапливается дизелем: горькая сладость сгоревшего масла, ржавчина, забродившая тушенка из лопнувшей банки, въевшийся пот мужчин, проведших здесь неделю, месяц, вечность. У буржуйки валялся носок — серый, скрученный, с дырой на пятке. Рогачев поймал себя на мысли, что не хочет знать, чей он и почему только один.
— Прошлая смена тут шкурку от сала за печку уронила. Только через неделю нашли. Запах месяц не выветривался, — сказал Сазонов, заметив его гримасу. — Так что привыкнете. А через три дня даже замечать перестанете.
«Через три дня, — подумал Рогачев, — я и сам буду так пахнуть».
Крутицкий обходил барак, разглядывая детали — жестяные латки на стенах, самодельные полки, выцветшую карту Якутии, приколотую кнопками к доске. На одной койке лежала растрепанная книга — Рогачев разглядел название: «Солярис», Лем.
— Предыдущая смена оставила, — пояснил Сазонов. — У нас есть небольшая традиция — каждая экспедиция оставляет одну книгу следующей. Семен, Вы можете взять эту койку. Борис Михайлович — вон ту, у окна. Анатолий Сергеевич...
— Я сам разберусь, — буркнул Пищиков, уже укладывая вещи на койку в самом дальнем углу.
Рогачев подошел к окну. Стекло покрылось изнутри причудливыми узорами инея — папоротники, перья, кристаллические розы. Он провел пальцем по морозному узору, расчищая просвет.
За окном была белая бесконечность. Небо сливалось с землей на горизонте, стирая границу между верхом и низом. В этой белизне легко было потерять чувство пространства, направления, времени.
— Борис Михайлович, — окликнул Сазонов. — Помогите мне с генератором. Нужно проверить топливо.
Следующий час прошел в суете подготовки. Запустили генератор — тот взревел, закашлялся, наполнил барак вонью дизеля, но в итоге заработал ровно. Проверили радио — связь была плохой, сквозь треск и завывания, но Сазонов смог связаться с базой в Тикси и подтвердить прибытие.
Крутицкий готовил ужин — разогрел на горелке четыре банки тушенки, вскипятил чай. Они ели молча, слишком уставшие для разговоров.
Только когда пустые банки были убраны, а кружки с чаем согрели замерзшие пальцы, Сазонов откашлялся и заговорил:
— Товарищи, несколько слов о наших задачах.
Он развернул на столе карту района.
— Мы находимся здесь, — палец ткнул в точку на карте. — Семьдесят первая параллель, сто сорок третий меридиан. Ближайший населенный пункт — поселок Нижнеколымск, четыреста километров на юго-запад. Следующий вертолет прилетит через два месяца, если погода позволит.
— То есть мы здесь одни, — констатировал Крутицкий.
— Совершенно одни, — подтвердил Сазонов. — Радиосвязь есть, но работает нестабильно. Если что-то случится...
Он не закончил фразу. Не было нужды.
— Наша задача — мониторинг температурного режима вечной мерзлоты. Каждые три дня мы проводим забор образцов грунта с разных глубин. От ста до пятисот метров. Анализируем состав, температуру, влажность. Стандартная процедура.
— А нестандартная? — поинтересовался Пищиков.
— Последняя экспедиция... обнаружила аномалии. Необъяснимые колебания температуры на глубине триста-четыреста метров. Незначительные, но стабильные. Центр хочет, чтобы мы это проверили.
— Какого рода аномалии? — уточнил Рогачев.
— Повышение температуры. Локальное, на два-три градуса выше ожидаемого.
— Геотермальная активность?
— Возможно. Но этот район считается геологически стабильным. Последняя тектоническая активность была зафиксирована... — Сазонов заглянул в планшет, — двести тысяч лет назад.
— Значит, что-то изменилось.
— Или приборы врали, — добавил Пищиков. — Техника на холоде чудит сильно. Я видел термометры, которые показывали плюс тридцать при минус сорока.
— Это мы и выясним, — подытожил Сазонов. — Первый забор — послезавтра. Завтра отдыхаем, проверяем оборудование. Вопросы?
Они разошлись по койкам. Рогачев лежал, слушая, как дизель-генератор тарахтит за стеной, как Крутицкий ворочается, пытаясь устроиться поудобнее, как Пищиков храпит — ровно, механически, словно и во сне оставался техником.
Сазонов не спал. Рогачев видел, как в темноте светится экран его планшета.
«Два месяца, — подумал Борис перед тем, как провалиться в беспокойный сон. — Всего два месяца. Как-нибудь переживу».
Он не знал, как сильно ошибался.
Полярная ночь — это не просто отсутствие солнца.
Это присутствие тьмы. Деятельной, почти разумной. Она давила на психику с первого дня, искажала восприятие времени, стирала границу между сном и бодрствованием. Рогачев просыпался и не мог понять — спал он два часа или двенадцать. Смотрел на часы: четырнадцать ноль-ноль. За окном — та же мгла, что и в полночь.
Второй день начался с того, что Крутицкий попытался побриться.
Он встал раньше всех, принес снега в тазу, растопил на буржуйке, намылил щеки. Рогачев наблюдал за этим ритуалом с любопытством — в конце концов, зачем бриться здесь, где единственные зрители — трое мужиков в вонючем бараке?
— Привычка, — пояснил Крутицкий, заметив взгляд. — Отец служил на Северном флоте двадцать лет. Говорил: «Север ломает слабых. Первый признак — перестаешь за собой следить». А я не собираюсь ломаться.
Он провел бритвой по щеке — и лезвие дернулось, оставив царапину. Крутицкий выругался, сунул палец в воду. Та уже успела покрыться ледяной коркой, хотя таз стоял у самой буржуйки.
— Ну твою мать... Борис Михайлович, какая температура в бараке?
Рогачев сощурился на термометр:
— Четырнадцать градусов. А вода замерзает при нуле.
— Спасибо, я в курсе, — огрызнулся Крутицкий, но без злости. — Но у нас тут вода почему-то замерзает при плюс четырнадцати. Отлично. Просто офигенно.
Крутицкий швырнул бритву в таз, та звякнула о лед. Семен с явным недовольством начал вытирать пену полотенцем.
Пищиков хмыкнул, но ничего не сказал.
Завтрак был скудным — овсянка из пакета, чай, галеты. Рогачев вспомнил московские кафе, круассаны, капучино, и усмехнулся собственной сентиментальности. Та жизнь осталась в другой вселенной.
После завтрака Сазонов объявил инструктаж по технике безопасности.
— Правило первое, — говорил он, и голос его звучал как у школьного учителя, объясняющего таблицу умножения. — Никто не выходит на улицу в одиночку. Даже если вам нужно отойти по нужде — берете напарника.
— Виктор Иванович, — Крутицкий улыбнулся. — Я, конечно, понимаю, но...
— Семен, на таком холоде человек теряет сознание за пять минут. Замерзает насмерть за пятнадцать. Если Вы поскользнетесь, ударитесь головой, потеряете ориентацию — Вас не найдут. Даже в пятидесяти метрах от барака. Поэтому — никогда в одиночку.
Крутицкий кивнул, посерьезнев.
— Правило второе: время на улице ограничено тридцатью минутами. Максимум. После этого возвращаемся в барак, отогреваемся минимум час.
— Правило третье: если начинается пурга — никто не выходит. Вообще. Даже если контейнер горит.
— Как контейнер может гореть? Он же железный.
— Анатолий Сергеевич, хватит придираться. Понятно же, что я образно.
— Хреновый какой-то образ.
Сазонов вздохнул, но продолжил:
— Правило четвертое: за состоянием друг друга следим постоянно. Обморожение, переохлаждение, синдром полярного напряжения — все это может развиваться быстро и незаметно. Если кто-то начинает вести себя странно — немедленно сообщать.
— Что считается странным? — спросил Рогачев.
— Апатия. Эйфория. Агрессия. Бессонница. Галлюцинации. Паранойя. Навязчивые идеи. — Сазонов перечислял симптомы будничным тоном, словно читал список продуктов. — На полярной станции в Антарктиде однажды метеоролог попытался убить коллегу из-за того, что тот неправильно раскладывал пасьянс. Здесь психика работает иначе.
— Весело, — протянул Крутицкий.
— Реалистично, — поправил Сазонов.
День прошел в подготовке оборудования. Пищиков проверял буровую установку — длинный список операций, которые он выполнял молча, методично, словно ритуал. Время от времени он бормотал себе под нос — то ли ругательства, то ли молитвы, Рогачев не мог разобрать.
Крутицкий калибровал датчики — температурные, влажностные, сейсмические. Он работал с энтузиазмом, насвистывая что-то себе под нос, но Рогачев замечал, как тот регулярно останавливается, трет руки, дышит на пальцы. Холод проникал даже сквозь перчатки.
Сазонов проверял систему связи. Радио работало с перебоями — то ловило станцию в Тикси, то терялось в белом шуме. Спутниковый телефон показывал «нет сигнала».
— Магнитная буря, — пояснил Сазонов. — Такое бывает здесь. Иногда по неделе.
— То есть мы совсем отрезаны? — помрачнел Крутицкий.
Рогачев занимался инвентаризацией. Составлял списки: продукты, топливо, медикаменты, расходники. Работа скучная, но необходимая. Когда он добрался до аптечки, обнаружил, что половина препаратов просрочена на два года.
— Виктор Иванович, — позвал он. — У нас проблема.
Сазонов подошел, посмотрел на лекарства и нахмурился:
— Черт. Это должны были обновить перед нашим прилетом.
— Должны были, — согласился Рогачев. — Но не обновили.
— Бинты, йод, активированный уголь. Из серьезного — просроченные амоксицилин, цефтриаксон, доксициклин и анальгин. Все.
— Будем надеяться, что не понадобится, — сказал Сазонов и вернулся к радио.
Вечером Крутицкий попытался позвонить. Семь раз набирал номер, семь раз связь обрывалась на третьем гудке. На восьмой он бросил телефон на койку и сел, уткнувшись лбом в ладони.
— Девушка? — поинтересовался Рогачев.
— Сестра, — ответил Крутицкий, не поднимая головы. — Она одна в Москве. У нее... бывают приступы. Панические атаки. Я обещал звонить каждый день.
— Позвонишь, когда связь наладится.
— Когда? Через неделю? Через месяц?
Крутицкий поднял голову, и Рогачев увидел в его глазах то, что молодой геофизик тщательно скрывал за оптимизмом — страх.
— Я не должен был соглашаться на эту экспедицию, — тихо сказал Крутицкий. — Не сейчас. Не когда ей так плохо. Но мне нужны были деньги, и статья, и строчка в резюме...
— Семен, — перебил Рогачев. — Связь восстановится. Всегда восстанавливается.
Рогачев не был уверен, но сказал:
Ночью — или тем, что здесь называлось ночью — он не мог заснуть. Лежал на койке, слушал треск генератора, завывание ветра в трубе, храп Пищикова. Думал о жене.
С Машей он познакомился на конференции в Иркутске. Она была журналисткой, он — молодым ученым с амбициями. Она брала у него интервью о климатических изменениях, он говорил умные вещи про парниковые газы и таяние ледников. Она смеялась над его шутками. Он влюбился за три дня.
Свадьба, квартира в Москве, планы на детей. Все было правильно, все по плану.
А потом — экспедиция за экспедицией. Он уезжал на месяцы, возвращался, уезжал снова. Она ждала, потом перестала ждать. Начала жить своей жизнью. Он этого не замечал — был занят моделями, расчетами, статьями.
Байкальский проект должен был стать его триумфом. Новая методика измерения теплообмена в термоклине. Инновационная, революционная.
Ошибка в базовых допущениях. Неучтенный параметр. Вся модель рухнула, как карточный домик, когда независимая экспертиза перепроверила расчеты.
Маша ушла через неделю после публикации опровергающей статьи.
«Я не могу больше любить человека, который присутствует только физически, — сказала она. — Ты всегда в своих мыслях, Боря. В своих формулах. Там, где мне нет места».
Рогачев перевернулся на другой бок. За окном выл ветер. В темноте барака мерцал красный огонек — Сазонов курил, стоя у двери.
— Не спится? — тихо спросил руководитель.
Сазонов затянулся, и кончик сигареты вспыхнул ярче.
— Первые дни всегда самые трудные, — сказал он. — Организм адаптируется. Психика протестует. Это нормально.
— Сколько раз Вы здесь были?
— Пять экспедиций. Разные районы, но везде одинаково холодно.
Сазонов помолчал, выдохнул дым.
— Никак, — сказал он честно. — Просто терплю. Здесь все сводится к терпению. Потерпеть холод. Потерпеть изоляцию. Потерпеть самого себя. Самое трудное — последнее.
— У Вас дома кто-то есть?
— Дочь. Двадцать лет. Учится в университете, — голос Сазонова стал мягче. — Мы общаемся не часто. Развелись с ее матерью, когда Кате было восемь. С тех пор все... сложно. Каждый раз, когда я уезжаю на полгода, я думаю: вот, вернусь, все исправлю. Но возвращаюсь — и снова уезжаю.
Сазонов докурил сигарету, затушил окурок о край банки-пепельницы.
— Потому что здесь, Борис Михайлович, проще. Здесь есть четкие задачи, измеримые результаты, понятные опасности. А там... там все сложно. Отношения, эмоции, обязательства. Здесь я знаю, что делать. Там — нет.
Он вернулся на свою койку.
Рогачев лежал и слушал, как Пищиков храпит на соседней койке. Буржуйка постукивала — металл расширялся от жара. Где-то капало.
Странное дело: здесь, в полярной глуши, где одна ошибка — и ты труп, он чувствовал себя спокойнее, чем в Москве. Там все было сложно, размыто, фальшиво. Маша смотрела с укором. Коллеги улыбались, но за глаза обсуждали провал. Даже зеркало врало — отражение было нормальным, а внутри сидел липкий страх.
Здесь хотя бы все честно. Холодно — значит холодно. Страшно — значит страшно. Умрешь — значит умрешь.
Третий день принес первый забор.
Они вышли из барака в полдень — то есть в то время, которое на часах называлось полднем, хотя снаружи была та же мгла, что и всегда. Термометр показывал минус пятьдесят два.
Рогачев закутался в шарф, натянул маску, надел очки. Холод все равно нашел щель — между маской и очками, у кромки капюшона. Обжег кожу, как раскаленное железо.
Контейнер стоял в пятидесяти метрах. Казалось — близко. Но эти пятьдесят метров превращались в экспедицию. Каждый шаг требовал усилий. Снег скрипел под ногами — высокий, режущий слух звук. Ветер пытался сбить с ног.
Крутицкий шел впереди, спотыкался, выбрасывал руки для равновесия. Пищиков двигался тяжело, методично, как танк. Сазонов оглядывался, проверяя, что все в сборе.
У контейнера Рогачев обернулся, посмотрел на барак.
Не полностью — виднелся смутный силуэт, но детали стерлись. Пятьдесят метров, а барак уже почти невидим в белой мгле.
«Правило первое, — вспомнил Рогачев. — Никогда в одиночку».
Теперь он понимал почему.
В контейнере температура не отличалась от наружной, но, по крайней мере, можно было укрыться от ледяного ветра. Пищиков включил обогреватель — тот загудел, начал медленно нагнетать воздух. Температура поползла вверх: минус сорок, минус тридцать пять, минус тридцать.. Пищиков включил обогреватель — тот загудел, начал медленно нагнетать воздух. Температура поползла вверх: минус сорок, минус тридцать пять, минус тридцать.
— Нормальная температура для работы — минус двадцать, — сказал Пищиков. — Ниже начинают глючить датчики.
— Сколько времени на разогрев?
— Да хрен его знает. Может час. А может и два.
Они ждали. Крутицкий делал пометки в блокноте. Сазонов проверял буровое оборудование. Рогачев просто сидел, наблюдал за тем, как его дыхание превращается в белые облачка, которые медленно рассеиваются.
Когда температура дошла до минус пятнадцати, Пищиков объявил:
— Нормалек! Можно работать.
Буровая установка была старой, советской, но надежной. Стальной трос толщиной с палец, лебедка, датчики на конце. Сазонов ввел координаты на пульте управления.
— Глубина — пятьсот метров. Забор на трех уровнях: сто, триста, пятьсот. Начинаем.
Лебедка ожила. Трос начал разматываться с глухим скрежетом. На мониторе побежали цифры.
Глубина: 5 метров. Температура: -48 градусов.
Глубина: 10 метров. Температура: -45.
Глубина: 20 метров. Температура: -40.
— Градиент температур в норме, — сказал Рогачев.
Глубина: 50 метров. Температура: -30 градусов.
Глубина: 100 метров. Температура: -20.
— Первый забор, — скомандовал Сазонов.
Ковш опустился еще на метр, створки открылись, закрылись. Лебедка затарахтела, вытягивая образец.
Подъем занял двадцать минут. Когда ковш появился, Пищиков открыл створки. Внутри была мерзлая земля — серо-коричневая, с вкраплениями льда.
— Обычный грунт, — констатировал Крутицкий.
— Помещаем в контейнер, анализ в бараке, — сказал Сазонов. — Продолжаем.
Глубина: 150 метров. Температура: -15 градусов.
Глубина: 200 метров. Температура: -5.
— Температура растет быстрее, чем должна, — заметил Рогачев.
— Геотермальный градиент выше нормы, — согласился Сазонов. — Продолжаем наблюдать.
Глубина: 250 метров. Температура: 0 градусов.
— Ноль градусов на глубине двести пятьдесят метров? Виктор Иванович, это же...
— Аномально. Знаю. Продолжаем.
Глубина: 300 метров. Температура: +8 градусов.
Все четверо уставились на монитор.
— Проверьте датчик, — сказал Сазонов тихо.
Пищиков пробежал пальцами по клавиатуре, вывел на экран диагностику:
— Датчик работает нормально. Калибровка в порядке.
— Плюс восемь, — медленно повторил Рогачев. — При минус пятьдесят на поверхности. За двести пятьдесят метров температура выросла на пятьдесят восемь градусов.
— Это невозможно, — сказал Крутицкий. — Геотермальный градиент в среднем три градуса на сто метров. Здесь он... — он быстро считал в уме, — двадцать три градуса на сто метров. Это в восемь раз выше нормы!
— Вулканическая активность? — предположил Рогачев.
— В Якутии? — Пищиков хмыкнул. — Последний вулкан здесь потух еще до динозавров.
— Продолжаем спуск, — решил Сазонов. — Нужно увидеть картину полностью.
Глубина: 350 метров. Температура: +15 градусов.
Глубина: 400 метров. Температура: +22.
Глубина: 450 метров. Температура: +30.
— Боже мой, — выдохнул Крутицкий. — Это же тридцать градусов! При минус пятидесяти наверху!
Глубина: 500 метров. Температура: +37 градусов.
— Тридцать семь, — выдохнул Рогачев.
Сазонов смотрел на экран. Молчал. Губы шевелились — считал? молился?
— Витя, — позвал Пищиков.
— Второй забор. Давай второй.
— На хрен второй, — Пищиков попятился от ковша. — Ты видишь это?
— Вижу. Поэтому нужен второй забор.
Руки у Сазонова ходили мелкой дрожью — он сунул их в карманы.
Ковш опустился. Механизм забора включился. Прошло пять секунд, десять, двадцать.
— Что-то не так, — сказал Пищиков. — Механизм не закрывается.
— А хрен его знает. Датчик говорит, что створки открыты, но команда на закрытие не проходит.
Он нажал кнопку еще раз. Еще раз. На четвертый раз механизм щелкнул, и индикатор загорелся зеленым.
— Есть, — выдохнул Пищиков. — Начинаем подъем.
Лебедка заработала. Трос начал наматываться, и Рогачев заметил странное — весовой датчик показывал большую нагрузку, чем обычно.
— Анатолий Сергеевич, вес ковша?
Пищиков посмотрел на показания:
— Сорок два килограмма. Хмм… а обычно двадцать.
— То есть груз весит двадцать два килограмма?
— Это какой же грунт может столько весить?
— Влажный. Или с высоким содержанием минералов. Или...
Он не закончил. Никто не спросил «или что».
Подъем занял час. Все это время четверо мужчин молча смотрели на монитор, следили за тем, как ковш медленно поднимается из глубины.
Глубина: 400 метров. Температура в ковше: +35 градусов.
Глубина: 300 метров. Температура в ковше: +33.
Глубина: 200 метров. Температура в ковше: +31.
— Температура падает медленно, — заметил Рогачев.
— Слишком медленно, — добавил Сазонов. — При подъеме на такую высоту груз должен был остыть почти мгновенно.
Глубина: 100 метров. Температура в ковше: +29 градусов.
Глубина: 50 метров. Температура в ковше: +28.
— Двадцать восемь градусов, — повторил Крутицкий. — Как такое возможно?
Глубина: 10 метров. Температура в ковше: +27.
— Останавливаем, — скомандовал Сазонов.
Ковш повис перед ними на тросе. Стальной контейнер, покрытый инеем от соприкосновения с холодным воздухом. Из щелей между створками что-то сочилось.
— Это... вода? — спросил Крутицкий неуверенно.
Пищиков протянул руку, коснулся капли, стекавшей по стенке ковша. Отдернул пальцы:
— При минус пятнадцати в контейнере?
Сазонов подошел ближе, всмотрелся в щель:
— Виктор Иванович, может, сначала...
— Открываем, Анатолий Сергеевич.
Пищиков нажал кнопку. Створки ковша с лязгом разошлись в стороны.
Она осталась внутри, удерживаемая чем-то невидимым. Висела в воздухе, как если бы гравитация перестала на нее действовать. Поверхность ее была абсолютно гладкой, ровной, словно натянутая мембрана.
И она была прозрачной. Настолько прозрачной, что Рогачев видел сквозь водную массу противоположную стенку контейнера с кристальной четкостью.
— Что это такое? — прошептал Крутицкий.
Сазонов медленно обошел ковш, рассматривая воду с разных сторон. Рогачев подошел ближе, протянул руку.
— Не трогайте, — резко сказал Сазонов.
— Потому что мы не знаем, что это.
— Это вода, — возразил Крутицкий. — Обычная вода.
— Обычная вода не висит в воздухе при минус пятнадцати, — напомнил Пищиков.
Рогачев взял электронный термометр, направил датчик на водную массу. Цифры на дисплее стабилизировались: +37 градусов.
— Тридцать семь, — сказал он вслух. — Как у человека.
— Это совпадение, — отозвался Крутицкий, но голос его звучал неуверенно.
Сазонов продолжал изучать воду. Рогачев заметил, что внутри жидкости происходят движения — медленные, плавные течения, которые не подчинялись видимым законам. Вода словно дышала.
— Семен, — сказал Сазонов наконец. — Есть идеи?
Молодой геофизик подошел, присел на корточки перед ковшом, вгляделся в воду:
— Теоретически... незамерзающая жидкость возможна. Высокая концентрация солей, спирты, антифриз. Но чтобы сохранять температуру без внешнего источника...
— Источник есть, — перебил Пищиков. — Геотермальная аномалия на глубине.
— Которая появилась внезапно, — напомнил Сазонов. — И которой не было еще месяц назад.