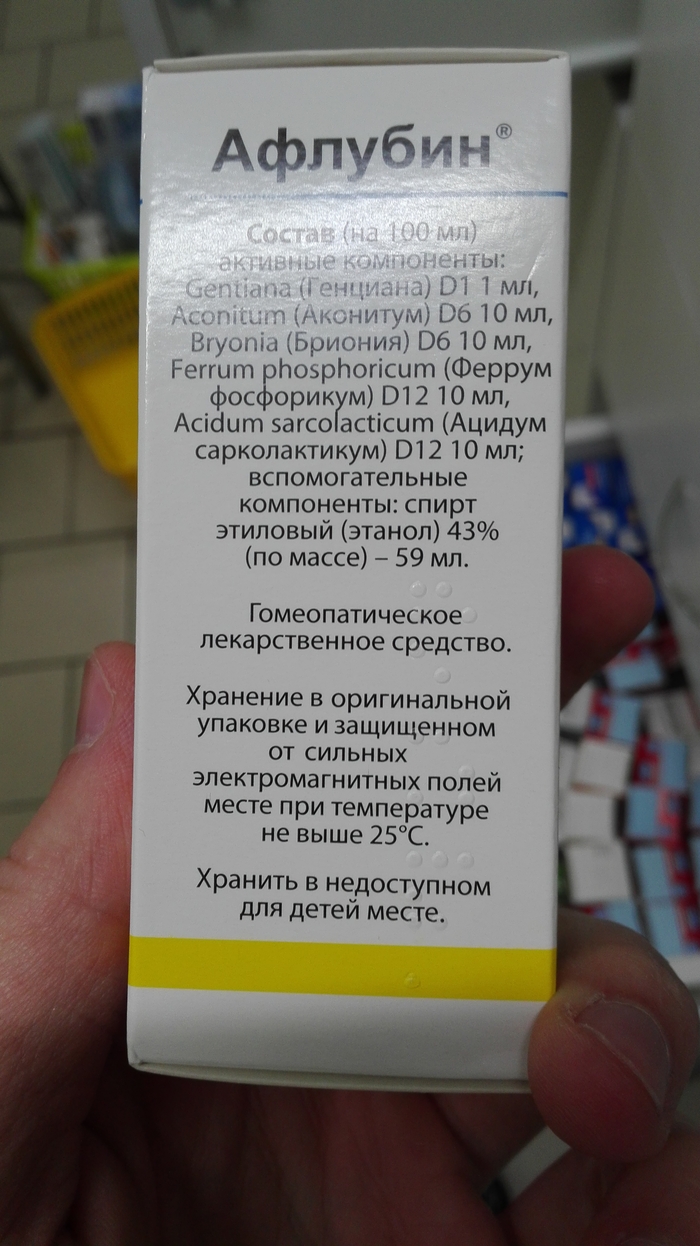Немного из мемуаров Фёдора Никитича Самойлова.
Деревня. Крестьянская семья. Детство.
Рассказы о фабрике
Маленькая убогая деревушка из восемнадцати крытых соломой крестьянских изб приютилась на берегу речки Безымянки, в двадцати километрах от фабричного города Иваново-Вознесенска, в стороне от больших и малых дорог. Деревушка затерялась в окружающих её больших лесах, принадлежавших помещикам и купцам. «Кругом в лесу, — жаловались мужики, — а дров нет».
Земли у крестьян было мало, да и та скудно родила. Истощённая, сотни раз паханная песчаная почва требовала хорошего удобрения, а его не водилось: нехватка кормов не позволяла держать лишнюю скотину. Покосы приходилось покупать у помещика.
Крестьяне поголовно, за исключением нескольких мелких кустарей-сапожников, были бедняками и вести своё нищенское хозяйство без заработка на стороне не могли. Уходили па зиму в город, на фабрики. Почти каждая семья отпускала одного или нескольких работников в город на круглый год, спасая его заработком от окончательного разорения едва державшееся хозяйство. В деревню отходники приходили только по праздникам.
В семи километрах от деревни, в волостном селе, была школа. Но крестьяне, как правило, своих детей в школу не посылали — ходить было далеко, а дети не имели одежды и обуви; иные чуждались школы из-за своей косности и темноты: «Незачем нам учиться-то, деды и отцы наши прожили свой век неучёными не хуже нас!»
Все в деревне были неграмотны, за исключением одного-двух самоучек, умевших читать святцы и псалтырь.
Мужики считали себя верующими, но в вопросы религии не вникали, обряды исполняли не очень аккуратно. Строго соблюдались только посты и постные дни. В среду и пятницу никто, кроме грудных детей, ничего «скоромного» не ел: питались исключительно хлебом и картошкой. Церковные службы крестьяне посещали редко. Молящиеся совершенно не понимали мудрёного церковнославянского языка, на котором совершались церковные службы. На этом же языке, по памяти, передавалось от поколения к поколению несколько молитв для «домашнего обихода». Содержание и смысл их мало кто понимал.
Так называемый «престольный праздник» всегда заканчивался всеобщим пьянством. Рано утром мужики, бабы и молодёжь ехали в приходское село Лежнево, выстаивали в церкви обедню, заказывали молебны. К обеду возвращались домой. Собирались гости: ближние и дальние родственники и просто друзья-приятели. Начинался обод, поздравления с праздником. Из-за стола вставали пьяными. Затем начиналось «отгащивание». К вечеру деревня перепивалась — вечно тихая и безлюдная улица оглашалась пьяными криками. Всюду галдели, спорили, ругались, орали песни осипшими голосами.
«Праздник» часто кончался большими или малыми драками. Подравшиеся собирались в кучу, выпивали «мировую» водку и... снова ожесточённо дрались. Так проходило два-три дня...
В «престольный праздник» многие пропивали заработки и доходы целых месяцев. Наступали будни — с больной головой, с унылыми подсчётами пропитого и с изнурительной работой.
В засуху звали попа, ходили с иконами по полям и молились о дожде. Если случалось, что вскоре после молебна выпадал дождь, говорили: «Слава тебе, господи, услышаны наши молитвы! Сжалился господь над нами, грешными, — послал дождичек!» А когда, несмотря ни на какие молебны, дождя не было, жаловались: «Плохи наши дела, не услышал наши молитвы господь. Не посылает нам дождичка. Много, должно быть, грехов на нас, грешных...»
Деревня верила в лешего, домового, ведьм, колдунов, чертей. Суеверия подкреплялись разными «фактами» и «случаями» с «бывалыми» людьми.
Крестьяне работали, как вьючные животные, с утра до ночи, насколько хватало сил, ели впроголодь, а досуг заполняли пьянкой.
Представления о политике у наших крестьян были самые отсталые, первобытные. В деревне твёрдо верили, что «без бога свет не стоит, без царя земля, не правится». Верили в басню, что «царя-освободителя» Александра II убили «господа-баре» за то, что он освободил крестьян от барской кабалы.
Урядников, становых и других царских слуг беднота, конечно, ненавидела за бесчисленные притеснения и поборы, но в открытую борьбу с ними вступала только в самых крайних случаях, когда какому-нибудь бедняку становилось уже невмоготу терпеть.
Жили мужики в тяжёлой нужде, в бесконечной заботе о хлебе, который доставался ценою непосильного труда, в заботе о том, чтобы прокормить скотину и себя, уплатить подати. Вокруг хлеба вращались все разговоры и помыслы, в особенности в годы плохих урожаев. Собирался ли деревенский сход, созванный старостой для обсуждения «мирских дел», сходилось ли несколько мужиков случайно — разговор заводился неизменно один и тот же: о хлебе, податях, о корме для скота.
Я родился и рос лет до шести в большой крестьянской семье, состоявшей из 12 человек.
Отец мой, Никита Никанорович, слыл за человека очень терпеливого. Он мало говорил и редко вмешивался в семейные дела, никогда ни с кем не ссорился и работал чуть ли не больше всех остальных, вместе взятых.
Моя мать, Дарья Михайловна, родом из соседней деревни, слыла умной, способной ко всякой работе женщиной. Она, хотя нигде этому не училась, умела шить и кроить верхнюю и нижнюю одежду. К ней даже соседи нередко приносили кроить разные вещи. Но она была пришлой в семье, чувствовала себя чужой, самой младшей и бесправной. Много пришлось терпеть ей от деспотизма отцовской родни.
Тяжело жилось крестьянским женщинам, взятым мужем в чужую для них семью. Так велось, что невесткам наносились обиды и оскорбления и все помыкали ими, особенно в первые годы замужества.
Основным занятием семьи было, конечно, крестьянское хозяйство. Но прокормить всю семью крестьянским трудом нельзя было, своего хлеба нехватало; приходилось поддерживать хозяйство заработками па стороне. Отец, а позднее и мать являлись главными работниками, поддерживавшими семью заработками па фабрике.
Отец ещё с малых лет работал на фабрике в селе Лежнево. Он и жил там, а домой приходил только на праздники. Весь свой заработок он аккуратно отдавал семье. Позже на эту фабрику пошла работать и мать.
В нескольких местах нашей Владимирской губернии имелись текстильные фабрики, расположенные в сёлах, среди нищих и полуразорённых деревень. Деревня давала дешёвую рабочую силу, покорную и забитую. Приходя по праздникам домой, отец рассказывал о фабрике, сам подчас не понимая, какой дикой и варварской эксплуатации подвергались там люди.
Как взрослые, так и дети работали столько, сколько им приказывали хозяева, — по 17—18 часов в сутки. Работа на красильной фабрике, куда с детства ходил отец, была большей частью ручная. Ребятам наряду со взрослыми целые дни приходилось таскать мокрый крашеный товар с нижнего этажа на верхние. Работа эта, рассказывал отец, была очень тяжела даже для взрослых, а детям — совсем непосильна. Зарабатывал он тогда 2—3 руб. в месяц, а питаться приходилось только чёрствым хлебом, принесённым из деревни на целую неделю. У рабочих, в особенности у детей, от вечного недосыпания болели глаза, им всё время хотелось спать. Масса рабочих болела туберкулёзом и другими болезнями; многие умирали. Среди детей заболеваемость и смертность были особенно велики. Из работавших в таких каторжных условиях выживали только наиболее крепкие.
— За несколько лет, — рассказывал отец, — много детой умерло на моих глазах. Поступит, бывало, на фабрику приехавший из деревни мальчик или девочка, поработает некоторое время и начнёт худеть, бледнеть, потом кашлять, поработает, пока не свалится. Больного отправляют домой, а потом слышим — умер.
Мало того, что за 18-часовой рабочий день платили гроши, которых едва хватало на чёрный хлеб, — часто и эти деньги месяца по два не выдавали.
— Тогда, — рассказывал отец, — приходилось голодать по-настоящему, работать по целым дням вовсе не евши.
В таких случаях рабочие иногда отправлялись в контору выпрашивать заработок. Обычно дело кончалось тем, что, ничего не добившись в конторе, рабочие расходились по домам. Бывало и хуже: подчас рабочих разгоняли угрозами и побоями. Но затем они снова возвращались на фабрику и, ропща в душе, терпеливо принимались за работу. Наполовину связанные с деревней, тёмные и неорганизованные рабочие не умели защищать свои интересы.
Один мой товарищ из крестьян Шуйского района, Ивановской области, Иван Гаврилович Храмов, так описывает в письме ко мне жизнь фабричного люда в Иванове:
«Я в юности тоже немного работал на фабрике, в Иванове, у наследников А. Ф. Зубкова, на ситцевой переборке. Мне было тогда 14 лет. Это было в 1879 г. Время было глухое, революционного движения среди рабочих в то время не было и в помине; социал-демократической партии ещё не было. Работа на фабриках была тяжёлая, день долгий, пища скудная — постные щи да каша изо дня в день, в спальне грязь, вонь, на нарах — тучи клопов.
Нравы были дикие, темнота в умах непроглядная, развлечений никаких. Воскресный досуг девать некуда. Пойдем, бывало, в Иваново, посидим на базаре, поглазеем и побредём обратно в свою спальню, которая находилась на самом берегу Уводи, на сыром, болотистом месте. Я любил читать и читал хорошо, выразительно, но читать в то время было нечего, кроме сказок о Бове и Еруслане. Мне попалась книжка, довольно большая, о каких-то морских разбойниках, которую я читал вслух, собирая около себя толпу слушателей.
Меня так удручала обстановка жизни на фабрике, что я не вытерпел и покинул её, вернувшись в свою деревню».
Все взрослые нашей семьи, жившие дома, зимой работали на дому: ткали на ручном станке, мотали шпули. Материал брали в соседней деревне Марково у богатого крестьянина, владельца нескольких ручных ткацких «заводов».
Надел земельный был на три души. Своего хлеба у нас хватало только до апреля, до пасхи. С весны до нового урожая хлеб приходилось покупать. Поэтому хозяйство наше держалось главным образом фабричным заработком отца и матери и работой на дому других членов семьи в зимнее время.
Трудились много, а жили, как большинство крестьянских семей, скудно.
Спали на лавках, на печке и на полу, на разостланных подстилках, подушки набивались мякиной или сеном. Покрывались одеялами, а подчас и просто верхней одеждой, о простынях понятия не имели.
Пищей нашей почти круглый год были кислые щи, подбелённые молоком, картошка, чёрный хлеб, иногда молоко или каша; мясо и белый хлеб бывали только раза два-три в год, по самым большим праздникам.
Мать в зимнее время работала вместе с отцом на фабрике. Мы, дети, жили с бабушками и тётушками и видели родителей только по праздникам.
Старшая бабушка редко бранила детей за шалости, а наказывала ещё реже. Вторая бабушка ругала и била часто, а меня, как старшего, в особенности. Она даже во время молитвы перед иконами не переставала на нас кричать:
— Федька, чорт водяной, перестань дурить! Петька, чтоб те провалиться сквозь землю!
«Воспитание» ребят заключалось в том, что бабушки и тётки да изредка видевшие нас отец с матерью иногда показывали нам, как молиться богу, креститься, заставляли заучивать некоторые знакомые им молитвы и рассказывали о «том свете», где за добрые дела пускают в «рай», за грехи сажают в огонь, в «ад».
Водили нас в церковь причащать, не давали в посты и постные дни есть «скоромного» и кормили тем, что ели сами, т. е. хлебом, кислыми пустыми щами, картошкой и капустой.
Так росли мы «дичками», предоставленные самим себе, как в лесу деревья!
В семье все были неграмотными, кроме отца, научившегося самоучкой читать по складам псалтырь. Темнота, суеверие и внешняя религиозность, присущие всей деревне распространялись и на нашу семью. И у нас верили в разные дурные приметы: заяц перебежал дорогу — жди несчастья; попался навстречу поп — то же; собираясь в дорогу, помолись, а потом присядь, и т. д.
Вместе с тем наши бабки и тётушки знали много разных примет, подсказанных народным опытом и долгими наблюдениями над природой: по-своему предсказывали погоду, урожай и т. д. В день «святого Георгия» (в октябре) говорили: «Пришёл Егорий с гвоздём», это значит, начинает по ночам замораживать, «Никола с мостом» (в начале декабря) — реки замерзают так, что по ним ездят, как по мосту.
В день крещенья (6 января) о морозах говорили: «Теперь трещи, не трещи — прошли водокрещи». И мы понимали, что первая холодная половина зимы уже кончилась.
В январе по календарю есть день «святой Ксении». Эту «святую» называли «Аксинья-полухлебница», потому что после этого дня до нового хлеба оставалось ещё полгода. Если в крещенье мороз, то будет урожайный год. Коли Евдокия (1 марта) погожа, то всё лето пригоже. Пришёл «Василий-капельник» — ожидай оттепели. 4 марта называли днём «Герасима-грачевника», потому что в этот день прилетают грачи.
Весь день мы, дети, проводили на воздухе, забегая в избу лишь для того, чтобы поесть. В большой семье, где взрослых работников хватало, нам, детям, помогать старшим в работе не было нужды. До раздела семьи мы с братом свободно бегали и играли с мальчишками-сверстниками.
Зимой, несмотря ни на какие морозы и вьюги, мы целыми днями катались с горы на ледянках. Помню, дядя Андрей, будучи мальчиком лет 13—15, как только вечером придёт с работы от сапожника, так сейчас же берёт ледянку, сажает меня в неё и бегом мчится вдоль улицы на гору. Катались до наступления темноты и в снегу с ног до головы, усталые, промёрзшие, с красными от мороза лицами и закоченевшими руками являлись домой.
В трескучие морозы мы часто щеголяли полураздетыми, в дырявых кафтанишках и худых валенках. А иногда, набегавшись, ложились спать не поужинав.
Зимой на улице играли в «шар», «голытьбу». В избе мы находились мало даже в самые сильные холода, так как дома заняться было нечем, — не водилось у нас ни игрушек, ни, тем более, книжек.
Изредка, в длинные зимние вечера бабушка Февронья или тётка Елена потешали нас сказками «О волке, козе и козлятах», «О безногом медведе».
Крестьянский быт. Хозяйство.
Деревенские кулаки — «фабриканты».
Деревня наша стояла в стороне от больших дорог, и новыми, изредка появлявшимися в ней людьми были только кустари — стекольщики, иконописцы-богомазы, подновлявшие старые иконы, дегтярники с бочками товарного (для сапог) и тележного (для смазывания колёс) дёгтя, горшечники, грушники, портные и попы, приезжавшие для поборов, да ещё нищие. Этим людом и ограничивалась связь деревни с окружающим миром.
Появление на улице грушника или горшечника вносило большое разнообразие в зимнюю скуку деревни. Как только на улице раздаётся: «По грушу, по грушу», деревня оживает. Старый и малый высыпают на улицу с тряпьём, с обломками железа, и все, у кого есть деньги, идут к грушнику за пареной грушей, грушевым квасом, мылом, дешёвыми пряниками и конфетами. Большой толпой окружают сани грушника и, торгуясь, долго шумят на всю деревню. То же самое бывало, когда приезжал горшечник. Услышав на улице зазыванье: «По горшки, по крышки», к возу быстро собирается народ. День после этого события заполняется разговорами о новых покупках.
Вот на улице раздаётся: «Вставлять стёкла!» Из изб выходят не только те, у кого окна разбиты, но и те, кто в стекольщике не нуждается. Когда стекольщик начинал работать, вокруг него всегда собиралась толпа, и к нему приставали с вопросами: кто он, откуда, как живут мужики у него на родине, почему он ходит со стёклами и т. д. То, что узнавалось от стекольщика, долго потом служило предметом споров и разговоров.
Богомазы ходили по избам и справлялись, нет ли для починки икон. Они осматривали висевшие в переднем углу
старые, потемневшие, с облупившейся краской иконы и уговаривали хозяев.
— Глядите, православные, как потемнела богородица-то, разве можно на такую молиться— бог накажет. Нужно починить, недорого возьму.
От ловких и навязчивых богомазов отделаться было трудно, приходилось отдавать им в ремонт и не очень ещё старые иконы.
С наступлением весны наша жизнь резко менялась. Мы целые дни проводили у передних стен избы, где пригревало солнышко и появлялась капель с застрех, а к вечеру подмерзали длинные ледяные сосульки.
Когда снег совершенно исчезал и на просохших местах начинала зеленеть первая травка, улица деревни оживлялась нашими ребячьими голосами. Мы целые дни, с утра до ночи, бегали раздетые и босиком, играли в бабки, в лапту.
Около «егорьева дня» (23 апреля) сгоняли скотину. Корма в поле ещё не было, земля не окрепла после снега, и скотина вязла в грязи. Но зимние корма подошли к концу, и крестьяне были рады, что скотину уже можно выпустить из хлева. Сгон скотины — большое событие. Вновь наряженный пастух обходил деревню с иконой Георгия, который считался защитником скота от волков. Крестьяне, каждый у себя на дворе, с той же иконой в руках обходили свою скотину. Потом пастух проходил вдоль деревни, играя в рожок или, если рожка не было, хлопая длинным кнутом, крестьяне выпускали со двора скотину, изголодавшуюся за долгую зиму, худую, еле державшуюся на ногах.
Весна была самым голодным временем года для крестьянина, так как иссякали все зимние запасы, а до новых было ещё далеко. Но с июня становилось легче: скот хорошо кормился на полях и лугах, коровы давали молоко, и наше питание несколько улучшалось.
За купаньем, ловлей разными способами рыбы, беганьем в поле время летом проходило незаметно. Мы являлись домой только с наступлением темноты.
Начиналась ягодная пора. В лесу, на сечах, поспевала земляника, черника, потом малина. Приходили мы на сечу, когда солнышко едва показывалось из-за леса, ещё не сходила ночная прохлада, а трава была покрыта росой. Собирали ягоды вперегонки: кто скорее и больше наберёт.
Ягоды чаще всего продавали: или возили в город, когда выпадал подходящий случай, или же носили на варенье в соседнюю деревню Марково к богатому крестьянину-кулаку, владельцу нескольких ручных ткацких «заводов», Ивану Тимофеевичу Осипову.
Об Осипове мой отец рассказывал:
— У Осипова работало человек триста. У него было три «завода», оборудованных ручными ткацкими станками, в каждом по 20 станков; на дом крестьянам раздавалось пряжи станков на 100, и разматывало пряжу около сотни человек. Платил Осипов ткачам сдельно, за клуб (или основу) в 4 куска — по 75 аршин кусок — 4 руб. Работая по 16—17 часов в день, ткач в неделю вырабатывал 2 куска, т. е. получал 2 руб. в неделю. В то же время клуб в количестве тех же 4 кусков своей (купленной) пряжи при том же рабочем дне давал заработок 8 руб., т. е. вдвое больше. Таким образом, Осипову его «заводы» и раздача работы на дом давали не менее 100 процентов прибыли.
За размотку пачки пряжи на шпули платили 40 коп. (в пачке 40 кукол, в кукле 10 мотков). Пачку разматывали на шпули в среднем в 4 дня, зарабатывали в день по 10 коп.
С рабочими Осипов расплачивался главным образом товарами из своей лавочки, устанавливая на них такие цены, какие захочет. Например, муку он покупал по 70 коп., а продавал её по 1 р. 20 к. Таким образом, помимо того, что Осипов наживал с работавшей на него деревенской бедноты рубль на рубль своего оборотного капитала, он, расплачиваясь за работу продуктами, вторично грабил бедноту в своей лавочке.
В то время (лет 60 назад) в нашем районе только зарождалась текстильная промышленность. В городе машинное производство находилось в зачаточном состоянии, и ручные ткацкие заводы в деревне ещё не чувствовали на себе неумолимого бича конкуренции со стороны городских ткацких фабрик с паровыми двигателями. Деревенским Иванам Тимофеевичам предоставлялось широкое поле для самой чудовищной, неограниченной эксплуатации крестьянской бедноты.
Кулак Осипов, как и все деревенские колупаевы и разуваевы того времени, был большой ханжа и драл шкуру со своего ближнего не иначе, как с упоминанием имени божьего. В каждый праздник он ездил на откормленных собственных лошадях со всей семьёй в церковь, ставил там толстые свечи, жертвовал на «храм божий»...
Но вернёмся к нашей жизни в деревне.
Вот уже сенокос, а за ним —жнитво.
Для деревни наступала страдная пора. В больших семьях сушкой и уборкой сена были заняты все взрослые и подростки, а в малых — и дети.
Жнитво — самая трудная работа. Жали главным образом женщины, девушки, подростки-девочки; мужчины жали только в тех семьях, где было мало женщин. Работали в поле от зари до зари, часов по 18 в сутки, под палящим солнцем, с согнутой спиной. Но как ни тяжела эта работа, а для бедноты жнитво — радостное время. Большинство крестьян во время жнитва уже молотили и возили зерно на мельницу. День, когда в первый раз пекли из новой муки хлеб, был большим, долгожданным праздником.
У нас, детей, в это время было одно дело: отнести косцам на луг обед. Тогда же поспевал зелёный горох. Ели мы его много, до боли в животе, но взрослые не препятствовали: наелся — с хлеба долой.
Как только убирали рожь, поспевало и яровое. Одновременно с его уборкой начиналась молотьба. Работа кипела и в поле, и на гумне. Дети учились молотить лёгкими цепами.
Так однообразно из года в год шла наша жизнь, пока не умерла бабушка Февронья — глава нашей семьи. После её смерти семья распалась на две части.
Незадолго до смерти бабушки к нам пришёл солдат с большими усами. Солдат этот оказался братом моего отца — дядей Иваном, вернувшимся с военной службы. Через некоторое время дядя женился. В семье оказались две невестки, пошли ссоры и неприятности, которые после смерти бабушки Февроньи привели к разделу семьи: бабушка Акулина, тётка Елена и дядя Андрей остались с Иваном, а мы с отцом и матерью из семьи ушли. Для нас перенесли на новое место и «вычинили» заднюю избу, дали лошадь, корову; передняя изба, овин, сарай, амбар достались второй части семьи.
После раздела семьи.
Моя работа дома и в поле. Нищета.
Переезд в город.
После раздела отец с матерью оказались самостоятельными хозяевами, независимость от дядей и тёток радовала их. Особенно довольна была мать, видевшая много обид и притеснений в большой семье.
Мы с братом тоже вздохнули свободнее. В общей семье присутствие бабушек и других старших держало нас под постоянным страхом; теперь мы знали только отца и мать.
Однако радость оказалась кратковременной. Скоро и мы, дети, почувствовали, как тяжело жить маленькой крестьянской семьёй. Нужда всё больше надвигалась на наше хозяйство, отец с матерью не управлялись с работой. Я подрос (мне было лет 7—8), и меня стали нагружать разной работой по хозяйству, иногда и непосильной.
Я ходил в стадо за лошадью, когда она была нужна, отводил её обратно, загонял на двор скотину, приносил в избу дрова для топки и т. п. Всё меньше времени оставалось для игр и забав.
Теперь отец работал на фабрике только зимой, а летом обрабатывал свой надел на полторы души и, кроме того, каждое лето нанимался пахать у других.
Зарабатывали ещё кое-что на возке камней в город для мостовых. Камни собирали на полях, рыли в оврагах, доставали со дна реки. Работа эта была трудная, а заработок давала грошовый. На своих полях и на полях ближайших деревень все камни уже давно были собраны, и за ними приходилось ездить далеко. Чтобы собрать и продать в городе один воз камней, приходилось терять два рабочих дня.
Запашка на полторы души при хорошем урожае обеспечивала хлебом и картошкой самое большое до масленицы (т. е. до февраля), в остальное время, вплоть до нового урожая, продукты приходилось покупать. Хозяйство держалось отцовским заработком на стороне.
Мать часто говорила отцу, что меня нужно отдать в школу. Но школа находилась далеко, обуви и одежды не было, да и малограмотный отец не считал ученье особо нужным делом. Школьной скамьи видеть мне так и не пришлось.
Дядя, брат матери, был единственным из всех наших родственников грамотным человеком. Он писал и показывал мне буквы, я их быстро выучил и довольно скоро стал читать по складам. Письмо мне давалось труднее, тем более что очень часто недоставало чернил, перьев, бумаги.
После рождения брата Ивана у меня явилась новая обязанность — нянчить ребёнка. Отец с матерью уходили в поле, а я оставался у люльки. В лучшие летние месяцы мне приходилось сидеть дома.
Когда брат Ваня подрос, меня стали брать в поле жать. Я страшно уставал от этой непосильной для меня работы. Сильно болели спина и ноги. Я пробовал жать сидя, но мать не позволяла:
— Это нехорошо, — говорила она, — соседи увидят и будут смеяться.
К вечеру я совершенно выбивался из сил, чуть двигался, а мать покрикивала:
— Жни, жни, жни!
Это «жни, жни» слышалось мне даже во сне.
Однажды зимой отец вернулся с фабрики в необычное время, в будний день.
— Плохи наши дела, — угрюмо сказал отец, — фабрика Бурылина сгорела.
Не спеша раздевшись, он сел на лавку и поник головой.
У побледневшей, печальной матери показались на глазах слёзы.
— Как будем жить, что теперь делать? — растерянно спросила мать.
— Не унывай, что-нибудь придумаем, — утешал отец, — авось, устроюсь на другую фабрику.
Но зимой было много безработных, и поступить на другую фабрику не удалось.
Мы очутились на краю нищеты и голода. Случайно отцу удалось наняться пилить дрова в лесу, и мы кое-как перебились до лета. На следующую зиму отцу посчастливилось поступить на фабрику, и работал он без перерыва весь год. Однако жить становилось всё труднее. Мать экономила на каждой корке хлеба, на спичках, керосине.
Скоро не на что стало приобретать самое необходимое из обуви и одежды. Питаться всё чаще приходилось чёрствым чёрным хлебом и постными кислыми щами, — даже картошка водилась не всегда.
Не находя выхода из этого положения, отец с матерью стали поговаривать о переезде семьи в город Иваново- Вознесенск.
Мать первая стала настаивать на переезде. Она не знала, станет ли лучше, но хваталась за переезд, как утопающий за соломинку. Мы с братом тоже просили отца увезти нас в город. Жизнь в городе представлялась нам интересной и зажиточной. Но отец проявлял нерешительность: работая на фабрике с малых лет, он лучше нас знал городскую жизнь и понимал, что и там жить с семьёй нелегко.
После долгих колебаний отец, наконец, решился переехать в город. Осенью 1895 г., убрав маленький урожай, мы продали корову, заколотили свою избёнку и, попрощавшись с родными местами, уехали.
Нас, детей, подгоняло любопытство поскорей узнать городскую жизнь. Всё же, когда мы проезжали через наши поля и леса, безотчётная грусть невольно овладела и нами. Одетые в пёстрый наряд осени, родные леса тихо шумели под влажным ветром, медленно гнавшим обрывки серых облаков. Разноцветные листья, слетая с деревьев, нарядно застилали дорожки и тропинки. Щетинистые нивы напоминали о тяжёлом труде. Знакомые, исхоженные вдоль и поперёк места, казалось, упрекали нас за то, что мы их покидали.
— Куда это ты, Никита Никанорович? — спрашивали встречные знакомые крестьяне.
— В город, — отвечал отец. — Еду вот со всей семьёй попытать счастья, попробую пожить в городе, не будет ли лучше.
— А как же крестьянство-то, бросить, что ли, думаешь?
— Да, придётся уж, видно, бросить. Не хочется покидать деревню, да ничего не поделаешь. Шить стало совсем невозможно — нужда!
— В городе, думаешь, лучше будет?
— Будет ли лучше — не знаю, а здесь стало жить невозможно.
— Ну, поезжай с богом, Никита Никанорович, попробуй. Лучше не будет, так дорога в деревню не заказана.
Когда через 4—5 часов мы въехали в шумный город, то о деревне как-то сразу забыли.
Свернули мы на узкую, пыльную и вонючую улицу и скоро остановились у высокого деревянного забора, через который свисали пожелтевшие ветки растущей во дворе ивы. Отец вошёл в калитку, открыл ворота, и мы въехали во двор. Нас встретил худощавый, с проседью в волосах, хозяин дома Ф. Е. Сорокин, у которого отец снял квартиру.
Квартира эта представляла собою очень маленькую полутёмную хатку, пристроенную к хозяйскому дому. Она имела три маленьких окна, два из которых выходили на деревянный забор, а одно — на стену маленького флигеля. К боковой безоконной стенке хатки был пристроен узенький крытый дворик для дров. Двор порос низенькой и чахлой травой, примятой и пожелтевшей. Воздух на дворе портило отхожее место, пристроенное к забору.
Новое жилище было значительно меньше нашей деревенской избы. Обстановкой в новом нашем жилье должны были служить привезённые нами стол да две-три скамейки. Кроватей у нас в деревне не водилось, да и поставить их некуда было бы ни в деревне, ни на новой квартире.
На минуту стало жалко деревенской, хотя и постаревшей, но более светлой и просторной избы. Но раздумывать было уже поздно. Стали разгружать воз. Вместе с разным домашним хламом внесли в хату корзинку с курами— маленькую частицу брошенной нами родной деревни; мать не захотела расставаться с курами и взяла их в город.
Лошадь, привезшую нас, отец продал вместе с телегой на другой же день. С этого дня мы перестали быть «хозяевами», собственниками, и полностью очутились в новой обстановке — среди людей, не имеющих никаких средств производства, кроме своих рабочих рук.
Вскоре отец и мать поступили на ткацкую фабрику и стали работать ткачами. Мы, трое мальчиков, оставались дома, предоставленные самим себе. Мне тогда шёл уже тринадцатый год, брату Петру — одиннадцатый, а младшему, Ване, было около пяти лет.
В первое время мы знакомились с городом, с новой обстановкой: ходили в центр города, на базарные площади, осматривали магазины, высокие каменные дома, церкви и колокольню с часами; ходили к фабрикам, любовались извозчиками и полицейскими в форме.