Викинги в зеркале истории
Итак, все знают эту историю. 8 июня 793 года норвежские викинги на нескольких ладьях-драккарах подошли к острову Линдисфарн у побережья Нортумбрии на северо-востоке Англии. Они вытащили свои корабли на берег и с обнаженными мечами ворвались в расположенное на острове аббатство. Вскоре после этого оно загорелось, тут и там на земле валялись изрубленные тела монахов, алтари и кафедры были разбиты, а сундуки с церковным добром – разграблены. Викинги вынесли буквально все, что представляло хоть какую-то ценность. Современник тех событий, англо-саксонский богослов Алкуин сокрушался, что «никогда прежде Британия не видела такого ужаса». Это был далеко не последний набег северян на побережье Англии, также они регулярно наведывались и во Франкскую империю (современная Франция). Что касается набега на Линдисфарн, то он стал хрестоматийным примером жестокости викингов. Любой, абсолютно любой автор, пишущий на данную тему, так или иначе упомянет о нем.
Однако со всеми этими описаниями жестокости норманнов (буквально – «северных людей»), как называли скандинавских налетчиков в Европе, была одна проблема. Практически все европейские хронисты, описывавшие грабительские нападения северян, были священниками и монахами. Почему? Просто потому, что в те времена (IX – X века) в Европе с грамотностью было как-то не очень. Не разуметь грамоту вполне мог даже крупный феодал вроде барона или графа, не говоря уже о людишках калибром поменьше. Единственной категорией населения, где грамотность была на очень высоком уровне, оставалось духовенство – просто в силу того, что священник обязан был уметь читать и писать, чтобы работать с Библией и прочими священными текстами, а также нести слово божье в мир.
Монастырь же в те времена был наиболее лакомой целью для викингов. Почему? Потому что монахи не были воинами. Это у какого-нибудь феодала средней руки могла быть сильная дружина, которая, если Господь был в добром расположении духа, могла и сама навалять заезжим язычникам. Монастыри же собственных дружин не имели, были защищены хуже, чем крепости и городища, но при этом там практически всегда была золотая утварь и иконы в дорогих окладах. Именно поэтому монахи и священники едва ли не чаще остальных христиан сталкивались с набегами норманнов. И, будучи грамотными людьми, во всех красках и с завидным усердием живописали все зверства, которые те творили. Более того, подобный подход был (как бы смешно это ни звучало) в некоторой степени удобен для тогдашней церкви. Набеги викингов со всей их жестокостью всегда можно было связать с исполнением ветхозаветных пророчеств, согласно которым Божья кара для погрязших во грехах должна была прийти именно с севера. И даже не так важно, что книги Ветхого завета написали древние евреи за две тысячи лет до того, как первый викинг вышел в море. И под «миром» они понимали, само собой, древний Израиль. Ну, или Ближний Восток – максимум. При чем тут острова у побережья Англии? А пёс его знает. Написано, что погибель придет с севера – вот она и пришла. Молись и жди Судного дня.
В общем, ничто так не объединяет людей вокруг церкви, как призрак скорого апокалипсиса. Поэтому священники и не жалели эпитетов, описывая ужасы норманнских набегов. Европейские хронисты на протяжении веков создавали негативный образ викингов, который впоследствии был принят более поздними историками. Собственно даже сейчас образ викинга в массовой культуре во многом базируется на текстах средневековых монастырских хронистов. В ирландском эпосе XII века «Cogad Gaedel re Gallaib» («Война ирландцев с чужаками») викинги описываются такими эпитетами, как «хитрые», «ядовитые», «жестокосердные», «безбожные», «бесчестные», «угрюмые», «не питающие милосердия ни к Богу, ни к человеку». И так далее. Противостоящие им ирландцы-христиане, напротив, описывались как «полные мужества», «красивые», «горячие», «сильные», «доблестные» и все в таком духе. Не исторический труд, а политическая агитка. Впрочем – как и большинство средневековых летописей.
А чем могли ответить северяне? Сохранилось более 5000 рунических текстов и надписей эпохи викингов, ареал их распространения простирается от Скандинавии, Гренландии, Англии, Ирландии до России, Византии и Греции. Они содержат краткую информацию о людях и дают представление об обществе, которое ценит храбрость и отвагу как выдающиеся добродетели. «Торулв, последователь Свена, воздвиг этот камень в честь Эрика, его фила (товарища, побратима), который погиб, когда воины сидели вокруг Хайтхабю, и он был капитаном корабля, очень способным воином» – гласит надпись, выбитая на памятном камне в честь этого самого Эрика, который, судя по всему, сложил голову в боях за Хедебю в конце X века. Предельно лаконично, без красочных описаний и гипербол. В других надписях упоминаются военные походы в Англию и Южную Италию, торговые поездки в Прибалтику и на Ближний Восток, говорится о строительстве мостов и дорог, возносятся молитвы Тору или (обычно – в более поздних надписях) христианскому Богу. Все подобные надписи обычно несут в себе прямую функцию – прославить того или иного героя, увековечить верную и любящую жену, предать публичному поруганию труса, бросившего товарищей в бою.
Только после того, как Скандинавия христианизировалась, то есть – начиная с XII века, местные обитатели начали заботиться о создании собственной письменной истории. Они вспоминали героические подвиги своих предков-викингов и рисовали гораздо более лестную картину того, чего последние достигли как воины, моряки, поселенцы и исследователи далеких земель. Храбрость и верность — основные ценности, которыми часто наделяли героя саги. В качестве примера можно рассмотреть «Сагу и Гисли Сурссоне» – исландскую родовую сагу, первоначально существовавшую в качестве устного предания, и записанную в XIII веке. Главный герой саги (как следует из названия) – мужчина по имени Гисли, который из мести совершил убийство, после чего на тинге (народном собрании) был объявлен вне закона. Гисли пустился в бега, а по его душу отправились люди Бёрка – мужчины, чьего брата он убил. Некоторое время Гисли скрывается на небольшом острове у своего родственника Ингьяльда, который также является и арендатором Бёрка (то есть, за плату арендует у того землю под хозяйственные нужды). Ингьяльд оказывается перед моральным выбором. Гисли – осужденный преступник, но он, во-первых, его гость, пришедший к нему за защитой, а, во-вторых, его родич. В то же время Ингьяльд зависит от Бёрка, своего землевладельца, благодаря которому он имеет возможность зарабатывать себе на пропитание. Когда Бёрк узнает, где прячется Гисли, он приезжает к острову вместе со своими людьми и требует выдать беглого преступника, угрожая убить и Ингъяльда в случае отказа. Однако тот отвечает, что лучше до последнего своего дня будет носить рубище нищего, чем выдаст родственника на верную смерть. Таким образом, на примере этой саги, мы можем видеть, как скандинавские авторы романтизируют прошлое как героическое время, когда свободный человек, будь то богатый или бедный, не подчинялся ничему и никому. В итоге Бёрк уступает, рассудив, что не годится ему обнажать меч на человека, живущего на его земле. Впрочем, в итоге Гисли все равно погибает.
Мотивы гордости за прошлое своего народа явственно прослеживаются и в трудах датского историка и священника Саксона Грамматика. В предисловии к своему сочинению «Gesta Danorum» («Деяния датчан»), написанному на латыни не раньше 1185 года, он говорит: «Поскольку все другие народы могут похвастаться демонстрацией своих подвигов и получать удовольствие от памяти о своих предках, главный епископ датчан Абсалон желал, чтобы и наше отечество, которое он всегда с энтузиазмом прославлял, не было лишено такой славы и памяти...». В своем грандиозном труде Саксон также обильно использовал устные мифы, легенды, песни и саги, уже записанные ко времени и во время его жизни. Созданный им мир – это славные деяния отважных конунгов и королей, где акцент делался не на жестокость набегов, а на доблесть и мастерство воинов. Однако его взгляд на вещи нашел более широкую аудиторию только после того, как «Gesta Danorum» была переведена на датский язык в начале XVI века.
Постепенно истории о великом прошлом, и, в частности, о временах викингов стали чем-то вроде культурной «скрепы» народов Северной Европы. В 1825 году шведский поэт и епископ Эсайас Тегнер опубликовал «Сагу о Фритьофе». Скандинавский героический эпос становится бестселлером. Среди восторженных поклонников книги был и Иоганн Вольфганг Гёте, один из отцов такого литературного жанра, как «германский романтизм. «Великолепное произведение шведского национального романтизма» – как назвал «Сагу» Гёте – было переведено на множество языков. Церковник фактически создал эпос, восхваляющий времена викингов! Тех самых викингов, что разоряли монастыри, в то числе – и тот, на острове Линдисфарн. Почему так? Потому что на дворе – XIX век, эпоха бурного роста национального самосознания и национализма. Именно в это время в единое государство объединяются итальянские государства, в боях с турками добивается независимости Греция. В Европе то тут, то там вспыхивают национальные революции. Ну и, конечно, складывается единая Германия. Волна энтузиазма ко всему нордическому захлестывает Германию, родители дают своим детям нордические имена, такие как Фритьоф или Ингеборг. В это время творит Вагнер, которых в своих композициях также обращается к древнескандинавским сюжетам, ко временам викингов. Именно в постановках опер Вагнера артисты, изображающие мифических скандинавских героев, впервые надевают те самые рогатые шлемы, которые станут визитной карточкой образа викинга на ближайшие сто лет.
Германский император Вильгельм II тоже обожал все скандинавское, в период с 1889 по 1914 год он 26 раз совершал путешествие по норвежским фьордам на своей яхте «Гогенцоллерн». Он восхвалял этих «сильных людей, которые в своих легендах и учении о богах всегда проявляли самые прекрасные добродетели, верность людям и верность королю». Помните «Сагу о Фритьофе» Эсайаса Тегнера, первый «бестселлер» о викингах? Вильгельм ее тоже читал, и даже заказал огромный памятник герою Фритьофу (книжному персонажу!), который затем поставили на одном из датских островов. Более того, из одной из своих поездок в Норвегию германский император привез с собой на память норвежскую деревянную церковь (в разобранном виде, естественно). Ее собрали заново в 1893 году и установили в Роминтенской пуще (Восточная Пруссия), рядом с личным охотничьим домиком Вильгельма. Как сказал сам император, для него север был «колыбелью германских народов».
Свое понимание германо-скандинавского прошлого было и у нацистов. Один из идеологов Третьего Рейха, Альфред Розенберг, в 1930 году опубликовал книгу «Миф XX века», в которой утверждал, что «блестящая бесцельность, далекая от всех коммерческих соображений» — основная черта нордического человека, который «с… героической беспечностью… основывает государства в России, Сицилии, Англии и Франции». Войска СС носили на петлицах стилизованные скандинавские руны, а когда в 1940 году немцы оккупировали Норвегию, солдатам вермахта было приказано зачать там как можно больше детей (светловолосых и голубоглазых) с местными девушками, чтобы пополнить численность германской расы.
После Второй мировой войны всеобщий энтузиазм по поводу викингов немного сошел на нет, поскольку в массовом сознании они часто смешивались с Третьим рейхом. Впрочем, эта «немилость» длилась недолго, и уже в 1958 году на экраны США вышел фильм «Викинги» с Кирком Дугласом в главной роли. За несколько лет до «Викингов» в свет вышла монументальная трилогия оксфордского профессора английского языка и литературы Джона Толкина «Властелин колец», активно эксплуатирующая и заимствующая скандинавские мифы и легенды. Фактически, все эти эльфы, тролли, гномы и даже образ седого волшебника в остроконечной шляпе, что сегодня мы регулярно видим в фантастических произведениях, пришли к нам именно из германо-скандинавской культуры, которую популяризировал Толкин. Все это для нас давно стало знакомым и привычным, и кому какое дело, кто там тысячу лет назад грабил эти монастыри?
Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!
Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.
А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!
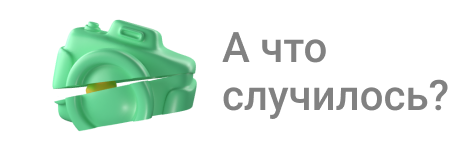




Лига историков
13.9K постов50.9K подписчиков
Правила сообщества
Для авторов
Приветствуются:
- уважение к читателю и открытость
- регулярность и качество публикаций
- умение учить и учиться
Не рекомендуются:
- бездумный конвейер копипасты
- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации
- чрезмерная политизированность
- простановка тега [моё] на компиляционных постах
- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты
- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)
Для читателей
Приветствуются:
- дискуссии на тему постов
- уважение к труду автора
- конструктивная критика
Не рекомендуются:
- личные оскорбления и провокации
- неподкрепленные фактами утверждения