Разбор романа В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота» Часть 2
После небольшого перерыва возвращаемся к разбору книги, раскрывающей идеи субъективного идеализма таким образом, что у читателя не возникает желание покрутить пальцем у виска или запостить «нихуя не понял, но очень интересно»
В предыдущей серии я остановился на появлении в сюжете Василия Ивановича Чапаева.
— Кто вы такой? — спросил я.
— Моя фамилия Чапаев, — ответил незнакомец.
— Она ничего мне не говорит, — сказал я.
— Вот именно поэтому я ей и пользуюсь, — сказал он.
Как автор уточнит в более позднем романе «t», Чапаев и Унгерн (Юнгерн, появится позднее) – члены одной околобуддистской секты, а вовсе не генерал красной армии и монгольский военачальник соответственно. Этот диалог обозначает Чапаева как неизвестную личность, носящую псевдоним. Кто он такой на самом деле не будет ясно до самого конца книги, да и по окончании мы получим всего лишь намёк. Так же это является отсылкой к параноидальной анонимности Кастанеды.
После знакомства Чапаев предлагает Петру присоединиться к нему за фортепьяно, чтобы сыграть участок, написанный для четырёх рук. Символическое значение этого эпизода – испытание Петра на пригодность стать учеником гуру: не смог бы сыграть – не стал бы. Такие испытания обязаны проводить все уважающие себя гуру, вот и Чапаев не нарушает традиции. Также это объясняет саму потребность в ученике – Чапаев считает, что некоторые моменты духовного пути невозможно пройти в одиночку.
— Бесподобно, — сказал он [Чапаев]. — Я никогда не понимал, зачем Богу было являться людям в безобразном человеческом теле. По-моему, гораздо более подходящей формой была бы совершенная мелодия — такая, которую можно было бы слушать и слушать без конца.
В очередной раз указывается иррациональность материалистической веры в бога, требующей от него материального воплощения. В то же время, не смотря на полное отрицание бога в церковном понимании, Чапаев признаёт заслуги Иисуса Христа. Примерно так же поступают основные восточные конфессии - буддизм, кришнаизм, дао. Ни одно из этих течений не наяривают на святую троицу, но все уважают Христа.
— Но как вы вошли в квартиру?Пётр продолжает воспринимать всё как материалист, и будет делать это ещё очень много раз. Больше я не буду заострять на этом внимания до момента, с которого начнётся перестройка восприятия этого персонажа.
— Я пытался звонить, — сказал он, — но звонок, видимо, не работает. А ключи торчали из двери. Я увидел, что вы спите, и решил подождать.
— Понятно, — сказал я.
На самом деле ничего понятно мне не было. Как он узнал, где я? К кому он вообще пришел — ко мне или к фон Эрнену? Кто он и чего он хочет? И почему — именно это мучило меня невыносимо — почему он играл эту проклятую фугу?
— У вас много вещей?
— Только это, — сказал я, кивая на саквояж.
— Отлично. Я сегодня же распоряжусь поставить вас на довольствие при штабном вагоне.
Саквояж будет иметь очень большое символическое значение. Во-первых, в этом саквояже ничего, кроме кокаина, нет. То есть что-то ещё лежит, но упоминаться будет только он. В отличии от Кастанеды с его грибами и мескалином, Пётр не будет этот кокаин употреблять. Да и вообще в книгах Пелевина ни один персонаж первого плана не употребляет наркотиков, и даже не напивается алкоголем. Короче, такого зожника как Пелевин ещё поискать.
*Вавилен Татарский – исключение из этого правила, так как он, в отличии от остальных главных героев отрицательный, а не положительный персонаж, и вообще «поколение пэ» (настаиваю на таком прочтении) это история падения моральных ценностей общества, показанная через падение одной личности, в той мере, в какой автор вообще признаёт любые моральные ценности.
— Ребята! — надсаживая голос, крикнул он. — Собрались вы тут сами знаете на што. Неча тут смозоливать. Всего навидаетесь, все испытаете. Нешто можно без этого? А? На фронт приедешь — живо сенькину мать куснешь. А што думал — там тебе не в лукошке кататься…Всё это речь Чапаева. Совершенно не похоже на его прошлую манеру разговора. И вот как он это комментирует:
— Только бы дело свое не посрамить — то-то оно, дело-то!.. Как есть одному без другого никак не устоять… А ежели у вас кисель пойдет — какая она будет война?… Надо, значит, идти — вот и весь сказ, такая моя командирская зарука… А сейчас комиссар говорить будет.
— Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?Один из важнейших моментов книги. Что на самом деле произошло: Чапаев влез в сознание толпы, взял оттуда слова и сказал их. Да, в этом романе он немного волшебник, и это уже не первое чудо, явленное им Петру.
— Как? — наморщился Чапаев.
— Зарука, — повторил я.
— Где это вы услыхали?
— Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке.
— А, — улыбнулся Чапаев, — вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое «зарука», вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.
Мне показалось, что я понимаю, о чем он говорит. Уже давно я пришел к очень близким выводам, только они касались разговоров об искусстве, всегда угнетавших меня своим однообразием и бесцельностью. Будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах, не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми словами вроде «реализма», «теургии» или даже «теософического кокса». В терминологии Чапаева это означало изучить язык, на котором говорит масса. А сам он, как я понял, даже не утруждал себя знанием слов, которые произносил. Было, правда, неясно, как он этого достигает.
Для автора весьма характерно объяснить одну и ту же мысль дважды, но эта тема получила десятки объяснений и раскрытий в разных книгах. Так, в одной из рецензий на Айфак 10 я даже читал фразу наподобие «Наконец то Пелевин объяснил всем, что он не более чем литературный алгоритм». Ранее, в «Священной книге оборотня» главная героиня лиса действовала точно так же, только не называла себя алгоритмом, а просто повторяла за другими персонажами фразы, немного изменяя и дополняя их под ситуацию. Но это всегда было «говорить на языке массы». По сути, именно в этом отличие Пелевина от всяких философов, особенно французских (коим регулярно достаются тонкие шпильки в текстах автора). Там, где Фуко даже не попытался бы что-то конкретизировать и уточнить, Пелевин разжуёт всё на жизненном примере без оглядки на хронометраж.
Вернёмся к роману. В тексте появляется второй комиссар Чапаева, а точнее – комиссар полка ивановских ткачей, переданного под командование генерала, у которого уже был свой комиссар – Пётр. И зовут этого комиссара Фурманов. Судьба его исторического прототипа весьма трагична. Чапаев сначала увёл у него жену (как минимум попытался) а потом, когда комиссар Дмитрий Фурманов не смотря на любовный треугольник, написал о нём как о герое, слава досталась именно Чапаеву, а о Фурманове даже ни одного анекдота нет. В романе Пелевина Фурманов символизирует нечто всеразрушающее, демоническое, а именно полк тех самых ткачей. Появляясь в сцене отбытия Чапаева на фронт он пропадает из кадра до финала, вместе со своим демоническим полком, однако даже в этой сцене пугает Петра до дрожи.
— Мне не понравился их комиссар, — сказал я, — этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться.Далее в романе появляется Анна, оператор глиняного пулемёта. Романтическая линия между ней и Петром просто неизбежна с самых первых слов. Но разворачиваться она будет постепенно, как и лента глиняного пулемёта.
— Я хочу поднять тост, — сказал Чапаев, остановив на мне свои гипнотические глаза, — за то страшное время, в которое нам довелось родиться и жить, и за всех тех, кто даже в эти дни не перестает стремиться к свободе.
Как известно все революции происходят во имя свободы. Но Чапаев говорит вовсе не о той свободе, которая тусуется с равенством и братством по умам падких на лозунги людей. Он говорит о свободе сознания. Настоящей свободе мысли. Казалось бы, внутри, наедине с собой, можно думать о чём угодно, и никто не может запретить, ограничить мысль! Ничего подобного. Даже сейчас, лишь немногие из вас способны подумать о том, что бог умер, а ведь Ницше написал об этом больше 150 лет назад. Тут важно даже не то, прав ли Ницше (конечно не прав, ибо о что мертво умереть не может © Дж. Мартин) а то, можете ли вы для себя поднять этот вопрос и для себя же дать на него ответ. Если можете, то это примерно равносильно взгляду в направлении свободы мысли.
На этой позитивной ноте я завершаю вторую часть разбора творчества Пелевина, подписывайтесь чтобы не пропустить следующие!

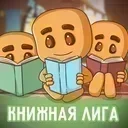
Книжная лига
22.5K поста78.5K подписчика
Правила сообщества
Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
При создании поста обязательно ставьте следующие теги:
«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;
«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;
«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».
Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.
ВНИМАНИЕ. Раздача и публикация ссылок на скачивание книг запрещены по требованию Роскомнадзора.