О волшебных сказках ч.3 из 5 (On Fairy-Stories) Д. Р. Р. Толкин, эссе
Дети
Теперь я буду говорить о детях и таким образом подойду к последнему и самому важному из трех поставленных вопросов: какова роль и ценность волшебных сказок в наше время и есть ли она вообще? Обычно считается, что дети — естественная или особо подходящая аудитория для волшебных сказок. Характеризуя волшебную сказку, о которой они думают, что ее для развлечения могут читать взрослые, обозреватели часто снисходительно замечают: «Это книга для детей от шести лет до шестидесяти». Но я ни разу не видел рекламу новой модели автомобиля, которая бы начиналась словами: «Эта игрушка развлечет младенцев от семнадцати лет до семидесяти», что, по-моему, было бы гораздо более уместно.
Есть ли существенная связь между детьми и волшебными сказками? Надо ли удивляться, если их читает взрослый? Просто читает, как произведение, а не изучает из любознательности? Взрослым ведь разрешается собирать и изучать все на свете, даже старые театральные программы и бумажные пакеты.
По-видимому, те, у кого хватает ума не считать сказки вредными, думают, что между детскими умами и сказками существует естественная взаимность того же рода, как между детским тельцем и молоком. По-моему, они ошибаются. Это суждение — ложно, его чаще всего высказывают те, кто по личным причинам (например, бездетность) считает, что дети — особые создания, почти другая раса, а не обычные, просто еще не повзрослевшие члены определенной семьи и одновременно — всей большой семьи человечества.
Фактически связь между детьми и сказками — это побочное обстоятельство нашей домашней истории. В современном цивилизованном мире сказки передают в детскую подобно тому, как в игровую комнату передают старую или старомодную мебель, в основном из-за того, что взрослым она больше не нужна и они не возражают, чтобы ее использовали не по назначению.
Что касается сказок и детского фольклора, то тут есть еще один фактор. В состоятельных семьях присматривать за детьми нанимали женщин, и эти няньки, сохранявшие связь с деревней и народным творчеством, рассказывали детям сказки, забытые в кругу, к которому принадлежали их хозяева. Этот источник давно иссяк, во всяком случае тоже нет доказательств для утверждения, что дети особо подходят для восприятия, исчезающего фольклора. Няньки могли с таким же успехом подбирать для детей картинки и мебель, как и сказки.
Дети не выбирают и не решают. Дети как класс — хотя ни в чем, кроме общего для них всех недостатка опыта, они таковым не являются, — не больше любят сказки, чем взрослые, и не лучше, чем взрослые, понимают их; собственно, и многое другое они не больше любят, чем взрослые. Они молоды, они растут, у них обычно хороший аппетит, так что сказки они, как правило, неплохо переваривают. Но на самом деле лишь немногие дети и немногие взрослые любят именно сказки; причем, когда они их любят, это не исключение и совсем не обязательно главное увлечение. В очень раннем детстве вкус без искусственного стимулирования не появляется; а если он врожденный, то с возрастом только развивается и крепнет, а не пропадает.
Насколько мне известно, дети, рано проявившие склонность к писательству, обычно не берутся писать сказки, за исключением тех случаев, когда сказки были единственным видом преподносимой им литературы; а когда они пробуют писать сказки, у них ничего не выходит. Это ведь нелегко. Когда у детей наблюдается специфическое пристрастие к сказкам, это обычно бывают сказки о животных, басни, а взрослые часто их путают с волшебными сказками. Лучшие сказки, написанные детьми, которые мне приходилось видеть, либо были «реалистическими» (по замыслу), либо их героями были животные и птицы, в основном зооморфные очеловеченные создания, характерные для басен. Мне кажется, что эту форму так часто выбирают за то, что она допускает большую долю реализма: дает возможность изобразить домашние события и разговоры, которые дети по-настоящему хорошо знают. Однако саму форму, как правило, предлагают или навязывают взрослые. Как в хорошей, так и в плохой литературе, обычно предлагаемой маленьким детям, имеется странная доминанта: по-моему, вся она подразумевается как сопутствующая рядом с «Естественной Историей», полунаучными книгами о животных и птицах, которые тоже считаются подходящей пищей для юных умов. И это все подкрепляется медведями и зайцами, которые в последнее время почти выжили кукол из детской, даже девочки в них играют чаще. Дети складывают целые саги про своих кукол, подчас длинные и сложные. Если куклы — мишки, то действующими лицами в этих сагах будут медведи, но говорить они будут, как люди.
Факт, что в последнее время сказки часто специально пишут или «адаптируют» для детей. Но то же делают с музыкой, стихами, романами, историей, учебниками. Это рискованный процесс даже в тех случаях, где он необходим. Он не стал бедствием лишь потому, что науки и искусства не целиком посылаются в детскую; детская и школа получают те отрывки из занятий и увлечений взрослых, которые взрослым кажутся (подчас совсем ошибочно) подходящими для них. То, что будет оставлено в детской целиком, окажется безнадежно испорченным. Хороший стол, красивая картинка, полезный прибор (например микроскоп), оставленный надолго без присмотра в школьном классе, будет изуродован или сломан. И сказки, оторванные таким образом от взрослого искусства, изгнанные из него, в конце концов погибнут; по мере того как они изгоняются, они уже погибают.
Итак, на мой взгляд, ценность волшебных сказок не определишь, если рассматривать, в частности, детей. Собрания сказок по своему характеру, фактически — чердаки и чуланы, и только временно и локально по традиции — игровые комнаты. Их содержимое растрепано и часто разорвано, это мешанина из разных периодов времени, целей и вкусов; но иногда в ней случайно обнаруживается непреходящая ценность: старое произведение искусства без особых повреждений, которое только глупость могла выбросить.
«Книги Сказок» Эндрю Ланга, по-моему, не чуланы. Они скорее напоминают киоск на распродаже случайных вещей. Кто-то с верным глазом прошелся с тряпкой по чуланам и чердакам и выбрал оттуда вещи, сохранившие некоторую ценность. Его сборники в большей своей части — побочный продукт взрослого изучения им мифологии и фольклора; но их упорядочили и преподносят, как книги для детей.
Это сделали сам Ланг и его помощники. В большинстве оригиналов (или старейших сохранившихся записей) они не детские.
Некоторые мотивы, приводимые Лангом, стоят внимания.
Во введении в первую книгу говорится о «детях, которым и для которых рассказываются сказки». «Они представляют, — говорит Ланг, — юность человека, которая верна своим ранним привязанностям и обладает непритупленным лезвием веры и свежей жаждой чуда». И еще: «Правда ли это? — вот великий вопрос, который задают дети», — говорит он.
У меня есть подозрение, что «вера» и «жажда чуда» здесь сведены вместе как идентичные или тесно связанные понятия. А они в корне отличаются, хотя человеческое сознание, развиваясь, не спешит сразу отделить жажду чуда от общих аппетитов и желаний. Ясно, что слово «вера» Ланг использует в обычном смысле: а именно, вера в то, что нечто существует или может произойти в реальном (первичном) мире. И вот боюсь, что высказывание Ланга, если снять с него налет сентиментальности, сможет означать лишь то, что рассказчик чудесных сказок, обращаясь к детям, должен, может или уже пробует использовать их доверчивость, недостаток опыта, что затрудняет детям в отдельных случаях определение разницы между фактом и вымыслом, хотя умение отличать их лежит в основе нормального человеческого мышления и в основе волшебных сказок.
Дети, конечно, способны к «литературному верованию», когда сказочник достаточно искусен, чтобы его возбудить. Такое состояние души было названо «произвольным торможением неверия». По-моему, это определение не соответствует действительности. На самом деле происходит то, что сказочник оказывается удачливым «вторичным творцом». Он создает Вторичный Мир, в который открыт доступ вашему сознанию. И то, что происходит в этом мире, в его рассказе — «правда», ибо соответствует законам этого мира. Поэтому вы ему верите, пока находитесь как бы в нем. В тот момент, когда возникает неверие, разрушаются чары: значит, магия, или, вернее, искусство не достигло цели. Тогда вы снова оказываетесь в своем «первичном» мире, извне наблюдая за тем, что происходит в отторгнутом «вторичном». Если по доброте, из вежливости или в силу обстоятельств вы остались там, ваше неверие должно быть снова заторможено или сковано, иначе смотреть и слушать было бы невыносимо. Но такое торможение неверия — всего лишь подмена настоящего, уловка; к подобным уловкам мы прибегаем, когда снисходим до игры или притворства, или когда пытаемся (с большей или меньшей охотой) найти достоинства в произведении искусства, оставившем нас равнодушными.
Настоящий энтузиаст игры в крикет находится в очарованном состоянии Вторичного Верования. Зритель на матче находится на более низкой стадии. Как зритель, я могу с большим или меньшим усилием добиться произвольного торможения неверия, если вынужден находиться там или если у меня появляются другие мотивы прогнать скуку: например, страстное геральдическое предпочтение синего голубому. Торможение неверия может произойти от общей усталости, утомления ума, от сентиментального настроения, для взрослого это убогое состояние души. Взрослым оно, по-видимому, свойственно нередко и проявляется, когда они встречают сказку. Уйти им мешает сентиментальность, она не поддерживает это состояние (воспоминания детства, представление о том, каким детство должно быть); они внушают себе, что сказка должна им нравиться. Но если бы им по-настоящему нравилась сказка, они бы не тормоаили неверие; они бы просто верили — в прямом смысле.
Так вот, если бы Ланг подразумевал что-то подобное, в его словах могла быть доля истины. Он мог утверждать, что дети легче поддаются чарам. Может быть, и так, хотя я в этом не уверен. Вероятно, это иллюзия, возникающая у взрослого от детской покорности, от недостатка у детей критического опыта и соответствующего словаря, от их ненасытности (пропорциональной быстрому росту). Им нравится то, чем их угощают; или они хотят, чтобы им это нравилось; если даже не нравится, они не могут выразить недовольство или не могут его объяснить (очень многие свое неудовлетворение скрывают); им нравится огромная масса вещей, они еще неразборчивы и не пытаются анализировать плоскости своих верований. Во всяком случае, сомнительно, чтобы это зелье — очарование настоящей волшебной сказки — теряло свои свойства, притупляло действие от неоднократного употребления.
Ланг сказал, что дети задают великий вопрос: «Правда ли это?» Я знаю, что они задают этот вопрос, и на него нельзя ответить опрометчиво или как попало, с ленцой.
«Гораздо чаще они меня спрашивали: «Он был хороший?» или «Он был плохой?», т. е. им важнее было разобраться в том, что хорошо и что плохо. Ибо это вопрос одинаково важный как в истории, так и в волшебных делах.
Но этот вопрос вряд ли можно считать доказательством «непритупленного верования» или даже желания верить. Чаще всего он возникает от желания ребенка узнать, что за литературу ему преподносят. Детское знание мира часто настолько мало, что дети не могут без подготовки и без помощи судить о том, что выдумано, что незнакомо (редкие или удаленные факты), что бессмысленно и что просто относится к миру взрослых (т. е. к миру родителей, который детьми еще не исследован). Но они чувствуют, что есть разные категории, а иногда им нравится все. Границы между категориями у детей неопределенные, но ведь не только у детей. Мы все видовые отличия знаем, но всегда ли можем правильно классифицировать то, что слышим? Ребенок вполне может поверить в то, что великаны-людоеды живут в соседнем графстве, многие взрослые легко верят тому, что они есть в другой стране, а что касается иных планет, то очень немногие могут вообразить, что там обитают люди, а населяют их всякими беззаконными чудищами.
Вот я был одним из тех детей, к которым обращался Эндрю Ланг: я родился почти в одно время с «Зеленой книгой Сказок». Это про нас он думал, что нам сказки — все равно что взрослым романы, и о нас он говорил: «Их вкус остался таким, каким он был у их голых предков много тысяч лет назад; и похоже, что сказки они любят больше, чем историю, стихи, географию и арифметику».
Предисловие к «Лиловой Книге Сказок».
Но разве много мы знаем о наших «голых предках», кроме того, что голыми они, разумеется, не были? И конечно же, наши волшебные сказки, как бы ни были стары отдельные их элементы, совсем не похожи на их сказки. А если признать, что у нас волшебные сказки есть, потому что они были у них, то получится, что история, география, стихи и арифметика есть у нас, потому что им они тоже нравились в том виде, вкаком они могли быть у них, и в той степени, какой они могли разделить на отдельные отрасли свои интерес ко всему.
Что касается современных детей, определение Ланга не совпадает ни с моим опытом общения с ними, ни с моими детскими воспоминаниями. То ли Ланг ошибся в детях, с коими ему приходилось общаться, то ли дети сильно изменились, даже в границах маленькой Британии, но обобщение их в какой-то «класс» (вне зависимости от их индивидуальных способностей, влияния среды, в которой они растут, воспитания) — это иллюзия, вводящая в обман. У меня не было особого «желания верить». Я хотел знать. Вера зависела от того, как мне преподносили сказку: как это делали старшие, автор, каков был внутренний тон сказки и ее качество. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы удовольствие от сказки зависело от веры, что такое случалось или могло случиться «в жизни». Конечно же, волшебные сказки в первую очередь имеют отношение не к возможному, а к желаемому. Если они возбуждают желание и удовлетворяют его, подчас заостряя до невыносимости, цель достигнута.
Здесь незачем вдаваться в дальнейшие подробности, потому что об этом желании я еще надеюсь поговорить ниже: это ведь комплекс из многих составляющих, некоторые из них универсальны, некоторые свойственны лишь современным людям (включая современных детей), или даже только отдельным категориям людей. Мне никогда не хотелось видеть во сне то, что видела Алиса, и переживать подобные приключения: рассказ о них просто забавлял меня. У меня не было горячего желания искать клады и драться с пиратами, и «Остров Сокровищ» меня не взволновал. С краснокожими индейцами было интереснее — там были луки и стрелы (а во мне до сих пор живет неудовлетворенное желание хорошо стрелять из лука), и там были незнакомые языки и мельком был виден древний образ жизни, и сверх всего — там были леса. Страна Мерлина и Артура была еще лучше, а самым прекрасным был безымянный Север Сигурда из Вельсунгов, где обитал Повелитель всех драконов. То были сверхжеланные земли. Я никогда не думал, что драконы — создания того же порядка, что и лошади, и совсем не потому, что видел лошадей каждый день, а следов дракона никогда не видел.
Меня познакомили с зоологией и палеонтологией (в детском издании) так же рано, как и с Волшебной Страной. Я смотрел картинки с живущими в наше время зверями и с настоящими (так мне говорили) доисторическими животными. Мне больше нравились «доисторические»: они ведь жили давным-давно, а гипотеза (построенная на довольно скудных свидетельствах) не может существовать без некоего налета Фантазии. Но мне не нравилось, когда мне говорили, что это «драконы». Я и сейчас могу, словно наяву, представить и пережить то раздражение, которое чувствовал в детстве, когда родственники (или подаренные мне книги) назидательно заявляли, что «снежинки — волшебные алмазы», или что они «красивее волшебных алмазов», а «чудеса океанских глубин удивительнее, чем страна эльфов». Дети ждут, что взрослые объяснят или хотя бы признают отличия, которые чувствуют они, но не ожидают отрицания или игнорирования. Я остро чувствовал красоту «настоящих вещей», но мне казалось, что путать настоящее с чудесами «тех вещей» — это значит изворачиваться и обманывать. Я очень хотел изучать Природу, даже сильнее хотел, чем читать сказки, но я не хотел, чтобы меня обманом заманивали в Науку и выманивали из Волшебной Страны люди, по-видимому решившие, что по какой-то врожденной греховности я должен предпочитать сказки, а в соответствии с новой религией меня надо вынудить любить науку. Природу можно, без сомнения, изучать всю жизнь или вечно (если есть талант); но в человеке есть часть, не относящаяся к «Природе», и посему не обязанная ее изучать, и в общем-то, вовсе ею не удовлетворенная.
На драконе было отчетливое клеймо Волшебной Страны. Там, где жили драконы, был другой Мир. В сокровенной глубине тяги к Волшебному жила Фантазия, творение или промельк Других Миров. Я желал драконов сокровенным желанием. Конечно, будучи мал и слаб, я не хотел, чтобы они явились по-соседству, вмешиваясь в мой относительно безопасный мир, где можно было, к примеру, спокойно и без всякого страха читать сказки.
Вот что, естественно, дети имеют в виду, когда спрашивают: «А это правда?» Они хотят сказать: «Мне это нравится, но сейчас такое есть? Мне в кровати ничто не грозит?» Все, что они хотят услышать: «Конечно, сейчас в Англии драконов нет».
Но мир, в котором жил пусть только воображаемый Фафнир, был богаче и красивее, он стоил того, чтобы за него погибали. Житель тихих плодородных долин может услышать про истерзанные Горы и бесплодное Море и затосковать по ним сердцем. Ибо сердце твердо, хотя тело может быть мягким.
Но все же, как ни важен был в моем раннем чтении элемент Волшебного в сказке, я не могу сказать о себе, что в детстве пристрастие к волшебным сказкам было основной чертой моего вкуса. Настоящий вкус к ним у меня проснулся позже, когда прошли долгие, как мне казалось, годы (их было всего несколько) с того дня, как я научился читать, и до того, как пошел в школу. В то время (я чуть было не написал «счастливое» или «золотое», хотя на самом деле оно было печальным и тревожным) мне точно так же или еще больше нравилось многое другое: история, астрономия, ботаника, грамматика и этимология. Я в принципе не согласен с обобщенным понятием «дети» у Ланга, оно мне подходит только в отдельных деталях. Я, например, не чувствовал поэзии, я пропускал стихи, когда они попадались в сказках. Поэзию я открыл для себя гораздо позже, в Латыни и Греческом, в основном потому что меня заставляли сочинять и переводить английские стихи в классические. Настоящий вкус к сказкам проснулся во мне на пороге зрелости, когда я увлекся филологией, и полностью сформировался во время войны.
Наверное, я уже больше, чем надо, сказал по этому поводу. Во всяком случае, вам теперь ясно, что я не рекомендую связывать волшебные сказки специально с детьми. Между ними существуют связи: естественная, потому что дети — часть человечества, а сказки — предмет нормального увлечения людей (хотя и не всех); случайная, потому что волшебные сказки — это немалая часть того литературного хлама, который в современной Европе сбрасывают в чуланы; неестественная — из-за порочной сентиментальности по отношению к детям, которая, похоже, усиливается по мере деградации детей.
Правда, век сентиментального отношения к детству дал жизнь нескольким восхитительным книгам (особенное восхищение они, конечно, вызывают у взрослых) книгам о волшебном или прикосновении к нему; но он также породил кошмарный подлесок из произведений, написанных специально или адаптированных по действительным или выдуманным меркам детского понимания для детских нужд.
Вместо того, чтобы отложить в запас старые сказки, их вышвыривают или «смягчают»; имитации часто выходят просто глупыми — какое-то пигвиггинство даже без интриги; или звучат покровительственно; или (что совсем убийственно) со скрытым хихиканьем, с оглядкой на присутствующих взрослых. Я не обвиняю Эндрю Ланга в хихиканье, но он наверняка усмехался про себя и наверняка частенько оглядывался на лица других умников через головы своей ребячьей аудитории — что, вероятно, нанесло весьма серьезный ущерб «Хроникам Пантофлии».
Дейсент дал энергичный и справедливый ответ на ханжескую критику его переводов норвежских народных сказок. И он же совершил потрясающую глупость, запретив детям читать последние две сказки из своего сборника. Кажется невероятным, что человек, изучавший сказки, ничему не выучился. Но ведь не понадобилось бы ни критики, ни возражений на нее, ни запретов, если бы на детей не смотрели как на безусловных читателей этой книги, что совершенно ни к чему.
Я не отрицаю, что в нижеследующих словах Эндрю Ланга есть доля правды (хотя они звучат несколько сентиментально): «Тот, кто входит в Волшебную Страну, должен иметь сердце ребенка». Потому что такое сердце нужно для любого рискованного шага в Приключения в любую страну, меньшую или большую, чем Страна Фантазия. Но скромность и невинность — именно это в данном контексте должно означать «сердце ребенка», — совсем не обязательно предполагают некритическое удивление и некритическую чувствительность. Честертон однажды заметил, что дети, с которыми он смотрел «Синюю Птицу» Метерлинка, остались недовольны, «потому что пьеса не кончилась Судным Днем, и герой и героиня не узнали, что Пес был верным, а Кот вероломным». «Ибо дети, — продолжает он, — невинны и любят справедливость, в то время как большинство из нас — грешники, и мы естественно предпочитаем милосердие».
В этом пункте Эндрю Ланг запутался. Как он старался защитить Желтого Гнома от смерти от рук принца Рикардо в одной из своих собственных волшебных сказок! «Ненавижу жестокость, — говорил он. — ...но это произошло в честном бою, и гном, мир его праху, пал с мечом в руке и в доспехах». Только остается неясным, почему «честный бой» менее жесток, чем «справедливый суд», и пронзить гнома мечом более справедливо, чем казнить преступных королей и злодеек-мачех, — от чего Ланг отказывается: он посылает таких преступников (как сам похваляется) доживать век, уйдя от дел, и дает им на это средства. Милосердие, не ужесточенное правосудием. Правда, жалуется Ланг не детям, а их родителям и воспитателям, которым рекомендует своих «Принца Пригио» и «Принца Рикардо» в качестве подходящего чтения для их питомцев.
Предисловие к «Лиловой Книге Сказок».
Это ведь родители и воспитатели отнесли волшебные сказки в разряд «детского чтения». Вот вам маленький пример того, как можно дойти до фальсификации ценностей.
Если мы употребляем слово «ребенок» в хорошем смысле (у него также есть законный плохой смысл), то не надо ударяться в сентиментальность, употребляя слово «взрослый» в плохом смысле (у него также есть законный хороший). Процесс взросления не обязательно совпадает с погрязанием в пороках, хотя бывает и так. Дети вырастать должны, а не превращаться в Питеров Пэнов. Не надо терять невинности и способности удивляться; но надо идти по намеченному пути; идти по нему с надеждой, конечно, не так важно, как прийти к цели, но чтобы прийти к цели, надо идти с надеждой. И один из уроков волшебных сказок, если можно говорить об уроках, а не назиданиях, — что неопытный, неуклюжий и себялюбивый юнец, узнав неудачи, печаль и тень смерти, может получить в дар достоинство, положение, а иногда и мудрость.
Давайте не будем делить человечество на элоев и морлоков: хорошеньких детей — «эльфов», как их подчас идиотски называло восемнадцатое столетие, с их сказочниками (тщательно подстриженными), и темных морлоков, обхаживающих свои машины. Если сказки вообще достойны того, чтобы их читали, то, значит, их стоит писать для взрослых, и читать их должны взрослые. Они ведь могут больше туда вложить и больше оттуда извлечь, чем дети. Затем дети смогут надеяться, что к ним протянется ветвь настоящего искусства и они получат подходящие для них сказки, в пределах своего понимания; точно так же они могут надеяться на то, что им дадут соответствующие введения в поэзию, историю и науки. Хотя, может быть, для них было бы лучше, если бы они кое-что читали (особенно сказки) в сложном варианте, а не в упрощенном. Книги, как и одежда, должны даваться «на вырост», и книги, во всяком случае, должны способствовать росту.
Ну, вот. Если взрослые станут читать сказки как естественную ветвь литературы — не играя в детей, не притворяясь, что подбирают для них чтение, не являясь теми мальчиками, которые так и не выросли, — то каковы роль и ценность (значение) сказок? Вот каков, на мой взгляд, последний и самый важный вопрос. Я уже намекал на некоторые возможные варианты ответа. Во-первых, художественно написанная сказка имеет литературную ценность наравне с другими литературными формами. Кроме того, волшебная сказка в особой степени дарит нам то, в чем дети, как правило, меньше нуждаются, чем взрослые: Фантазию, Возрождение (Пробуждение), Уход (Освобождение), Утешение. Большинство этих понятий в наше время слишком часто считаются вредными для всех. Я кратко остановлюсь на них.
Начнем с Фантазии.
Перевод с английского В. А. М.
Оригинальное название эссе: On Fairy-stories
Об этом эссе на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/On_Fairy-Stories
Взял отсюда: https://omiliya.org/article/o-volshebnykh-skazkakh-dzhon-ronald-ruel-tolkien.html

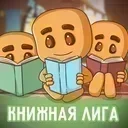
Книжная лига
22.4K постов78.4K подписчик
Правила сообщества
Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
При создании поста обязательно ставьте следующие теги:
«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;
«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;
«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».
Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.
ВНИМАНИЕ. Раздача и публикация ссылок на скачивание книг запрещены по требованию Роскомнадзора.