Купите папиросы (часть 4) ФИНАЛ
Автор: Волченко П.Н.
Ссылки на предыдущие части
Его опять не было на площади. В этот теплый погожий день начавшегося бабьего лета, когда самое то под погожим солнышком потолкаться среди людей, и не зябнуть в ожидании покупателя – его не было. Дошел до пруда, не было и под ивой. Ускоряя шаг, дошел и до «секретной» лавочки – нет. Вернулся на площадь, покурил, все в прохожих всматривался – нет его. Глянул на часы – уже половина второго. Где же он?
К ларьку уже бежал, выскочил наперед негодующей очереди, чуть голову в окошечко не всунул, спросил:
- Теть Ира, вы не знаете, где Ангел живет?
- Да не нервничайте, подойдет он, ну или у пруда, или…
- Его нигде нет. Мы вчера договаривались, а его нет.
- Да подойдет он.
- Вы не понимаете, я его к себе забираю, усыновить хочу, мы договорились встретиться…
- Молодой человек, - пожилая женщина с малым дитем, внуком наверное, попыталась оттеснить меня от окошка, - тут вообще-то очередь. Нам, пожалуйста…
- Он вроде где-то в новостройки ходит… Да подождите вы, женщина, - рявкнула на тетку, та состроила обиженную физиономию, пошла прочь гордо, - это еще высотка где новая, недостроенная. А там… не знаю.
- Спасибо, - я побежал прочь и услышал ее крик сзади:
- Удачи вам! – будто бы и на меня распространилась эта его способность открывать в людях доброе.
До новостроек, извечно огороженных, где бетонными, а где и страшно покосившимися деревянными, некрашеными заборами – было недалеко. Строить начали давно, потом бросили, потом заморозили, потом снова начали строить, потом снова остановились и так и стоят эти недострои и по сей день, щерятся черными, не застекленными провалами окон.
Добежал до забора бетонного, остановился, по сторонам глянул – туда, сюда. Сколько раз тут ходил, никогда внимания не обращал, где тут ворота, есть дыры или нет.
Рядом и слева и справа забор шел сплошняком. Да, можно под ним пролезть, но Ангел не в грязи был, не лежмя тут ползал, можно конечно и перелезть, но, опять же, не видел я на пальтишке его белых бетонных крошек. Побежал вдоль забора направо, вглядываясь в его плавно изгибающуюся плоскость – нет крупных разломов, так – щели только. В такие не то что Ангел, даже Бимка его не протиснется. На дорогу не смотрел, бежал по лужам, оскальзывался об какой-то мусор под ногами и… Врезался, глянул вперед – старушка крепенькая назад отлетела, едва не упала. Стоит кое-как. Взгляд ошалелый, да и у меня наверное не лучше.
- Простите, - выпалил, и тут же кинул на удачу, особо не веря в то, что услышу ответ, - вы тут мальчонку, беспризорника не видали. У него еще пес такой черный, лопоухий – Бимка.
- А, - она вдруг в лице переменилась, взгляд ее стал испуганным, подозрительным, - зачем он вам?
- Мы договаривались. Я его к себе взять хочу, усыновить. Он не пришел.
- Правда? – недоверчивость в ее глазах не пропала, еще и прищур стал этаким, с подковыркой. Мол брешешь ты, друг ситцевый.
- Правда. У него котенок есть, и папиросами он торгует, очень любит пирожки с ливером, как мама делала, - сбивчиво я стал перечислять все, что о нем знал, - а пирожки у тети Иры за двенадцать рублей берет, пес Бим, котенок Тишка, только он еще маленький, с ним не ходит и…
- Он тут, вон там, - она улыбнулась, - дальше. Там дыра, она щитом заколочена. Он отодвигается. Он там. Я не знаю где точно, но, наверное, не далеко. Вроде он в подвале каком-то…
- Спасибо!
И снова вперед. А вот и дыра обещанная, прикрытая древним, с ржавыми гвоздями, поддоном. В сторону его!
Влез в щель, разорвав рукав об торчащую из забора арматурину, и остановился, озираясь.
Куда мне? Огромный, раскатанный пустырь. То там, то здесь штабелями плиты выложены, поддоны с красным кирпичом под саваном рваным полиэтиленовым, глубокие следы гусениц в сырой, но не потерявшей форму, грязи. Куда?
Глянул под ноги в поисках следов – много их тут, видать немало народу знает о лазейке, вот и наведываются кто зачем.: кто побухать вдалеке от дома, кто для дома для семьи стройматериалами разжиться, а кто и на ПМЖ тут проходит.
Вот! Собачий след наполовину перекрытый отпечатком рифленой подошвы здорового ботинка. Туда!
Побежал по грязи, оскальзываясь, вглядываясь в наполовину раскисшие после вчерашнего ливня следы, хотя нет, прошел то он здесь после ливня, значит попросту они оплыли за ночь, стали почти неразличимыми.
Вот, сворачивают за угол одного долгостроя, и я за ними, мимо бетонного, без перил еще крыльца подъездного, и дальше, мимо наваленных, въевшихся уже желтой плотью своей в здешнюю грязь куч песка, отвалов щебня. Следы шли то явно различимые – цепочкой, то пропадали вовсе и я тогда метался из стороны в сторону, как ищейка, потерявшая след. Вот здоровый кусок строительной площадки пересыпанный гореликом – куда здесь? Куда! И как назло на перекрестке – меж четырех домов-коробок. Побежал в одну сторону, остановился на краю горелика, уставился в грязь – нет нужных следов, побежал в другую сторону – туда глянул. Не видно ничего, только лужа огромная разлилась почти от дома до дома. По ней что ли прошлепал? Может да, может и нет. На третью сторону рванул…
- Мужик, ты чего тут мечешься? – с недостроенного крыльца осоловелым взглядом смотрел на меня дородный пьяный мужик. Огромные его красные ручищи, будто не чуя холода, были оголены до локтей, открывая на мощных окороках неумелую вязь татуировок. То ли армейских, то ли с зоны он их принес – никогда я в этом не разбирался. Разглядел только бюст женский любовно вырисованный с неумело же отрисованной головой длинноволосой над ним.
- Мальчика тут не видели? С щенком он ходит.
- Эй, народ! – рявкнул он в черный провал подъезда бездверного, - пацана не видали, с щенком.
Из тьмы на свет потянулся «народ» - синяки конкретные, что называется – «рвань». Я чуть испугался, когда среди прочих увидел того, вчерашнего, что просил одолжить денег на чекушку.
- Кого? – спросил тощий, щурящийся от света мужиченка с увесистым, свернутым на сторону носом.
- Мальчика, - выпалил я, - лет семь, у него щенок типа спаниеля такой – ушастый, черный.
- У тебя курить есть? – спросил другой, как раз тот, вчерашний. Был он, как и вчера, в заляпанной тельняшке, поверх которой накинута была непонятного цвета ветровка, - Ну? Че вылупился? Есть курить? Видали мы твоего шкета, каждый день тут отирается со своим Бимкой.
Я подошел, остановился на безопасном расстоянии, спросил:
- Где?
- Да тама он, - мужик ткнул сбитым кулаком с оттопыренным пальцем в сторону разлившейся лужи, - вон тама, вишь, кочегарка старая? – я оглянулся, кивнул, - Там он трется.
Вроде все верно выходит: найти древние совдеповские папиросы в новостройках – это как-то неправильно, а вот в древней, всеми заброшенной котельной – уже больше на правду похоже.
- Ага, спасибо, - хотел уже рвануть туда, когда этот, вчерашний, в тельняшке, напомнил:
- Э, браток, а табачок?
- А, да, - и я, позабыв о вчерашнем нехорошем с ним разговоре – торопился, опрометчиво шагнул вперед, протянул пачку.
- Знакомые папироски. Да, паря, - и он осклабился, - Чего притих? Сегодня то на чекушку добавишь?
- Да, только я тороплюсь очень, - полез в карман, хватанул скомканные купюры, протянул ему. Тот глянул на них как-то искоса, брать не торопился, сказал своим:
- Друг то из мажористых. Но нас, ребят, не уважает. Что ты мне вчера говорил?
- Что? – попытался отступить, но он крепко ухватил меня за руку, в которой я сжимал деньги.
- Что на мели. Думал забуду? Не, Вован ничего не забывает, ты это себе на носу заруби. Или давай я те зарубку сделаю. Ага?
И он саданул меня свободной рукой под дых, а потом по лицу, а потом я упал и били меня уже все, и уже даже толком боли не чувствовал, разве что мотало во все стороны, и сил не было у рук, чтобы закрыться, спрятаться от ударов, а потом…
* * *
Где-то вдалеке нудно лаяла собака, мешала спать. Все болело, будто я простыл, и кости ломило – ватная боль. И мутило нестерпимо. Где же я так нажрался? Холодно. Очень холодно. Медленно подтянул колени к подбородку, медленно обхватил их руками, и снова попытался уснуть. Почему же все так болит и ноет, и собака еще эта треклятая…
Звуки накатывали, холод становился сильнее и сильнее и боль – боль стала черной, жгучей. Я застонал, очнулся.
Собака лаяла под самым ухом, в шаге, а больно мне не с похмелья и холодно мне не из-за того, что сползло одеяло. Открыл глаза. Не просто мне это далось – глаза заплыли, слиплись сухой корочкой сукровицы. Темно – ночь уже. Луна светит, на луже той громадной отражается белой мертвенной монетой на черном. И Бим рядом то на лай исходит, то отступает, то снова ко мне и заливается.
Застонал, очень хрипло вышло, с клекотом. За что же так, и без того все отдал. Ну поучили бы вежливости чуть, но не так же… Скорую надо. Сам не встану. Что же так больно то. Телефон.
Медленно, больно, до испарины больно, полез за телефоном в карман – нет, перевалился, аж дыханье оборвалось, когда бок болью зашелся – в другой карман. Забрали. А чего ждать то? Само собой забрали. Удивительно было бы, если бы оставили.
Бим лез мне в лицо, лизал мокрым горячим языком щеки, нос, лоб.
- Отстань, - не узнал своего голоса.
Попытался встать, тут же замутило, подкатила тошнота, хорошо хоть натощак на поиски отправился, вываляться в собственной блевотине еще не хватало. Встал. Руки тряслись, ноги тряслись, вес ливер словно подпрыгивал. Тошнота дикая.
Бим побежал впереди, то и дело оглядываясь, возвращаясь, лаял. Я кое-как плелся за ним. Идти и вправду пришлось через лужу. Промок основательно. Все думалось мне, что вот расхожусь, и дальше легче будет, но легче все не становилось и не становилось. И каждый последующий шаг был хуже, больнее предыдущего.
Чуть не упал в лужу, оскользнулся то ли на обломке кирпича, то ли еще на чем. Перебрался. Дальше поплелся к этой заброшенной котельной. Была она черна и разве что контуром прорисовывалась на фоне темно-синего неба – ни толики света, ни проблеска. Как он там – в темноте.
Шатало. Бесило, когда в фильмах показывали убегающего да израненного «от первого лица» и камера в этих сценах шаталась из стороны в сторону со страшной силой – зачем мотать то так, аж до блевотины, а тут… Вот оно как на самом то деле. Не так уж и не правы эти доморощенные режиссеры.
Я брел к едва вырисовывающемуся на общем темном фоне входу напрямую, но Бим вдруг свернул в сторону – пропал. Я замер на месте, оперся руками об колени, чтобы хоть как-то перевести дух. Куда же он пропал. Гавкнул, глянул в сторону, почему же он черный то? Толком и не разглядеть его в ночи. Вон он.
Пошел туда. Сил оставалось совсем чуть: ноги двигались нехотя, ливер просто заходился во мне, в груди будто меха вместо легких – на ребра давят, сердце ухает.
Добрел до места, откуда он лаял – кусты. Чудом оставшиеся на этом сплошь выкатанном, выдранном пустыре. Еще и досками тут все завалено, кучи битого кирпича натасканы – ноги бы не переломать.
Пробрался через завалы кое-как, хватаясь то за то, то за это, все руки сбил, иззанозил, влез в кусты, а там, за ветвями, чуть прочерченный контур люка повыше земли. Уголь сюда засыпали что ли, когда котельная работала? Тьма там, внутри, непроглядная.
Достал зажигалку, чиркнул, вспыхнул огонек и тут же погас под дуновением ветра. Склонился пониже, ладонью зажигалку прикрыл, снова чиркнул – огонек трепыхался, но не гас.
Лаз был небольшой, как раз под ребенка на корточках, а мне разве что ползти. Бим не унимался: бегал вокруг, лаял.
- Тише ты, звонок, - уселся на колени, затем медленно, все тело ломило, оперся на локти, кое-как выпростался во всю длину своего тела. Полез.
Лаз был сделан из толстой клепанной жести и, если бы не кинутый на его дно лист ДСП, то грохоту бы было! Пыхтел и полз, вот уже ни толики лунного света не пробивается снаружи, через меня, через плечи, ноги, спину – ползу и во всем теле каждый рывок отдается то рвущей, то тянущей болью. И хорошо, наверное, что темно, а то бы взыграла клаустрофобия, запаниковал бы. Разве что множащееся железное эхо от дыхания и движений давило на мозги, все казалось, что проход сужается и в скорости я повторю горестную неудачу Вини Пуха. Спереди иногда раздавался лай Бимка, превращенный эхом в лай своры собак.
- Ползу я, ползу, - повторял я каждый раз, сипел и кряхтел дальше. Мне казалось, что ползу я уже очень долго, вот только на самом деле одолел, наверное, по склону этому, метров семь – десять. Вот уже эхо откатилось назад, а впереди гулкость большого непроглядного пространства. И я шарю впереди руками – вот он, край, и он, край этот, наверное высоко над землей, над полом подвальным. Так мне кажется остатками логики. И тянет оттуда, из помещения подвального, пылью, застарелой гарью, а вот сыростью – ничуть.
Подтянулся на руках к «обрыву», чиркнул зажигалкой и увидел пол почти перед глазами. Ну да, а иначе совсем глупо вышло бы – Бим бы как запрыгнул? Да и слезать тоже – то еще удовольствие.
Выполз, хотел усесться, подняться, но вместо этого на спину перевернулся, во мрак уставился. Сил двигаться не было. И снова лаял Бим, я чувствовал его горячее дыхание у себя на лице, морщился от звонкого его зова.
- Да сейчас встану. Дай подышать. Сейчас, - глаза закрывались.
Где-то совсем далеко от меня уже были мысли о малыше Ангеле, будто и не мои то мысли были. Я помнил только об одном – зачем то мне надо идти, ползти, тянуться на корячках за этим чертовым псом, потому как иначе не даст он мне покоя и вот потом, когда я доберусь куда-то…
Кое-как снова перевалился на живот. Дрожащими руками в холодный пол бетонный уперся, но сил усесться, подняться – не было. Мутило почти до беспамятства. Вроде даже рвало, а может и нет. Все в тумане, и мрак еще этот – глаз нет, времени нет, только лай и холод бетона, будто через вату ощущаемый. А еще казалось, будто в лай еще примешивается чье-то уханье, будто совиное, или еще какое – кашель тяжелый.
На ноги поднялся и по стеночке, в след за редким лаем эхатым, за уханьем кашляющим. Шаг за шагом, по шершавой кладке пальцами глазами. Шаг… шаг… шаг… и еще, и еще, не помню – адов бесконечный то ли лабиринт, то ли тоннель. Были ли повороты – не знаю, но вот впереди будто кто золотым песком, взвесью просыпал, а может и кажется мне… Ближе, ближе – там трепещущий свет, будто от язычка пламени – мотылек на привязи фитиля.
- Бим, - то ли послышалось, то ли сам я это сказал, а то ли и вправду чей-то тихий, как шорох листьев голос.
Иду на него, бреду, и свет слепит проетые мраком глаза. Поворот за угол, в карман каменно-кирпичный, и падаю, стекаю через невысокий порожек.
Топчан непонятный, тряпьем заваленный, на ящиках из досок стол выложен, на столе пляшет огонек на оплывшем огарке свечи. Дальше, во мраке, угадывается коробка открытая, большая – папиросы? Книги стопкой у топчана. Стопкой. И тени кругом протянулись от огонька свечного, будто бритвой прорезанная граница света и тьмы.
- Ангел, - хриплю, - Ангел, ты здесь?
- И ворох на топчане движется медленно, шебаршится, и из под тряпья показывается грязная, осунувшаяся мордочка с ввалившимися глазами. И то ли от света свечи, то ли и вправду, в глазах его блеск слез стоит. И испарина на лбу.
- Кто вы? – испуг в голосе, но слабый, обессиленный совсем, мявкнуло что-то и на тряпье рядом с ним увидел маленький комочек, в калачик свернутый – вот и Тишка.
- Дядя Женя, - я улыбаюсь, я рад, что нашел его. Теперь можно закрыть глаза, уснуть, отлежаться, чтобы не болело так нутро, чтобы этот далекий ватный холод отступил наконец, растворился в пляшущем свете свечи – ее хватит еще надолго. Она успеет согреть нас, излечить, спасти. Мотылек из детского ночника – он волшебный. Вместе с ним я ждал деда мороза в новогоднюю ночь, и он шептал мне желтыми отблесками, тихими тенями о чудесах, о волшебстве…
- Простите… я вот…. Заболел, - он улыбнулся, лучше бы не улыбался. Будто череп кожей обтянули, глаза совсем потемнели, а может просто наклонился, но увиделись мне глазницы пустые черепа.
- Я не обижаюсь. Сам дурак. Под дождем и мороженое.
Закрыл глаза. Все – я его нашел. Теперь можно отдохнуть, уснуть. Он отлежится тоже, он тоже выздоровеет и все будет очень хорошо. И будут фотографии в семейном альбоме, Бима мы научим команде «апорт» и «дай лапу», хотя… «дай лапу» он уже знает, умеет. Потом они вместе с Сережей пойдут в школу, и пускай там удивляются, что они – братья, а так не похожи друг на друга. Я попытался представить себе его в школьном костюмчике с цветами, рядом, конечно же, крутится и Бим, мы стоим на мокром, после недавнего дождя, асфальте на площадке перед школой. Народу – уйма, и Лена с Сережей тоже здесь. Я держу Ангела за руку, а он так нелепо смотрится в своей форме школьной с большим портфелем за спиной, да какой там – будто туристический рюкзак ему кто натянул! Я смотрю на директрису – дородная, крепкая женщина. Она говорит ласково, но строго, ее слушают затаив дыхание. Сегодня важный день. Сегодня для них грандиозное событие – первый звонок, первый урок, в первый раз вдохнуть этот особенный запах школьных кабинетов, где и аромат улицы от приоткрытых окон и не до конца выветрившийся запах свежей краски от зеленых парт и едва ощутимый, но все же чувствуется полувкус, полупыль, полущекотка в носу от легкой меловой пыли, что была тут всегда и всегда будет, пока есть эта школа, пока стоят эти стены. И прилипший, приникшей ладонью своей пятипалой - кленовый лист к окну. Я слушаю директрису и тоже радуюсь вместе с детьми своими, с женой, волосы взлохмачиваю Ангелу, а тот смотрит на меня, хмурится недовольно – ведь мы так готовились? Наглаживали, причесывали его, он должен быть опрятным и ухоженным в этот день. И костюмчик, и рубашка белая и это так идущая ему бабочка, и штанишки отутюженные до остроты стрелок и…Я натыкаюсь взглядом на разношенные, истоптанные ботинки… и ветер холодный тут же, и знобит, так что зуб на зуб не попадает. Издалека, из неведома, до меня доносится слабый сиплый голос, слов не разобрать, и вроде трясет меня кто, но я не хочу туда. Я хочу остаться на этой площадке перед крыльцом школы, услышать аплодисменты детворы, увидеть, как Ангел и Сережа подарят букеты своей первой учительнице.
- Дядь Жень, - голос пробился через морок, и все вернулось ко мне в полной мере: боль, холод, муть, - дядь Жень, вы меня слышите?
Разлепил глаза, лик Ангела передо мной – лицо в тени, кудряшки волос сзади подсвечены свечой – будто нимб вознесся на его макушкой вихратой.
- Ангел, скажи, - я улыбнулся, отчего тонко и больно треснула губа, - почему ты Ангел.
- Что с вами, дядь Жень?
- Ничего. Все хорошо. Мне полежать надо и все пройдет, - от такой длинной фразы в горле пересохло, и я зашелся кашлем. Малыш тоже вдруг закашлял глухо, тяжело, надсадно, почти до рвоты, слезы по щекам его скользнули, - ты то как?
- Пойдемте в кровать, там теплее.
Он слабыми своими, немощными силами попытался потянуть меня, на ноги поставить. Переборол себя, бессилие свое и апатию, поднялся и опираясь на Ангела до топчана добрался. Медленно, как старик, опустился в разворошенное тряпье, улегся, вытянулся. Он меня накрыл чем-то, вроде старой фуфайкой, из которой внутренностями торчала сально-желтая вата. Положил мне на грудь Тишку и тот покорно скрутился на мне калачиком, заурчал.
- Вы только его не сгоняйте. Обещаете?
- Обещаю, - улыбнулся. Он попытался отвернуться, убежать поскорее куда-то, но я поймал его за руку.
- Ты Ангел? Я не про имя.
- Вы бредите, дядь Жень.
- Ангел, - отпустил, рука безвольно упала в тряпье, - Спасибо, что ты есть такой.
- Вы только не засыпайте. Скоро. Старайтесь не уснуть. Пожалуйста.
- Я постараюсь. Правда.
И он умчался, загремело железо лаза где-то там, в отдалении. Убежал.
Я старался не засыпать. Обещал. Смотрел на мельтешащие по стенам тени, слушал, как урчит у меня на груди Тишка. Бим, немного побродив вдоль топчана, запрыгнул ко мне, улегся, подсунув лобастую голову мне под руку.
И ничего, что я не пойми где, не пойми какой – так тепло, на душе тепло. Так давно уже не было. В огоньке свечи видел отблески глаз Бима, он смотрел на меня, изредка двигал мохнатыми бровями – умная псина. Такого маленького друга-брата мне не хватало, сейчас я это почувствовал особенно остро. Но ничего – теперь это и мой Бимка тоже. Тишка у меня на груди развернулся, потянулся, зевнул показав острые зубки, небо светлое. И ты тоже теперь мой, нет – ты теперь наш.
Тихо тут, под землей, непривычно тихо. Там, наверху, даже если все окна закрыты, слышится-чувствуется гул машин, скрипят половицы у соседей наверху, журчит вода, капает. А тут тишина абсолютная. И тепло. Очень тепло. Даже жарко. И хочется скинуть с себя фуфайку эту горячую, но сил нет, и не хочется, наверное, уже толком даже двигаться, а хочется глаза закрыть. Что изменится от того, что я закрою глаза и подожду его так, я же не сплю… не сплю…
Толкают. Надо снова открывать глаза и что-то говорить, но глаза не открываются, бурчу что-то сквозь сон. Вонь в нос ударила, открыл таки глаза – ангелы что ли? В белом, суетятся, а за ними маленький, неприметный, испуганный младший их брат замарашка – Ангел. Мой Ангел.
- Как себя чувствуете? – надо мной склонилась белокурая красавица.
- Не очень.
- Что случилось?
- По… побили.
- Как зовут?
- Евгений Валентинович Гросс.
- Где живете?
- Там, - зачем то руку попытался поднять – ватный весь, а внутри вместо мышц и костей гулкая резина черная, - на Победе, - язык заплетался, - дом шесть, квартира… - я вроде говорил что-то. Вроде даже телефон – цифры какие-то. Может свой, а может и нет. Потом меня несли, а Ангел держал за руку, кашлял натужно , и постоянно просил прощения. Светили фонариками, елозили жирные белые светляки по стенам, по потоку надо мной закопченному, потом вышли почти на свет, где через пыльные окна светила луна. Там были МЧСовцы в своих огромных робах, большая железная дверь изрезанная – развороченная. Вскрывали. Потом холодно, улица, машина. Едем. Я и малыш рядом, а я все боюсь, ведь не взяли в машину ни Бима, ни Тишку – вдруг убегут, потеряются.
А Ангел говорит, и гладит, и прикосновения его греют не жаром злым, а теплом, и будто легче от них становится. Ангел – это мой Ангел. Пока он рядом – все будет хорошо. Он меня вытащил из бутылки, он вернул меня обратно, в жизнь, к жене, он вернул меня к сыну. Это мой Ангел. Он свят, и светел, и…
Я услышал его тихое «Прости», сквозь туманную пелену белую, увидел как белокурая красавица тянет его от меня. Зачем?
Глупо. Не надо забирать. И «прости»… за что прощать? Святой мой. За спасения не прощают… благодарят…
* * *
Ночной больничный коридор. Длинный и пустой. Истертый линолеум, на котором почти не угадывается рисунок. Лена бежит по нему, эхом бьется стук ее каблучков об стены. Поворот, и снова коридор, снова двери, только тут есть кто-то: сидит маленький, взъерошенный мальчуган в грязном тряпье на лавочке больничной. Голова опущена, слезы утирает.
Лена остановилась на секунду, а потом подбежала, замерла, боясь спросить, боясь сказать. Смотрела на него. Малыш не повернул головы, носом шмыгнул и сипато, совсем не подходящим возрасту своему, голосом, сказал:
- Сказали ждать.
- Где он?
- В операционной.
- Что, - проглотила подступивший к горлу ком, - что с ним?
- Его избили. Сильно.
- Пьяный, - закусила губу, - опять...
- Не говорите так, - он глянул на нее исподлобья, - он не пьет. Он бросил!
- Прости, - села рядом, уткнулась лицом в ладони. Слезы она едва сдерживала. Сейчас нельзя реветь. Нельзя. Все будет хорошо, обязательно все должно быть хорошо.
- Все будет хорошо, - отражением ее мыслей сказал малыш.
И тут она не удержалась, обхватила его, расплакалась, а он неуклюже гладил ее по голове грязной рукой, и повторял то, что она и сама пыталась думать, раз за разом повторяла у себя в голове?
- Все будет хорошо. Ему помогут.
- Елена Владимировна, - холодно и громко прозвучал голос. Они вздрогнули, притихли.
- Да, - отерла слезы ладонями, - я.
Встала, шагнула вперед. Хирург – огромный, широкий мужчина с крупными могучими руками казался маленьким, скомканным, прятал глаза.
- Елена Владимировна, - он все же посмотрел ей в глаза и уже тихо, сказал, - примите мои соболезнования…
Не было хорошо. Не случилось. Не сбылось. И было это нечестно, потому что бросил пить, потому что, вдруг, очеловечился, потому что любовь и ребенок плакал, когда они расставались, и все ждал, все спрашивал ее, когда папа приедет, когда к папе поедут – все это не честно, и все это неправильно. Вернулась на место, села, а в глазах нет слез, и в голове пустота, и нет рядом никого. Малыш пропал – исчез. Все.
А потом вдруг разом осознанье, что это его – Жени не стало. Его, которого любила, с кем они смеялись, когда купали совсем маленького еще Сережу и тот смешно пучил глаза, когда опускали его в теплую воду. Не стало Жени. И сердце зашлось, и дышать тяжело стало.
* * *
Воскресный полдень. За окном на прощанье жарит вовсю солнце бабьего лета, и снова, будто вернулись жаркие летние дни. Лена на кухне – готовит.
На кухне жарко от жарящихся блинов, от раскочегаренной конфорки, душно и вкусно от запаха масла.. Сережа в зале смотрит мультфильмы, но скучно, без интереса – он вообще грустный в последние дни, но это и понятно. Она старается лишний раз не лезть к нему, прощает внезапные крики, случайные истерики, сама старается тоже плакать поменьше, но это днем, а вот ночами на нее, бывает, накатывает. И да, конечно же они вернулись от мамы домой, хоть та и говорила, что поживите еще у меня, пока не полегчает, но… Если не возвращаться, то и не привыкнешь. Переступишь через порог и все вернется сызнова и снова будут воспоминанья, снова будут слезы. Лучше вот так – сразу, чтобы не проходить дважды через одну и ту же боль.
В дверь позвонили. Наскоро убрала сковородку с плиты, выключила газ. Пошла открывать.
Глянула в глазок и замерла. По ту сторону двери стоял Ангел. Был он худ, глаза ввалившиеся, остро очерчены кости черепа, на лице ни капли румянца – будто после тяжелой болезни. На руках у него был котенок. Она не двигалась, и чумазый Ангел за дверью тоже не двигался. Ждал.
Он вновь потянулся к звонку, но остановил руку на полпути. И в этот момент она ясно поняла, что если он сейчас уйдет, то не придет больше никогда. Он опустил руку, погладил котенка, развернулся, пошел прочь. Черным пятном рядом с его ногами скользнул к лестнице большенький лопоухий щенок. Она слышала тяжелые пустые шаги его не по размеру огромных ботинок об ступени и… Быстро повернула ручку замка, распахнула дверь, крикнула:
- Ангел!
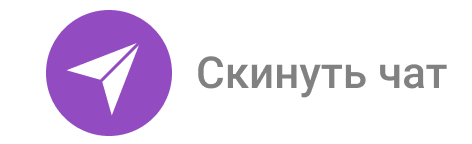

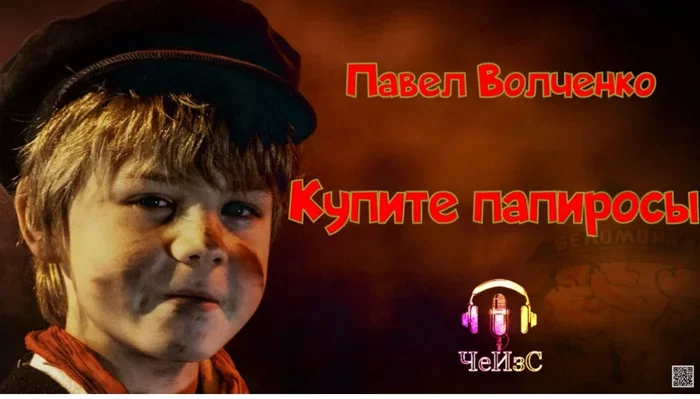
Авторские истории
34.6K постов27.2K подписчиков
Правила сообщества
Авторские тексты с тегом моё. Только тексты, ничего лишнего
Рассказы 18+ в сообществе
1. Мы публикуем реальные или выдуманные истории с художественной или литературной обработкой. В основе поста должен быть текст. Рассказы в формате видео и аудио будут вынесены в общую ленту.
2. Вы можете описать рассказанную вам историю, но текст должны писать сами. Тег "мое" обязателен.
3. Комментарии не по теме будут скрываться из сообщества, комментарии с неконструктивной критикой будут скрыты, а их авторы добавлены в игнор-лист.
4. Сообщество - не место для выражения ваших политических взглядов.