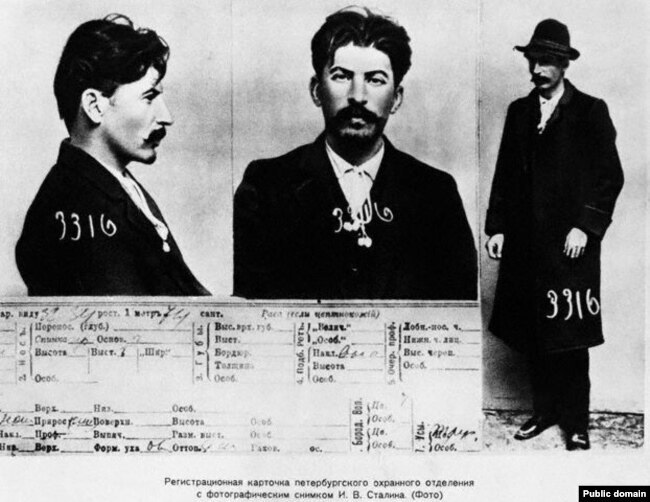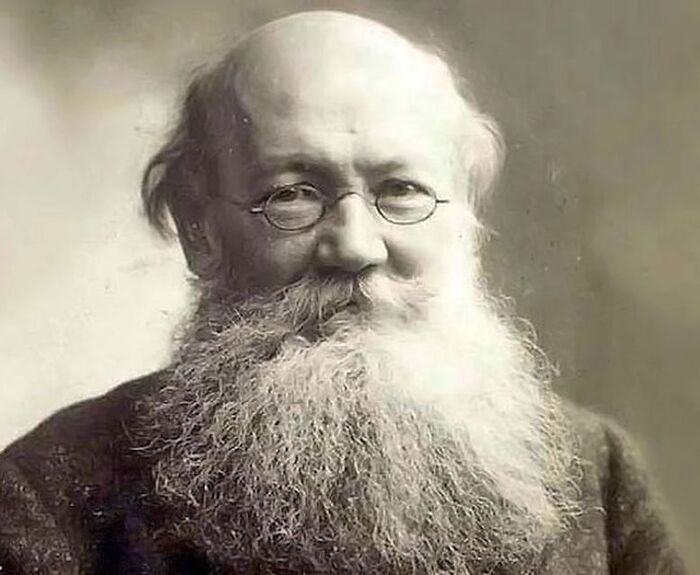О золоте
С золотом, нынче, бардак, конечно, но попробуем взглянуть на него не только с привычной современнику ювелирной или экономико-накопительной т.з., но и с позиции истории образования.
Золотая медаль РСФСР. Вообще, изначально медаль чеканилась в 16 вариантах (15 привычных "сестёр" и Карело-Финская, которая в 1956 вошла в РСФСР): у каждой Республики - свой герб на реверсе, на аверсе используются национальные языки.
27 августа 1959 года Правительство СССР издало Постановление № 1025 «О награждении медалями оканчивающих средние общеобразовательные школы». Сам этот документ нередко позиционируется едва ли не в качестве основополагающей вехи в этом полезном во всех отношениях начинании. Хотя на самом деле ситуация с этим хрущевским постановлением (Никита Сергеевич как раз занимал кроме поста Первого секретаря ЦК КПСС еще и должность Председателя Совета Министров СССР) обстоит, что называется, с точностью до наоборот. К счастью, в смысле не полного упразднения школьных золотых (и серебряных) медалей, а максимального выхолащивания изначально заложенного в них содержания.
Принятый в 1828 году «Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского» впервые для Империи утвердил правила и условия награждения лучших выпускников гимназий. Устав несколько раз изменялся, но, как видно из названия Устава, награда не была и так и не стала, собственно, общегосударственной. После 1917 не выдавалась, а вместе с отменой Устава (упразднен декретом ВЦИК от 16 октября 1918 г.) официально была отменена и медаль.
Впервые же эти награды лучшим школьникам всего СССР были вновь введены Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «Об утверждении положения о золотой и серебряной медалях и образцов аттестата зрелости для оканчивающих среднюю школу», № 1247, 30 мая 1945 года. Принципиальное решение на этот счет было принято еще 22 июня 1944 г. — в рамках куда более широких общесоюзных реформ образования, коснувшихся, в частности, системы оценок, — когда во всех школах и ВУЗах страны была введена четкая пятибалльная система. До этого в данной области царил некоторый разнобой, где, в зависимости от образовательного учреждения, могла применяться и 5-ти, и 10-ти, и 12-ти бальная система отметок. Существовала даже система «бесцифровая» на манер оценивания поведения школьников или экзаменационных отметок студентов — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Не менее важным было и наведение порядка в правилах приема выпускников школ в ВУЗы, до этого менявшихся едва ли не ежегодно. Например, с 1936 г. для этого необходимо было иметь среднее образование и сдать вступительные экзамены хотя бы на «тройки». С началом войны, в ее первые, самые тяжелые месяцы, на фронт пришлось призвать и очень многих студентов-мужчин. Тогда сидеть за студенческой скамьей разрешили уже просто всем желающим выпускникам средних школ — даже без сдачи вступительной сессии. И лишь с июня 1944, когда ситуация в стране более-менее стабилизировалась — вступительные экзамены для абитуриентов вновь были восстановлены. Соответственно, появился и конкурс для последних, если число поступающих в тот или иной популярный институт или университет превышало число мест на первом курсе. Тем не менее, в качестве важной льготы для тех самых «золотых медалистов», получивших в аттестате «пятерки» по всем предметам, прежнее положение о поступлении без экзаменов для окончивших школу, было сохранено. При этом по таким дисциплинам, которые требуют некоторых особых талантов, - пение, физкультура и даже начальная военная подготовка(!) - им разрешалось «пятерок» и не иметь.
«Серебро» давали и при наличии 3 четверок, а обладатели таких медалей сдавали в понравившийся ВУЗ один экзамен. Кстати, вовсе не обязательно «на отлично» — достаточно было хотя бы не получить «неуд». Интересно заметить, что такое положение вещей существовало при «тиране Сталине» и в первые годы после его смерти. А вот при «добряке Брежневе» в 1968 г. «серебряные медали» вообще были упразднены (до 1985-го), — а прежние льготы «золотых» медалистов были существенно урезаны. Как раз до уровня прежних «серебряных призеров», и даже сильнее.
Теперь обладатель золотой медали вместо прежнего одного лишь «собеседования» должен был сдать один профилирующий экзамен — и обязательно на 5. В противном случае ему надо было для получения заветного студенческого билета пройти еще 2-3 вступительных испытания — причем набрав общий балл не ниже проходного в данной «альма-матер». Серьезно усилились требования и к школьникам-соискателям золотых медалей. Так, их работы на письменных экзаменах (обычно — математика и сочинение), после проверки школьными учителями, подлежали перепроверке минимум в районо, а то и в области! Также роковой могла стать даже не итоговая, а «четвертная» тройка в табеле успеваемости, и даже двойка за обычный урок в классном журнале.
Впрочем, особо ругать Брежнева даже как-то не хочется, особенно на фоне подхода его предшественника. Никите Сергеевичу при подготовке Постановления правительства от 27 августа 1959 г. показалось мало снижения допустимого количества «четверок» для серебряных медалистов — с прежних 3 до 2. Пункт 3 этого документа содержит просто шедевр канцелярита:
«Награжденные золотыми и серебряными медалями "За отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение" имеют преимущественное право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР при прочих равных условиях».
На деле сей «перл» означал одно — теперь ровно никаких льгот — ни по полному освобождению от вступительных экзаменов, ни по снижению их количества у медалистов не будет. А загадочное «при прочих равных условиях» подразумевало всего лишь, что в случае если медалист после школы поработает пару годиков на производстве, то после этого, при попытке поступить в ВУЗ в «льготных» категориях «целевиков» и «стажников», его медаль даст ему преимущество при равенстве баллов с не-медалистами. То есть если условный вундеркинд, мечтающий о лаврах академиков Капицы, Прохорова, Богомольца, других корифеев, захочет побыстрее начать «грызть гранит науки» — ему сперва надо будет поработать на заводе или в сельском хозяйстве. А спустя два года, когда «суровые будни прозы жизни» выветрят из головы большинство полученных в школе знаний, уже можно будет думать, как то, что из них осталось преумножать на студенческой скамье.
К тому же для медалистов-юношей существовал еще один важный момент, о котором очень редко вспоминают авторы публикаций на данную тему. Ведь в 50-х годах в СССР продолжительность полного среднего образования составляла 11 лет, да еще и в школу многие шли в 8 лет, а не 7 или 6 как сейчас. То есть «аттестат зрелости» после выпускного школьного бала получали уже формально, а часто и действительно (учитывая условия) зрелые люди — 18 лет или даже старше. И иметь возможность поработать 2 года перед поступлением в ВУЗ у подавляющего большинства юношей просто не было — в связи с получением повестки в армию. Срок службы (до середины 60-х) составлял 3 года, а на флоте - 4. Приходящие «на гражданку» «дембеля» пользовались льготами при поступлении, как и обычные «стажники» — и даже больше. Вот только сам этот «дембель» наступал в 22-23 года (при условии призыва в 19 лет). И после этого получать высшее образование еще 5-6 лет желающих оставалось не так уж много. Особенно если возмужавшие молодые люди хотели завести семью.
Единственной альтернативой многолетней задержки с началом получения высшего образования для выпускников школ была возможность попытать счастья поступая в ВУЗ «на общих основаниях». Общих с 1959 г. и для «медалистов» — без каких-либо льгот по количеству сдаваемых вступительных экзаменов. И с учетом того, что в самых популярных «альма-матер» на абитуриентов после школы выделялось порой не более 20% мест (остальные 80% предназначались для «льготников»). То есть конкурс среди вчерашних школьников был просто сумасшедший — при официальном, например, в 3,5 человека на место, мог реально быть на порядок выше.
Кто-то может сказать: «Ну и что с того — талант всегда пробьет себе дорогу». Да, и к началу 60-х школьники-отличники нередко пробивали даже вышеописанные поставленные перед ними барьеры. Но тут ведь вот какое дело. Если парень или девушка, хотя бы в старших классах, уже знают, кем они хотят быть и куда будут поступать — зачем им тогда вообще обращать внимание на непрофильные предметы? Главное — хотя бы на «троечку» их сдать, — а «на отлично» учить необходимо лишь то, что потребуется на вступительной сессии. «Технарям» — физику, химию, математику, «гуманитариям» — литературу, историю, обществоведение, иностранные языки. Нам это очень знакомо. Эдакий «пра-ЕГЭшный подход» хрущевских времен — разве что без сдачи единых формализованных тестов.
Но ведь огромным достижением реформы образования в первые годы Советской власти как раз и стала отмена чрезмерно ранней профориентации школьников, с младых ногтей «программируемых» на стезю адвокатов-историков-врачей после гимназий; инженеров, химиков, математиков после «реальных училищ»; приказчиков-купцов-бухгалтеров после «коммерческих училищ». При этом выбор профиля школы определялся, в основном, родителями и экономическими обстоятельствами. А потом выросшее чадо могло заинтересоваться совсем другой профессией, куда вход после окончания именно этого среднего учебного заведения был закрыт. Советские же школы с самого начала готовили «политехников»-универсалов. При этом, для особо одаренных по профилю детей существовали специальные школы-интернаты при ведущих ВУЗах. Ну, а не блещущие особыми талантами подростки уходили уже после 7-8 класса в ФЗУ — получать рабочие профессии. Для самых толковых из таких в 1969 году вновь ввели вечерние «рабфаки» (упразднённые с начала 1941 г. в связи с развитием системы полных средних школ и школ рабочей молодёжи) и расширили профильную заочку. Остальные же могли выбирать самый широкий спектр специальностей — от гуманитарных до технических. А чтобы учащиеся средних школ слишком рано не начинали специализацию — прежняя система льгот поощряла получение ими знаний и хороших оценок по всем предметам, что попутно сказывалось и на формировании системного мировоззрения.
После же хрущевской новации реальная ценность школьных медалей ушла — с соответствующим падением мотивации к их получению. На этом фоне отнюдь не случайностью кажется возникновение знаменитой дискуссии между «физиками» и «лириками» (кто из них нужнее) именно в том самом 1959 г., дополнительно давшей не самый адекватный ориентир молодежи, — дескать, ну зачем стремиться к гармоничному образованию, даешь специализацию! Тогда и экзамены в понравившийся ВУЗ легче сдашь — если не будешь тратить время на изучение всякой ерунды. Один из моих учителей, кстати, жёстко увязывал это с ростом числа компилятивных работ и соответствующим падением количества междисциплинарных исследований, последовавших в семидесятые, что больно сказалось и на исторической науке вообще, и на вспомогательных исторических, и на источниковедении в частности.
Кстати, почти мистическим совпадением выглядит и исчезновение после 1960 г. действительно золотых и серебряных медалей. «Тиран Сталин» считал возможным и необходимым в куда более сложные годы для страны вручать самым умным детям честно заслуженные награды из настоящих золота (15,3 грамма 583-й пробы, в 1954 пробу снизили до 375-й) и серебра (925-й пробы). Это в то время, когда страна еще не победила в страшной войне. А из золота изготовлялись даже не все боевые ордена и медали, лишь некоторые высшие полководческие, Звезда Героя и Орден Ленина. То есть самоотверженный труд самых юных граждан страны по овладению вершинами школьных знаний справедливо приравнивался к боевым и трудовым подвигам взрослых. А вот во время «борьбы с культом» стали отливать такие медали из томпака и мельхиора — лишь слегка позолоченные или посеребренные сверху. И правда, если у школьного «золота» или «серебра» отобрали его реальную ценность для обладателей, то зачем «сохранять хорошую мину при плохой игре», тратя драгоценные металлы на ничего не стоящие «бирюльки»?
Самое смешное, что хрущевская инициатива была напрочь лишена оснований даже исходя из положений доминирующей коммунистической идеологии. Широкие льготы для выходцев из рабочей и крестьянской среды для поступления в ВУЗы имели какой-то смысл в 20-х годах, когда Советская власть хотела побыстрее создать в качестве надежной опоры лояльную для себя интеллигенцию. Но уже в 40-х годах качественное среднее образование получали миллионы детей не только лиц интеллигентных профессий, но и тех же рабочих и крестьян. Отчего Сталин и принял решение перенести акцент при выборе наиболее желательных кандидатов в студенты с «социального происхождения» на личные таланты и знания.
Хрущевские «2 года стажа для поступления в ВУЗ» — это ж форменная пародия на «прививание вчерашним школьникам традиций рабочего класса и колхозного крестьянства». Настоящий рабочий класс — это квалифицированные и грамотные рабочие. Но чтобы хотя бы начать достижение такого статуса — надо минимум, для начала, профтехучилище закончить, получив специальные навыки токаря, слесаря, электрика. А сразу после школьной парты можно работать лишь на самых низкоквалифицированных работах, что куда ближе не к пролетариату, а к «люмпенам». Люмпен - «деклассированный элемент, лишенный классового сознания и солидарности», а к таким классики марксизма относились с опаской, пожалуй, всего лишь чуть меньшей, чем к крупной и мелкой буржуазии. Впрочем, если вспомнить, что товарища Хрущева многие и современники, и нынешние историки, определяют как «тайного троцкиста» (что не так, конечно: троцкисты народ идейный, в доску утилитарный и сильно вдумчивый), — описанным выше форменным извращениям и коммунистической теории, и образовательной политики удивляться не приходится.
К счастью, после того как на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Никиту Сергеевича перевели в «пенсионеры союзного значения», новое руководство СССР достаточно скоро, помимо прочих перегибов, приступило к восстановлению и нормальной ситуации со школьниками-медалистами. Золото в золотые медали, правда, до самого конца Союза так и не вернули, оставили прежний «позолоченный томпак». Ещё упразднили в 1968 г. и серебряные медали.
Однако главную идею этого института при Брежневе, надо отдать ему должное, восстановили. Воссоздав для самых умных и талантливых школьников систему ускоренных «социальных лифтов» для получения высшего образования и последующей карьеры. Не забыли и о тех, кто учился чуть похуже, — введя, например, «9-бальную систему», при которой абитуриент, сдавший два из четырех вступительных экзаменов на 5 и 4, от сдачи остальных освобождался.
А чтобы дети раньше времени не «специализировались», манкируя необходимостью прилежного изучения отдельных предметов школьной программы, в начале 70-х было введено понятие «среднего балла аттестата». Так что если получивший аттестат зрелости школьник имел там много троек, то шансов поступить в ведущие ВУЗы, где конкурс доходил до 25 баллов («пятерки» по всем четырем вступительным экзаменам — плюс средний балл аттестата тоже 5) у него просто не было. Что, конечно, серьезно стимулировало подростков лучше относиться к учебе.
Сейчас, конечно, ценность золотых медалей в российском образовании, особенно после введения ЕГЭ, значительно ниже, чем в советское время. С другой стороны, после 1991 г. и получить высшее образования стало намного легче, чем в прежние времена. И все же даже и теперь этот сияющий позолотой кругляш остается для самых талантливых детей почетной наградой, честно заслуженной напряженным трудом в школьные годы.