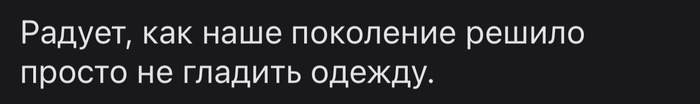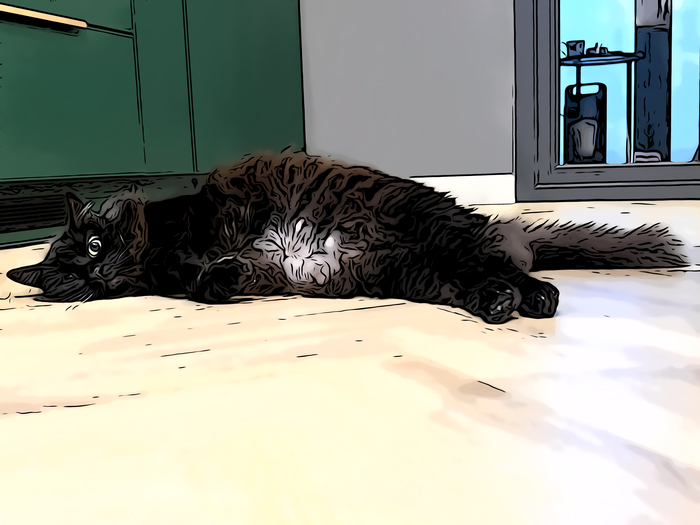Великое - Русское
Часть 2
Психология персонажей и философский подтекст
Психологизм Достоевского до сих пор поражает исследователей: как, не имея ни диплома психолога, ни даже терминологии научной, он сумел проникнуть в самые тёмные и глубины уголки человеческой души? Фридрих Ницше восхищённо называл Достоевского “единственным психологом, у которого я мог чему-то научиться”. А Зигмунд Фрейд ставил «Братьев Карамазовых» в ряд величайших творений мировой литературы, где центральный мотив отцеубийства. Каждый герой Достоевского – это целый мир, цельная личность, пусть порой и безумная. Он изображал пограничные состояния психики – бред, эпилептические припадки, маниакальные идеи – с такой достоверностью, что задолго до появления психоанализа дал их феноменологию. Его Раскольников мучительно “раздваивается”: то рациональный гордец, то жалкий, любящий сын. Его князь Мышкин испытывает эпилептическое озарение – ощущение абсолютной гармонии за секунды до припадка (это из личного опыта самого Фёдора Михайловича). Его Смердяков страдает, по сути, эпилептоидной психопатией, что толкает его на циничное убийство. А “подпольный человек” – это ранний портрет невротика-интроверта, переживающего острый кризис личности.
Достоевский первым в литературе заговорил от лица таких персонажей – ранее считавшихся “неформатными”. Он заставил нас вжиться в логику безумца (Иван Карамазов разговаривает с чертом – галлюцинация человека на грани психоза – и мы погружаемся в этот диалог, как в реальность). Он провёл читателя через кухню страстей – показал, как постепенно идея овладевает человеком, как рождается преступление в душе задолго до действия. Например, вся первая часть “Преступления и наказания” – это по сути хроника психологического созревания убийства: Раскольников то лихорадочно бредит, то холодно планирует, то колеблется, и мы проживаем с ним каждый шаг к порогу старухиной каморки. Такой психологический реализм был небывалым. До Достоевского преступник в литературе обычно либо злодей безжалостный, либо благородный разбойник. Достоевский же показал внутреннюю диалектику зла: преступник может быть и благородным, и жалким, и страшным одновременно. После убийства Раскольников страдает даже больше, чем его жертва – вот парадокс морали, открытый писателем.
В то же время Достоевский – не только тончайший психолог, но и философ-экзистенциалист в своей прозе. Его персонажи – носители идей, “идеологи” в терминологии литературоведов. Через них автор ставит глобальные философские вопросы: о существовании Бога, о смысле страдания, о целях цивилизации. Но – и это великое новаторство – эти идеи у него сцеплены с живой душой. Скажем, Иван Карамазов выносит приговор Богу (не принимает “билет” в такой мир) не от холодного умозрения, а от переизбытка сострадания – ему нестерпимо больно за страдания детей. Идея превращается у Достоевского в экзистенциальную драму. Кириллов в «Бесах» провозглашает: “Если Бога нет – я сам Бог и должен застрелиться”. И эта адская логика доводит его до самоубийства во имя идеи абсолютной свободы. Пьер Кириллов – простой инженер, но его метафизический бунт становится центральной философской осью романа. Альтернативу ему Достоевский даёт в фигуре Шатова, который утверждает: “Человек без Бога – дрянь”, и готов умереть за народную правду. Философские позиции сталкиваются на сюжетном уровне: убийство Шатова заверяет жизнью слово, которое он нёс.
Достоевский проделывает рискованный эксперимент: он как бы отпускает философские идеи в свободное плавание внутри романа, позволяя им бороться и даже приводить героев к гибели. В результате роман становится как бы философским космосом, где нет явной авторской догмы, но чувствуется присутствие какой-то высшей правды, рождающейся в жарких спорах. Как писал один критик, у Достоевского истина рождается не в голове автора, а “между” героями. Этим впоследствии восхищался Михаил Бахтин, называя романы Достоевского “диалогическими” до самого дна.
Стоит отметить и трагический оптимизм финалов Достоевского. Он редко даёт читателю облегчение в конце. Раскольников отправляется на каторгу – впереди “воскресение” души, но это лишь намёк в эпилоге, основная история кончается на его падении. В «Идиоте» смерть Настасьи и рок князя, остающегося идиотом, повергают нас в ужас – но автор не ставит точку, оставляя вопрос: что же такое “красота спасёт мир”? Спасёт ли? В «Бесах» полнейшая безысходность: самоубийства, убийства – а финал представляет образ бесноватой России. И только в «Братьях Карамазовых» в последней главе звучит светлый аккорд – Алёша обращается к детям с словами веры и памяти о хорошем. Но и там Достоевский не успел дописать последующие части – возможно, там ждали новые испытания. Таким образом, его романы как бы не дают окончательного ответа – они приглашают читателя к продолжению диалога. Мы сами должны додумать, дострадать за героев. Поэтому каждый новый поколение читателей находит в них что-то своё, дочитывает их заново.
Наконец, нельзя не упомянуть особую роль иронии и сострадания в психологизме Достоевского. Он смотрит на своих даже самых падших героев с безмерным сочувствием. Пьяница Мармеладов, в чьей развращенной душе всё же горит искра любви к дочери, говорит о себе униженно: “собака я, однока всех жалею”. И Достоевский жалеет его, и читатель, вопреки всему, тоже. Так писатель достигает величайшего нравственного влияния на читателя: содрогнувшись перед бездной греха, мы вдруг ощущаем жалость и любовь к грешнику. Это и есть по сути христианская любовь, перенесённая на страницы романа. Так Достоевский как художник выполняет свою проповедь не назиданием, а чувством, которое он пробуждает.
В итогe, романы Достоевского – это целый мир, где сочетаются реализм быта и фантастичность символа, психологическая глубина и философская высота, сарказм и молитва. Лев Толстой упрекал Достоевского, что тот будто не знает, как надо писать – нарушает все каноны. Но именно в этом нарушении родилась новая литература. Без Достоевского невозможно представить ни психологический роман XX века, ни модернистский поток сознания, ни экзистенциальную прозу. Его творчество – словно бездна, в которую глядишь, и она глядит в тебя, заставляя заглянуть в собственную душу.
Влияние на литературу, философию и психологию
Творчество Достоевского – это вулкан, извержение которого озарило весь мир. Его идеи и образы глубоко повлияли на писателей и мыслителей по всему свету. Можно без преувеличения сказать, что без Достоевского не было бы многого в духовном облике XX века. Рассмотрим лишь наиболее яркие примеры этого влияния.
Экзистенциалисты: Ницше, Камю, Сартр и другие
Фридрих Ницше, знаменитый немецкий философ, называл Достоевского одним из своих главных учителей. «Достоевский – это единственный психолог, у которого я мог чему-нибудь научиться; знакомство с ним я причисляю к счастливейшим удачам моей жизни», – признавался Ницше. Для автора концепции “сверхчеловека” и “смерти Бога” творчество русского романиста стало откровением: Ницше увидел, как глубоко можно исследовать человека, поставленного вне традиционной морали. Герои Достоевского, попробовавшие жить “по ту сторону добра и зла” (например, Кириллов или Свидригайлов), по сути, переживают ницшеанскую проверку духа – и часто не выдерживают её. Ницше высоко ценил “Записки из подполья”, где маленький человек разрушает лжеидеалы общества своей горькой свободой. Возможно, именно у Достоевского Ницше почерпнул интуицию о раздвоенности человеческого “я” и о трагедии того, кто поставил себя на место Бога. В свою очередь, последователи Ницше – экзистенциалисты XX века – тоже считали Достоевского своим предтечей. Жан-Поль Сартр прямо указывал, что именно мысль Достоевского “если Бога нет, всё позволено” лежит в основе экзистенциализма. Сартр в лекции «Экзистенциализм – это гуманизм» начинает с этой фразы: «Достоевский как-то писал, что если Бога нет, то всё позволено; и это – отправная точка экзистенциализма».
Французские философы восприняли от Достоевского главный вопрос: что делать человеку, если он абсолютно свободен и никакой высший суд ему не указ? Альбер Камю подробно разбирал в эссе «Миф о Сизифе» образ Кириллова – героя, решившего покончить с собой, чтобы провозгласить свою свободу и “стать богом”. Камю называл Кириллова “абсурдным героем”, который довёл бунт против абсурда до логического финала – самоуничтожения. Камю, однако, сам выбрал иной путь: в духе Достоевского он искал смысл в бунте во имя жизни, а не смерти. Его роман «Посторонний» во многом наследует настроения “лишних людей” Достоевского (тот же Мерсо переживает отчуждённость, сродни героям “Подполья”). Сартр в повести «Стена» и романе «Тошнота» развивал темы, поднятые Достоевским – безбожный мир, в котором человеку “тошно” от бессмысленности бытия, и он должен создать смысл сам. Даже само понятие “экзистенциального выбора” – отчаянного, абсурдного – уже было у Достоевского: вспомним ставрополкого Кириллова или решение Сонечки идти на панель ради семьи.
Интересно, что русский мыслитель Лев Шестов называл Достоевского “первым экзистенциалистом”, потому что тот ставил личный духовный опыт выше абстрактного разума. Его герои важнее его собственных убеждений – в этом и состоит экзистенциальный подход: правда субъективного переживания.
Писатели XX века: Кафка, Джойс, Мураками и другие
В мировой литературе Достоевского чтут как одного из отцов современного романа. Франц Кафка, один из столпов модернизма, ощущал с Достоевским глубокую внутреннюю связь. Биографы отмечают, что Кафка и сам происходил из семейной ситуации, отчасти напоминающей мир Карамазовых (конфликт с авторитарным отцом, чувство вины). Как и Достоевский, Кафка исследовал состояние человека перед неумолимым Судом – только у Достоевского этот суд божественный (совесть или Бог), а у Кафки – абсурдно-бюрократический (роман «Процесс»). Тем не менее, Кафка восхищался достоевской искренностью. Известно, что он читал своему другу Максу Броду вслух отрывки из романа «Подросток», причём с таким восторгом, что Брод потом писал: пятая глава этого романа сильно повлияла на стиль самого Кафки. В творениях Кафки можно увидеть тени из подпольного Петербурга: атмосфера тревоги, вины без конкретного преступления, “преступления без наказания”. Не случайно один из критиков назвал Кафку “Достоевским в обратном зеркале” – там, где Достоевский ищет спасение души, Кафка показывает беспредельную вину без искупления. Но сам факт, что Кафка “наследует вопросы” Достоевского, говорит о колоссальном влиянии.
Джеймс Джойс, новатор английского романа, тоже многому учился у русского гения. Он высоко ценил Достоевского. Джойс однажды заметил, что именно Достоевский “в большей степени, чем кто-либо, создал современную прозу и довёл её до нынешнего напряжения”. Это признание: создатель “Улисса” видел в Достоевском родоначальника глубоко психологичной, раскрепощённой формы романа. Хотя стили у них разные, обоих объединяет смелость в форме и беспощадность к действительности. В “Улиссе” Джойс применяет поток сознания, включая самые постыдные и интимные мысли героев – а Достоевский ещё в XIX веке без специального термина показал поток сознания Раскольникова или Ивана Карамазова (их бесконечные внутренние монологи, блуждания мысли). Оба писателя любили многослойные аллюзии: Джойс опирается на Гомера и мифы, а Достоевский – на Библию и Евангелие, но принцип схож: через литературные “коды” говорить о вечном. Джойс, кстати, планировал написать эссе о Достоевском, так сильна была симпатия. Можно сказать, что Достоевский подготовил почву для того “шока искусства”, которым стали модернистские романы начала XX века. Марсель Пруст, Вирджиния Вулф, Уильям Фолкнер – все они читали и любили Достоевского. Фолкнер даже утверждал, что перечитывает «Братьев Карамазовых» каждый год, считая этот роман высшим достижением литературы. Он писал, что по масштабам проникновения в тайны семьи и общества никто в Америке не создал ничего равного, кроме разве что Библии и Шекспира.
В литературе второй половины XX века присутствие Достоевского тоже ощутимо. Например, в Японии Осаму Дадзай и Юкио Мисима явно вдохновлялись его тематикой страдания и вины. Но особенно интересно влияние на популярного и современного автора – Харуки Мураками. Мураками в юности был страстным поклонником русской литературы: он читал Толстого, Гоголя, но особенно глубоко ценил Достоевского. В одном интервью Мураками признавался, что «Братья Карамазовы» произвели на него неизгладимое впечатление своей мощной энергией и психологизмом. В его собственных романах – скажем, «Кафка на пляже» или «1Q84» – можно уловить отзвуки достоевской экзистенциальной атмосферы: герои ищут смысл в абсурдном мире, сталкиваются с загадочным злом, переживают глубокое одиночество. Хотя Мураками пишет совершенно в иной манере (спокойной, минималистичной), он сам признаёт, что пытается исследовать “темноту внутри человека”, продолжая тем самым линию Достоевского. Кроме того, Мураками – как некогда Достоевский – сочетает реальность с элементами ирреального символизма, вводит мистические мотивы, чтобы выявить внутренние состояния героев. Так что нити влияния протянулись и в XXI век.
Любопытно, что почти единственный крупный писатель, относившийся к Достоевскому прохладно, – это Владимир Набоков. Он критиковал его “вульгарность” и избыточность. Однако даже Набоков признавал силу сюжетов Достоевского, называя его “великим мастером фабулы”. Так или иначе, абсолютное большинство писателей и читателей мира признают Достоевского одним из столпов мировой литературы, чьё имя стоит рядом с Шекспиром, Сервантесом, Гёте и Толстым.
Психология и психоанализ: Фрейд, Юнг и продолжатели
Ещё при жизни Достоевского поражала способность его прозрения в тайны психики. После его смерти, когда зародилась научная психология, исследователи увидели, что многое из того, что Фрейд и Юнг выкристаллизуют в теории, Достоевский уже выразил в художественных образах. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, посвятил Достоевскому специальное эссе – «Достоевский и отцеубийство» (1928). Фрейд был потрясён романом «Братья Карамазовы», где центральный конфликт – убийство отца сыном (или его косвенное желание). Он ставил этот роман в один ряд с «Царём Эдипом» Софокла и «Гамлетом» Шекспира, считая, что величайшие произведения всех времён вращаются вокруг темы убийства отца. Фрейд интерпретировал эпилепсию Достоевского как соматическое выражение глубинного чувства вины за желание смерти отцу. Он попытался “диагностировать” писателя, полагая, что тот страдал несознательным неврозом на почве Эдипова комплекса. Конечно, эти теории остаются спорными. Интереснее другое: Фрейд признавал, что анализ персонажей Достоевского ставит в тупик классический психоанализ. Он писал, что герои Достоевского столь многогранны, что нельзя объяснить их поступки одним мотивом. По словам Эрнеста Джонса, ученика Фрейда, это эссе было “самым блестящим” вкладом Фрейда в психологию искусства. Но сам Фрейд скромно называл его “пустячком, написанным по дружбе”, словно бы чувствуя, что до конца разгадать Достоевского ему не удалось. Более того, в кругах психоаналитиков существует мнение, что метод Фрейда неприменим к достоевским характерам, потому что в них слишком много метафизического, выходящего за рамки чисто сексуально-биологических драйвов. Недаром литературоведы шутят: “Фрейд читал Достоевского по Фрейду, но Достоевский куда глубже Фрейда”.
Карл Юнг, основатель аналитической психологии, напрямую о Достоевском писал мало, но его идеи архетипов и тени созвучны многому в творчестве русского писателя. Юнг считал, что для понимания души нужно смотреть на мифологические и религиозные символы, которые проявляются в снах и фантазиях. А Достоевский, как мы видели, наполнил свои произведения именно такими символами и сновидениями, которые можно рассматривать как проявления коллективного бессознательного. В каждом крупном герое Достоевского психоаналитики находят архетипические черты: Кириллов – архетип Бунтаря и Самоубийцы, Мышкин – архетип Святости и Божественного Дурака, Иван Карамазов – архетип Прометея (титанического разума, бросившего вызов небу), Смердяков – воплощение архетипа Тени (отрицательных, подавленных качеств семьи Карамазовых). Юнг говорил, что для целостности личности человеку надо осознать свою Тень – темные стороны психики. Достоевский как художник именно это и делал: вытаскивал на свет тени человеческой души – грязные, мерзкие, запретные желания, от которых отмахивалась “пристойная” литература. В этом смысле он был великим исследователем бессознательного, хотя и не пользующимся научным языком.
Не случайно позднее многие психологи и психиатры обращались к его произведениям как к учебнику. Например, русский психиатр Владимир Бехтерев писал, что в “Братьях Карамазовых” дан классический случай эпилепсии и раздвоения личности. Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, утверждал, что “Записки из подполья” – хрестоматия невроза навязчивости. А Виктор Франкл, создатель логотерапии, любил цитировать Достоевского: “Человек есть существо, которое ко всему привыкает”, говоря о выживании в концлагере. Даже доктора-форензисты (специалисты по судебной психиатрии) изучают у Достоевского мотивировки преступлений и раскаяний.
Влияние Достоевского на психологию можно проследить и в том, как Фрейд с соратниками развили понятия вина, садомазохизм, эдипов комплекс – ведь почву им подготовили литературные образы Свидригайловых, Карамазовых, которым свойственны подсознательные влечения к смерти или к инцестуозной любви (вспомним сложные чувства Дмитрия к Грушеньке, замешанные на образе матери, и пр.). Юнгianцы же любят анализировать сны героев Достоевского, считая их примерами универсальных символов. Скажем, сон Раскольникова о лошади – для Юнга это архетип жертвы, умирающего бога, а старуха-паутина – архетип инфернальной матери. Такие интерпретации показывают, насколько глубоко в бессознательное проникло перо писателя.
Современные психотерапевты тоже нередко обращаются к Достоевскому. Его понимание переживаний человека, стоящего перед выбором жизни или смерти, отчаяния или надежды, остается актуальным. Например, при работе с суицидальными пациентами психолог может вспомнить Кириллова и показать, что решение уйти – это тоже выбор, который поддается осмыслению, а не просто слепый тупик. А идеи Достоевского о целительной силе страдания вдохновили Франкла и других экзистенциальных терапевтов: они говорят о нахождении смысла даже в страдании – не то ли самое делал Соня Мармеладова, помогая Раскольникову найти смысл в покаянии?
Даже в нейрофизиологии есть интерес: известно, что Достоевский страдал эпилепсией, причём особой ее формой (так называемая эпилепсия Достоевского или идеаторная аура, когда перед приступом наступает миг экстаза). Современные исследования мозга подтверждают описанное им состояние: перед эпилептическим разрядом некоторые пациенты переживают всплеск нейронной активности в областях, отвечающих за эмоции, что субъективно ощущается как экстатическое озарение – ровно как у князя Мышкина в момент “солнца, которого нет ни у одного художника”. Таким образом, Достоевский оставил след даже в медицинских описаниях болезней.
Подводя итог: Достоевский расширил границы познания человека. Писатели последующих эпох шли по его стопам в раскрытии души; философы рассматривали его героев как живые эксперименты своих идей; психологи изучали его произведения как энциклопедию патологий и чудес человеческой психики. Его влияние пронизывает культуру подобно подземной реке: не всегда на поверхности, но питающей многие ростки.
Напоследок – штрих из воспоминаний современника: на похоронах Достоевского в 1881 году в Санкт-Петербурге собрались десятки тысяч людей – от аристократов до нищих. Гроб несли студенты, рыдая, женщины протягивали детей “показать Достоевскому”. Грандиозная процессия словно воплотила ту самую “соборность”, о которой мечтал писатель: весь народ, единый в горе и любви, провожал своего пророка. “Они помогли ей осознать, ЧЬЯ она дочь, КТО был её отец”, – писали о впечатлительной дочери Любе, потрясённой увиденным. Величие духа Достоевского наконец стало явным для всех. Прошли годы, минул век – а мы всё так же слышим многоголосие его страниц, спорим с его героями, ищем ответы в его мудрости. Эмоциональный, мучительный и светлый мир Достоевского продолжает жить в нас. И, быть может, в часы сомнений мы тоже повторяем про себя его заветное: “Все равно я остаюсь с Христом”, а в часы испытаний – “быть человеком между людьми и не падать – вот в чем жизнь”. Именно за эту правду души Фёдора Михайловича Достоевского и любят во всём мире – как писателя, философа и тайного психотерапевта человеческого сердца.