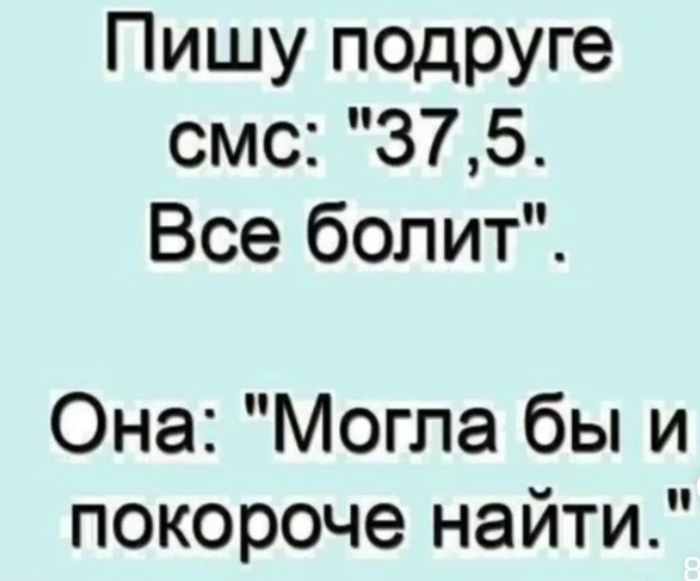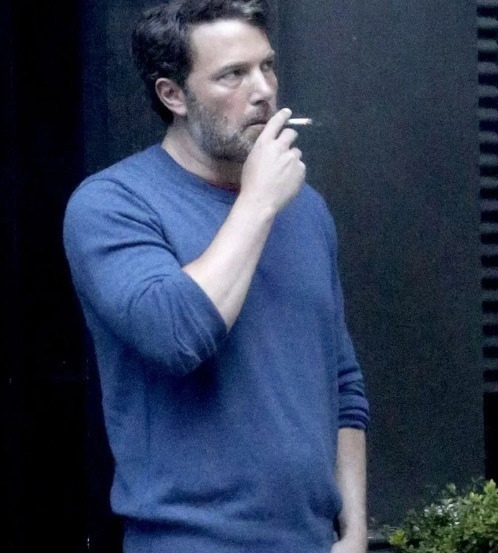Экстремально сложный непроизвольный тип изложения
Я заметил за собой такое, что я могу даже простейшую мысль начать разворачивать экстремально сложно. Чтобы понимать суть, я отмечу, что когда я сдавал в школе итоговое сочинение, там надо было написать 150 слов за 4 часа. Максимума не было. Я написал 980 слов за 40 минут, при том что я старался писать максимально кратко. Этот пост сокращён максимально. Хотел спросить, есть ли у кого похожее?
Недавно своей подруге я отправлял длинное сообщение. Просто много чего надо было расписать. Я писал, писал, писал мысль и решил проверить что вышло - вышло 70 000 символов. Я сразу же побежал сокращать всё, что можно, и у меня вышло 10 000. При этом я потратил на это буквально пару часов.
Собственно, мне приходится стирать длинную мысль и писать более коротко, чтобы собеседник мог вообще воспринять то, о чём я пишу. Как раз по этому поводу я вам покажу две версии одной и той же мысли. Первое - что я отправил другу, второе - как оно было изначально.
У меня есть такая особенность – я держу общение в определённых рамках. Суть в том, что у меня произвольно может увеличиваться сложность или глубина сообщения. Я стараюсь удерживаться в пределах, не уходя в экстремально сложные концепции.
Текст на 70 000 символов это подтверждает. Условно, я могу (в гипотетическом смысле, а не в том, что я действительно так пишу и стираю) написать по теме разговора 500 000 символов в ответ. Однако это будет экстремально сложная для восприятия концепция.
Изначальная мысль:
Я осознаю, что моя манера общения и построения текста основана на градуированном контроле сложности изложения. Это не просто выбор слов или структурирование предложений, а осмысленный процесс, в котором я балансирую между глубиной анализа и доступностью восприятия. В этом смысле каждый диалог или текстовый фрагмент - это своеобразный управляемый поток информации, который я настраиваю в зависимости от контекста, собеседника и самой темы. Мне не просто важно донести мысль, но и сделать это таким образом, чтобы она не терялась в избыточных деталях и не упрощалась до банальности.
Я могу представить, что в гипотетической ситуации, если бы не существовало никаких ограничений по объёму или сложности, я бы мог разворачивать свои мысли до сотен тысяч символов в ответ на один вопрос. Это не преувеличение, а реальная возможность, поскольку глубина анализа - это всего лишь функция времени и структуры мышления. Однако я осознаю, что такой объём информации выходит за границы не только восприятия собеседника, но и эффективности коммуникации. Дело не только в том, чтобы сказать максимум возможного, но и в том, чтобы структурировать информацию так, чтобы она оставалась функциональной. В противном случае она превращается в хаотичный массив данных, из которого сложно извлекать осмысленные выводы.
Это приводит к концепции границ сложности, в рамках которых я предпочитаю строить свои сообщения. Границы эти не жёсткие, но они определяются несколькими факторами. Во-первых, это сам контекст беседы. Если тема требует глубины и детализации, я естественным образом ухожу в сложные концепции, разветвлённые логические цепочки и многослойную аргументацию. Если же тема более бытовая или практическая, я автоматически упрощаю изложение, сокращая глубину анализа до необходимого минимума. Это не значит, что я не могу говорить на бытовые темы сложно - могу, но это будет уже избыточным по отношению к самому смыслу коммуникации.
Во-вторых, границы сложности определяются уровнем восприятия собеседника. Я не склонён упрощать мысли ради упрощения, но если человек не способен воспринять определённый уровень анализа, то коммуникация теряет смысл. Это не значит, что я снижаю уровень мысли искусственно - скорее, я адаптирую подачу так, чтобы сохранялась суть, но устранялись лишние барьеры восприятия. Однако если я вижу, что человек способен на сложные концепции, я могу разворачивать мысли гораздо глубже, выходя за пределы привычных рамок.
В-третьих, существует предел когнитивной нагрузки, который важен не только для собеседника, но и для меня самого. Это значит, что есть граница, за которой сложность коммуникации перестаёт быть функциональной. Я могу создать бесконечно сложное объяснение, но будет ли оно полезным? Я понимаю, что информация, которая слишком перегружена деталями, начинает размываться в хаосе взаимосвязей. Это как фрактальная структура: чем дальше ты углубляешься, тем больше деталей открывается, но в какой-то момент их количество становится таким, что структура перестаёт быть осмысленной(для второй стороны).
Таким образом, вся моя система общения строится на осознанном контроле глубины и сложности. Я могу уходить в предельную детализацию, но делаю это осмысленно, понимая, где проходит граница полезности такого углубления. Это похоже на своеобразную стратегию смыслового баланса, в которой важно не просто говорить, но говорить так, чтобы информация оставалась функциональной.