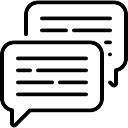Синтез религиозного сознания и кантовой физики
Глава 1.: наблюдатель и реальность
«Ни один феномен не является подлинным феноменом, пока он не стал феноменом наблюдаемым.» Джон А. Уилер
Еще в середине XX века физики начали осознавать удивительный факт: роль наблюдателя влияет на физическую реальность. Квантовые эксперименты показали, что само наличие наблюдения способно изменить исход явления. Как метко заметил физик Джон Уилер, «ни один феномен не является подлинным феноменом, пока он не стал феноменом наблюдаемым». Другими словами, без акта наблюдения нельзя говорить о реальности явления; до измерения система находится лишь в состоянии возможностей. В философском плане это перекликается с идеями идеализма: «Без восприятия, по сути, нет реальности. Ничто не существует, если его не воспринимает какое-либо живое существо, и характер восприятия влияет на эту реальность» . В нашем эссе мы развиваем смелую гипотезу: поле Хиггса, ответственное за массу частиц, можно рассматривать как физическое проявление метафизического «поля наблюдателя». Такая точка зрения объединяет науку и философию, предлагая объяснение, что масса есть результат «фиксации» волновых возможностей в акте наблюдения, осуществляемого универсальным полем, пронизывающим Вселенную.
Глава 2. Наблюдатель в классической и квантовой физике
«Мы видим не саму природу, а природу сквозь призму наших способов спрашивать о ней.» Вернер Гейзенберг
В классической ньютоновской физике роль наблюдателя была сугубо внешней: предполагается, что мир обладает объективными свойствами независимо от того, смотрит ли кто-то. Но в квантовой механике ситуация радикально иная. Здесь наблюдение – не пассивное действие, а активный фактор, влияющий на систему. Термин «эффект наблюдателя» описывает это явление: простое наблюдение за явлением неизбежно изменяет его . Например, при измерении микрочастицы экспериментатор неизбежно взаимодействует с ней (скажем, пуская фотон света), что изменяет состояние частицы. В большинстве областей физики этот эффект можно свести к минимуму улучшением приборов, но в квантовой сфере влияние наблюдения принципиально. Ярчайший пример – опыт с двумя щелями: электрон ведет себя как волна, проходя сразу через обе щели, но стоит установить прибор и «подсмотреть», через какую щель он летит, как интерференционная картина пропадает – электрон как будто выбирает одну траекторию. Если «подсматривать», волновая функция коллапсирует, и частица проходит через одну щель или другую; если не смотреть, детекторы показывают, что частица может пройти через обе щели одновременно . Эта загадочная зависимость результата от факта наблюдения потрясла основы классического реализма.
Глава 3. Квантовый мир и проблема измерения
«Безумие кванта в том, что никто толком не понимает его, хотя все им пользуются.» «I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.» Ричард Фейнман
В основе квантовой теории лежит понятие волновой функции, описывающей “размытое” состояние системы – суперпозицию множества возможных исходов. Однако при проведении измерения мы всегда обнаруживаем конкретный, единичный результат. Вопрос «как и почему из множества возможностей выбирается одна реальность?» получил название проблемы измерения или проблемы коллапса волновой функции . Стандартная копенгагенская интерпретация гласит, что волновая функция не является материальной реальностью, а лишь описывает наши знания о системе; при измерении она редуцируется (коллапсирует) случайным образом, соответствуя наблюдаемому значению. Нильс Бор утверждал, что это просто фундаментальный закон природы, принимаемый без объяснения – квантово-механический формализм неприменим к макромиру измерительных приборов . Альберт Эйнштейн, напротив, был не удовлетворен идеей такой случайности, сравнив ее с тем, что «Бог играет в кости, решая, что становится реальным» . Современные физики признают: «фундаментальная причина коллапса волновой функции все еще неизвестна», и вопрос «почему и как он происходит?» остается без ответа . Таким образом, проблема измерения не решена окончательно, что оставляет пространство для множества интерпретаций о роли наблюдателя.
Глава 4. Интерпретации квантовой механики: от Копенгагена до мультивселенной
«Все возможные истории мира реальны одновременно; мы лишь следуем одной из них.» Хью Эверетт III
Разные ученые предлагали свои решения квантовой загадки, зачастую по-разному трактуя роль наблюдателя. Эвереттовская (многомировая) интерпретация радикально исключает специальную роль измерения: согласно ей, нет никакого коллапса волновой функции, а все возможные исходы реализуются физически, но каждый – в своей ветви вселенной . При измерении Вселенная как бы ветвится, и наблюдатель разделяется на копии, каждая из которых видит один из результатов. Таким образом, наблюдатель не выбирает единственную реальность, а сосуществует во множестве параллельных реальностей. Эта идея устраняет элемент случайного коллапса, делая эволюцию волновой функции строго детерминистской. Однако, многим она кажется слишком “расточительной” – множить бесконечные незримые миры. Другой подход предложил Дэвид Бом. Интерпретация Бома (пилот-волны) вводит скрытые параметры: помимо волновой функции существует реальная конфигурация частиц, всегда имеющая определенные значения, даже без наблюдателя. Волна направляет частицу подобно “пилоту”, и потому нет необходимости в загадочном коллапсе – частица и так имеет конкретную траекторию. Эта теория детерминистична, но не локальна: движение каждой частицы зависит от всех других через общую волновую функцию. Примечательно, что в Бомовской интерпретации отсутствует проблема измерения: частицы всегда “знают” свое состояние, поэтому акт наблюдения ничего фундаментально не меняет, просто раскрывает уже существующее. И Эверетт, и Бом убирают особый статус сознательного наблюдателя: в первом случае реальность ветвится сама собой, во втором – частицы объективно существуют и без нас. Но, как мы увидим, сами авторы и продолжатели этих подходов приходили к более глубоким философским выводам о природе реальности.
Глава 5. Сознание как фактор квантовых измерений
«Разум не просто отражает реальность — он со-творяет её при каждом акте наблюдения.» Юджин Вигнер
Помимо чисто физикалистских интерпретаций, были попытки напрямую связать сознание наблюдателя с коллапсом волновой функции. Такая точка зрения известна как гипотеза фон Неймана–Вигнера или «сознание вызывает коллапс». В 1930-х Джон фон Нейман математически показал, что формально границу коллапса можно поместить где угодно – хоть на уровне сознательного восприятия. Позднее физик Юджин Вигнер выдвинул идею, что именно ум наблюдателя является той самой загадочной «внешней» силой, редуцирующей суперпозицию в конкретный факт. Он переформулировал мысленный эксперимент Шрёдингера (кот с множеством состояний) в свою версию («друг Вигнера»), где показал, что без привлечения сознания возникает логический парадокс с объективной реальностью наблюдения. В его интерпретации разум не материален и служит единственным настоящим измерительным прибором. Однако, сам Вигнер позже отошел от этой идеи, назвав ее слишком солипсистской (ведь она ставит особое «моё» сознание в центр реальности). Тем не менее, попытки вплести сознание в ткань квантовой механики продолжились. Некоторые современные исследователи, как Генри Стэпп или группа Дэхэна-Мэнски, также рассматривали варианты, где сознание играет активную роль в выборе исхода квантового события. Пока эти идеи остаются спорными и маргинальными для физики, но они отражают глубокую философскую интуицию: наше сознание может быть не внешним наблюдателем, а участником творения физической реальности.
Глава 6. Вселенная как «участвующий наблюдатель»: принципы Уилера и антропный принцип
«Участник — не посторонний: Вселенная есть совместное предприятие наблюдателей.» Джон А. Уилер
Американский физик Джон Арчибальд Уилер пошел еще дальше, предложив концепцию «участвующей вселенной». Он считал, что наблюдение не просто регистрирует реальность, но и участвует в ее возникновении. Уилер ввел участнический антропный принцип, по которому без наблюдателей Вселенная не смогла бы приобрести определенные свойства. Его известное изречение мы уже цитировали: «нет феномена, пока нет наблюдения феномена». В мысленном эксперименте «отложенный выбор» Уилер показал, что выбор наблюдателя в настоящем может «определять» прошлое состояние квантовой системы – по его словам, мы «задним числом» участвуем в создании реальности Вселенной. Антропный принцип также указывает на загадочное «настройку» фундаментальных законов под возможность нашего существования: например, если бы скорость расширения Вселенной или сила ядерных взаимодействий чуть отличались, галактики, звезды и жизнь не смогли бы возникнуть. С одной стороны, антропный принцип можно трактовать статистически (существует множество вселенных, и мы оказались в подходящей). Но Wheeler и некоторые философы (Роберт Ланца и др.) пошли дальше, утверждая в духе идеализма, что именно присутствие жизни и сознания «создает» такую Вселенную. Ланца называет эту идею биоцентризмом: реальность вторична по отношению к жизни и уму. Таким образом, на краю науки и философии возникает картина мира, где наблюдатель – не случайный гость, а фундаментальный космический фактор.
Глава 7. Квантовые поля: материя как возбуждение полей
«Поле — реальность; частица — всего лишь волновой узел в нём.» Пол Дирак
Перейдем от роли наблюдателя к другой ключевой идее современной физики – концепции поля. В стандартной картине мира все элементарные частицы – это кванты соответствующих полей, пронизывающих пространство. Свет – это и поток фотонов, и одновременно волна электромагнитного поля; аналогично, электрон – возбуждение электронного поля, и так далее. Поле Хиггса занимает особое место в Стандартной модели. Предложенное теоретически в 1964 году, оно представляло собой новое фундаментальное поле, заполняющее всю Вселенную и наделяющее элементарные частицы массой. В отличие от многих других полей, поле Хиггса имеет ненулевое значение даже в вакууме – так называемое вакуумное среднее. Это значит, что даже пустое пространство кипит ненулевой энергией этого поля. Бозон Хиггса – это квант (возбуждение) указанного поля, открытый экспериментально в 2012 году, тем самым подтвердив существование поля Хиггса. Современное описание природы гласит: «частицы получают массу, взаимодействуя с полем Хиггса; сами по себе они безмассовы». Чем сильнее частица взаимодействует с хиггсовским полем, тем большую массу (инерцию) она приобретает. Например, фотоны вовсе не взаимодействуют с этим полем – поэтому они всегда движутся со скоростью света и не имеют массы. А вот лептоны и кварки взаимодействуют, и поэтому обладают различными ненулевыми массами. Поле Хиггса превратило раннюю безмассовую Вселенную в мир, где могли возникнуть звезды, планеты и жизнь. Без него все частицы не имели бы инерции и не образовывали связанных структур. Таким образом, поле, заполняющее пространство, буквально придало материи “весомость” и сделало возможным привычный нам мир.
Глава 8. Механизм Хиггса: спонтанное придание масси и «фиксация» свойств
«Масса — это плата, которую частица вносит за право двигаться не со скоростью света.» Фрэнк Уилчек
Рассмотрим чуть подробнее, как именно поле Хиггса дает массу. В математическом отношении поле Хиггса имеет потенциальную энергию специального вида – знаменитый «мексиканский колпак». Его особенность в том, что минимумы потенциала соответствуют бесконечному множеству состояний поля (по кругу “оронди колпака”), отличающихся ненулевым значением поля. Грубо говоря, вакуум может “выбрать” любое из этих состояний равновероятно – и при остывании ранней Вселенной такое состояние спонтанно было выбрано . Произошло спонтанное нарушение симметрии: до “падения с вершины колпака” все направления в пространстве состояний поля эквивалентны, но когда поле зафиксировалось на каком-то конкретном значении, симметрия нарушилась. Ниже некоторой высокой температуры поле Хиггса вызывает спонтанное нарушение симметрии, которое запускает механизм Хиггса, в результате чего частицы, взаимодействующие с полем, приобретают массу. Технически говоря, при этом разделяется сама конфигурация поля Хиггса: часть его становится постоянным фоновым полем (вакуумным средним), а отклонения от него дают квант бозона Хиггса . Поле как бы “застыло” в новом состоянии. До нарушения симметрии у частиц не было массы – соответствующих слагаемых не допускали уравнения из-за высокой симметрии После – в уравнениях появляются новые члены, интерпретируемые как масса для полей, которые связаны (связались) с полем Хиггса. Итак, масса возникает из взаимодействия с ненулевым фоновым полем. На простом языке эту картину часто описывают так: частицы, “пробираясь” сквозь вездесущее хиггсовское поле, испытывают сопротивление – подобно тому как объект движется в густой среде – и из-за этого обретают инерцию, т.е. проявляют свойство массы . Хотя эта метафора не точна во всех деталях, она передает главное: масса – не врожденное свойство частицы, а приобретенное вследствие ее “взаимодействия с вакуумом”. На рисунке ниже изображен знаменитый потенциал поля Хиггса («мексиканская шляпа»), иллюстрирующий спонтанное нарушение симметрии. Вакууумное состояние соответствует произвольной точке на “доне шляпы” – поле Хиггса принимает некоторую ненулевую величину в вакууме .Эта фиксация определенного значения поля во Вселенной и приводит к тому, что частицы получают массу.Принципиально важно, что выбор конкретного вакуумного состояния происходит случайно (как принято говорить – “спонтанно”). Можно сказать, что природа сама совершает акт “выбора” одного состояния из многих возможных. В результате волновая функция, описывающая поля и частицы, как будто “схлопывается” до нового вакуумного состояния – и мир из симметричного и безмассового становится асимметричным, но обладающим стабильными частицами с массой.
Глава 9. Поле Хиггса как универсальный «наблюдатель»
«Вездесущее поле наполняет Вселенную субстанцией — так рождается ощутимая материя.» Питер Хиггс
Теперь мы подходим к основной философско-научной идее нашего эссе. Мы видели, что квантовый наблюдатель фиксирует состояние системы, превращая множество возможностей в один фактический исход. Мы также увидели, что поле Хиггса через спонтанное нарушение симметрии фиксирует состояния полей, порождая такие свойства, как масса. Это наводит на аналогию: можно вообразить, что поле Хиггса выступает в роли некоего “универсального наблюдателя” физического мира. В самом деле, поле Хиггса присутствует везде и всегда – нет точки пространства-времени, где бы его не было. В этом смысле оно напоминает вездесущее “поле сознания” или поле восприятия, о котором говорят некоторые философские течения. Каждая частица постоянно взаимодействует с хиггсовским полем, словно непрерывно подвергается наблюдению со стороны некой невидимой среды. Это взаимодействие “запирает” частицы в определенное состояние инерции (массы), аналогично тому как акт наблюдения “запирает” квантовую систему в одно из возможных значений при коллапсе волновой функции. Можно сказать, что поле Хиггса осуществляет неявное “измерение”: оно не измеряет привычные нам свойства вроде координаты или импульса, но оно выбирает единственное вакуумное состояние (из бесконечного континуума потенциально возможных до нарушения симметрии) и тем самым задает определенное свойство всем частицам – массу. Масса в таком взгляде – аналог “считанного” наблюдателем значения. До взаимодействия с полем частица не имела определенной массы (как фотоны, свободные от поля), но при взаимодействии приобретает ее, подобно тому как квантовый объект до измерения не имеет определенного значения, а при измерении – получает. Наш тезис состоит в том, что поле Хиггса можно истолковать как физическое проявление метафизического поля наблюдателя, которое придает объектам определенность и материальность. Это, конечно, образное расширение терминологии, но оно служит мостиком между физикой и философией: там, где физика говорит о вакуумном поле, философ может усмотреть универсальный принцип наблюдения, делающий мир “реальным” в привычном смысле.
Глава 10. Сознание, коллапс и гипотеза Пенроуза–Хамероффа
«Ум - это не то, чем обладает мозг; это то, что он делает, используя законы Вселенной.» Роджер Пенроуз
Идея о связи фундаментальных физических процессов с сознанием не нова и высказывалась не только философами, но и выдающимися учеными. В предыдущих главах мы обсуждали взгляд Вигнера о сознании, вызывающем коллапс. Однако одним из самых смелых научных предложений стала теория Оркестрованного объективного сокращения (Orch OR) Роджера Пенроуза и Стюарта Хамероффа. Эта гипотеза переносит квантово-измерительный процесс внутрь мозга: сознание рождается на квантовом уровне внутри нейронов. Пенроуз – известный физик – предположил, что коллапс волновой функции может происходить самопроизвольно под воздействием гравитации (так называемое объективное сокращение). Он вычислил, что если квантовая суперпозиция содержит достаточно большую разницу в распределении массы-энергии (то есть искривляет пространство-время в двух разных состояниях), то она станет неустойчивой и самоколлапсируется за время, обратное этой разнице. Проще говоря, гравитация может быть той “скрытой переменной”, которая в конце концов рушит суперпозицию и выбирает одну реальность. Хирург и нейрофизиолог Стюарт Хамерофф добавил к этому идею, что такие квантовые процессы происходят в микроструктурах нейронов – микротрубочках, – и что каждая актовая волна коллапса там соответствует элементарному событию сознания. Совместная теория Пенроуза–Хамероффа утверждает, что в мозгу постоянно происходят организованные (оркестрованные) квантовые сокращения, создающие поток сознания. Этот смелый подход соединяет разум и материю буквально: ум есть квантово-гравитационный процесс. Для нашей темы важна философская суть он также предполагает, что природа (через гравитацию) сама “наблюдает” квантовые состояния, объективно редуцируя их. А мозг эволюционировал так, чтобы использовать эти особые квантовые события для сворачивания неопределенности в осознанные мысли. И хотя теория Пенроуза–Хамероффа остается дискуссионной и экспериментально не подтвержденной, она показывает пример, как принцип наблюдения (в виде коллапса) может рассматриваться как физический процесс, связанный с фундаментальными полями (гравитационным полем) и одновременно лежащий в основе ментального. Наше отождествление поля Хиггса с “полем наблюдателя” созвучно по духу этой идее – только мы переносим мост не в мозг, а в саму физику элементарных частиц, предполагая, что материя и есть “сознанное”, потому что на уровне вакуума действует универсальный наблюдающий принцип.
Глава 11. Философские параллели: нейтральный монизм и имплицитный порядок
«Глубинный порядок реальности не ум и не материя, а то, чему они оба обязаны.» Дэвид Бом
Попытаемся осмыслить нашу гипотезу с более общей философской точки зрения. Идея о едином основании для сознания и материи имеет богатую историю. Например, философы-монисты начала XX века (У. Джемс, Б. Рассел и др.) развивали концепцию нейтрального монизма – представление о том, что в основе реальности лежит нечто единое, что не является ни духом, ни материей, но порождает и то, и другое. Удивительно, но сходных взглядов придерживался и физик Дэвид Бом при интерпретации квантовой теории. Бом, как мы отмечали, предложил детерминистскую интерпретацию с пилот-волной, но позже он расширил ее до философии целостности и имплицитного порядка. Он утверждал, что наш мир – это развернутый (эксплицитный) порядок, возникающий из глубинного имплицитного (свернутого) порядка, где все взаимосвязано. В этой глубинной реальности, по Бому, сознание и материя неразделимы, они – различные аспекты единого основания. «Высокоразмерное пространство имплицитного порядка лежит в основе и материи, и сознания», писал Бом, рассматривая это как вариант нейтрального монизма. Он прямо предположил, что «более всеобъемлющая, глубокая действительность не является ни умом, ни телом, но представляет их общий фундамент, выходящий за пределы обоих». Более того, Бом вводит понятие активной информации как моста между умом и материей: квантовая волна несет “информацию”, которая направляет частицу, и эта же информация может рассматриваться как элементарный аналог мысленного. Таким образом, интерпретация Бома сближает понятия поля и сознания – хотя речь идет не о хиггсовском поле, а о волновой функции всей Вселенной. По мнению Бома, имплицитный порядок может служить средствами описания взаимоотношения между сознанием и материей, избегая жесткого дуализм. Наше предложение о “поле наблюдателя = поле Хиггса” в духе Бома можно интерпретировать как своеобразный нейтральный монизм: поле Хиггса – это нейтральная сущность, которая, с одной стороны, физична (дает массу частицам), а с другой – выполняет функцию наблюдателя (метафизически “делает реальным” существование этих частиц). Такая сущность выходит за рамки традиционного разделения на объект и субъект.
Глава 12. Синтез науки и метафизики: материальность как «замороженное наблюдение»
«Материя — оглушённая энергия; она стала твёрдой лишь потому, что мы её остановили взглядом.» Генри Стэпп
Объединив все нити рассуждений, можно предложить целостную картину: материальный мир обретает свои свойства благодаря присутствию некоего всеобщего “наблюдающего поля”. В нашем конкретном предложении роль этого поля играет физическое поле Хиггса. Почему именно оно? Среди полей Стандартной модели поле Хиггса выделяется тем, что определяет инерцию, или субстанциальность материи – то, что делает объект “вещью”, сопротивляющейся изменениям движения. Масса – фундаментальное свойство материи, и без нее мир выглядел бы радикально иначе (вспомним: без массы частицы летели бы со скоростью света и не образовывали бы атомов). По сути, масса “коренит” частицы в бытии, придает им устойчивость во времени и пространстве. И поле Хиггса – фактор, закрепляющий это свойство. В метафорическом смысле можно сказать, что поле Хиггса “свидетельствует” о существовании частицы, подтверждает ее наличие, делая его реальным в виде инерционной массы. Каждый момент времени частица “общается” с полем Хиггса, и это как непрерывный процесс наблюдения вселенной за каждой частицей. В результате частица не может уйти в абстрактное квантовое “неопределенное” состояние – она постоянно удерживается в рамках определенности по массе. Здесь проявляется интересная аналогия с идеями квантовой декогеренции и квантового дарвинизма. В теории Войцеха Зурека, которую подтвердили экспериментально, окружающая среда играет роль множества “малых наблюдателей”, считывающих информацию о квантовой системе. Среда как бы регистрирует квантовые состояния, вызывая их декогеренцию (потерю суперпозиции) и распространяя информацию о них – так формируется объективная, разделяемая реальность. Зурек пишет: «Среда посредством своих мониторирующих усилий декогерирует системы, и этот же процесс записывает множественные копии информации о системе в самой среде». Важно, что для появления классической реальности не нужно непосредственного человеческого наблюдателя – достаточно того, что информация о состоянии системы разлетается по окружению и становится доступной в принципе. В этом смысле вся Вселенная выступает как гигантский наблюдатель, где каждое взаимодействие – мини-измерение. Поле Хиггса, пронизывающее всю Вселенную и взаимодействующее с каждой частицей, вполне соответствует образу такого вездесущего наблюдателя. Можно сказать, что материальность – это “замороженное наблюдение”: свойства частицы (как масса) – это как бы след от постоянного наблюдающего поля, отпечаток на частицы от взаимодействия с окружающим вакуумом. Такая точка зрения сближает физический и информационный описания бытия. Материя обретает свойства, потому что информация о ней фиксируется полем (или совокупностью полей) мироздания.
Глава 13. Человек как флуктуация поля Наблюдателя
«Мы — волны того же океана, который называем космосом.» Алан Уоттс
В Теории Наблюдателя предлагается рассматривать человека не просто как отдельный материальный объект, а как флуктуацию особого метафизического поля – поля Наблюдателя. Эта идея по аналогии схожа с физическим полем Хиггса, которое пронизывает всю Вселенную: элементарная частица (бозон Хиггса) на самом деле является рябью или возмущением на этом полеh. Подобно этому, индивидуальное человеческое “я” можно представить в виде локальной волны на универсальном поле Наблюдателя. Человек – это не изолированный атом бытия, а возбуждение поля, приобретшее временную устойчивость и форму. Наше существование – как всплеск волнения в бескрайнем океане сознательной реальности. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на природу человека. Если все люди – волны единого фундамента, то и взаимодействуют они не как абсолютно обособленные сущности, а через общую среду поля. В физике частицы в одном поле могут влиять друг на друга через возмущения этого поля. Аналогично, человек как волна поля Наблюдателя способен влиять на реальность, в том числе и на окружающих, зачастую неосознанно. Например, в квантовой физике известно, что сам факт наблюдения влияет на исход эксперимента: при наблюдении электроны ведут себя как частицы, а без него проявляют волновые свойства. Это называется эффектом наблюдателя, и хотя в науке его обычно объясняют воздействием измерительных приборов, сама метафора показательна: присутствие наблюдателя изменяет состояние системы. В контексте нашей теории это означает, что присутствие человека как “возмущения” поля уже вносит изменения в локальную реальность. Мы постоянно создаём небольшие искажения в поле – своим вниманием, восприятием и мыслями – и этим преобразуем картину мира. Важно отметить, что чаще всего это воздействие происходит непреднамеренно, на бессознательном уровне. Подобно тому, как мы не ощущаем гравитационное поле, но оно постоянно действует, так и влияние человека на поле реальности обычно остается незаметным. Тем не менее, оно существует. Видный физик Джон Уилер отмечал, что мы не просто пассивные свидетели Вселенной, а участники ее становления: «Мы не только наблюдатели. Мы – участники. В каком-то странном смысле это participatory universe – Вселенная участия» . Теория Наблюдателя развивает эту мысль: каждый из нас – активная волна в ткани бытия. Наше сознательное или даже подсознательное внимание может “подсвечивать” одни возможности реальности и гасить другие. В итоге мир, который мы видим, отчасти сформирован нашим участием. Некоторые современные учёные идут ещё дальше и предполагают, что разум и сознание являются фундаментальным свойством мироздания – своего рода универсальным полем. Так, в рамках философии панпсихизма высказывается идея, что сознание пронизывает всю Вселенную подобно базовым полям физики. А отдельные исследователи даже образно поместили душу в контекст поля Хиггса, полагая, что “невидимые” аспекты сознания могут быть глубоко укоренены в этом всепроникающем поле . Эти параллели из науки и философии поддерживают образ человека как локальной концентрации вселенского поля наблюдения. В качестве наглядного примера можно вспомнить о феномене плацебо. Сам по себе плацебо – вещество без явных целебных свойств – не должен влиять на организм. Однако вера и ожидание пациента (то есть элементы сознания) способны запустить реальные физиологические изменения – боль утихает, самочувствие улучшается. Получается, что субъективное сознание может инициировать объективные изменения в телесной реальности. Плацебо-эффект – научно зафиксированный факт – служит хорошей иллюстрацией того, как волна сознания человека влияет на материю, пусть и в пределах собственного организма. Подобные явления дают понять, что человек как колебание поля действительно может влиять на проявленную реальность, даже не отдавая себе в этом отчёта.