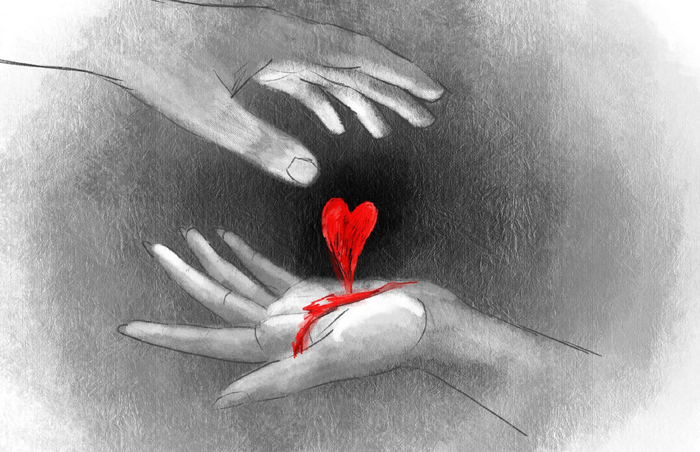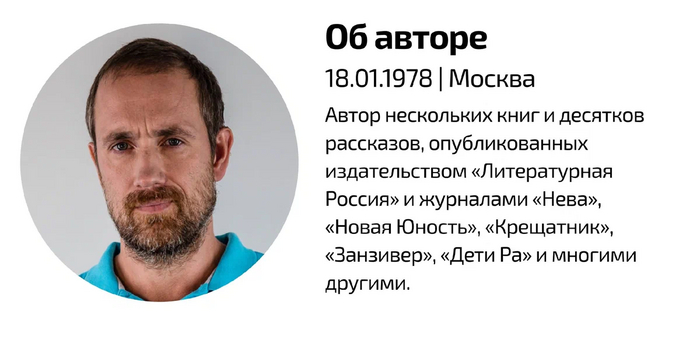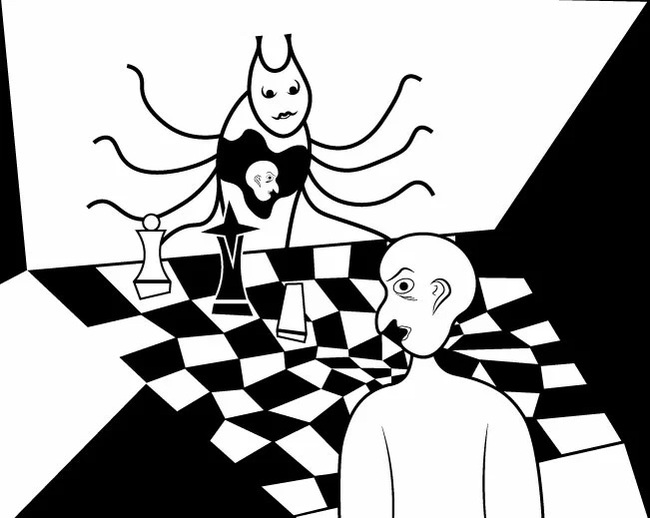Лика | Иван Гобзев
Она делает большие глаза, как у кота из мультфильма, и говорит голосом Малыша из «Карлсона»:
— Как я хочу собаку! Я так хочу собаку!
И смотрит на него долго, до тех пор, пока ему не становится неловко и неприятно.
Она ему нравится, и кота из мультика она изображает отлично, ей идёт, она вообще красивая, и есть в ней что-то детское, но она всегда перегибает палку.
Её зовут Лика.
Вчера они были в зоомагазине. Она специально его туда завела. Там продают собак элитных пород. Лика ходила вдоль стендов с выражением крайнего умиления на лице, закатывала глаза, ахала, хлопала в ладоши и подпрыгивала.
— Ой, Витя, смотри какая прелесть! Смотри, какой маленький! Какой милый! — сюсюкала она. — Он такой же маленький, как я!
Лика в самом деле невысокая.
Она хочет вызвать в моём друге желание её жалеть, подарить ей собаку, вести себя с ней как отец с дочкой.
Но Вите становится неприятно. Она продолжает эту сцену слишком долго, и ему не нравится, что его взрослая подруга изображает из себя маленькую девочку. Он бы и не против, но она делает это как танк, идёт напролом, не обращая внимания ни на какие знаки и препятствия.
По ходу этого действия лицо у Вити вытягивается всё сильнее, он краснеет и уже не может улыбаться, даже не по-настоящему. Но она как будто не замечает его состояния.
— Боже, Иван, — говорит он мне, — я думал тогда, что упаду в обморок…
Мы сидим с ним в ресторане, Лика давно просила его познакомить нас. Он много обо мне рассказывал, потому что мы давние и близкие друзья. Она должна прийти с подругой, почему-то она уверена, что мы с её подругой прекрасно подойдём друг другу.
Когда Лика выпивает, а она любит выпить иногда вечером, она включает одну и ту же музыку. Эту музыку слушал её бывший муж, который часто напивался, а потом бил её. Она сидит напротив Вити с трагичным пепельным лицом, опустив уголки губ, и слушает по кругу унылые песни, мрачнея всё больше и больше. Витя прекрасно понимает, что эта демонстрация специально для него. Она рассчитана на то чтобы задеть его — вот, она слушает музыку ужасного бывшего мужа, и у неё ностальгия по тем временам, и он, несмотря ни на что, должен пожалеть её.
Он пытался как-то предложить свою любимую музыку, но она отреагировала очень резко.
— О боже! — воскликнула она. — Как ты слушаешь это дерьмо?
И засмеялась гортанно с ноткой нарочитого смущения, показывая, что она в шоке и ей немного неловко за него. И опять ставила своё, чтобы пить с печальным видом.
Больше всего Витю раздражает её неизменная театральность во всём. Ему кажется, что, должно быть, она считает его полным идиотом, раз не понимает, что он видит всю эту её наигранность и демонстративность.
— Недавно ходили покупать ей вещи, — рассказывает Витя. — Она просто взяла меня с собой. Не для того, чтобы я ей купил что-то, она сама хотела купить.
Лика долго, чересчур долго ходила между рядами и говорила не своим голосом с детскими интонациями:
— Тут ничего нет на меня! Тут всё такое большое! Ну мне что, в детский отдел идти?
Она повторяла это вновь и вновь, ожидая какой-то реакции от Вити, но он чувствовал только растущее раздражение.
— О боже, я такая маленькая! — насмешливо разочарованным тоном опять сказала она.
Неловко стало даже консультанту, который, чуть порозовев, тихо сказал Вите:
— Не понимаю, почему ваша девушка говорит, что она маленькая? Она обычного роста…
Думал так и Витя, только он, в отличие от сотрудника магазина, отлично понимал, почему она так себя ведёт, и именно из-за того, что понимал, не мог вести себя, как хотела она.
Ему было тяжело изображать из себя то, что она ждала, не потому что он не хотел бы сделать ей приятное, а потому что это было мучительным лицемерием. Он уже пробовал подыгрывать ей, но это выходило у него так плохо, с такой натугой и кислотой в лице, что она не чувствовала удовлетворения.
— Она совсем не дура, — говорит он. — Она очень умна и начитанна. И когда забывает о своей роли, что случается очень редко, становится совершенно очаровательной — именно такой, какой я её полюбил. Но ей самой почему-то не нравится такой быть.
Как-то она решила порадовать его вкусным ужином, который приготовила сама. Она поставила перед ним тарелку, села рядом впритык, уперевшись в него локтем, и стала смотреть, как он ест. Каждые десять-пятнадцать секунд она спрашивала:
— Милый, тебе вкусно? Тебе нравится? Вкусно, милый?
— Да, очень, спасибо, — отвечал он.
Но она не унималась и, как будто залезая в него, продолжала спрашивать, наседая, вкусно ли ему. Наконец, впервые за время общения, он не смог сдержать своего раздражения, перестал есть и отложил вилку.
Разозлился он потому, что понимал, почему она так себя ведёт, — её не столько интересовало, вкусно ли ему на самом деле, сколько её роль влюблённой девушки, и желание, чтобы он заметил это, обратил на это внимание и оценил, какая она.
В тот момент она кажется впервые поняла, что ему неприятно.
— Я слишком лезу, да? — спросила она, засмеявшись смущённо.
— Да.
— Ну я просто хочу, чтобы ты меня похвалил…
— Я уже похвалил раз десять. Можно просто поесть теперь?
Иногда, выпив больше обычного, она изображала из себя смертельно больную. Она падала вдруг на кровать, начинала стонать, закрывала глаза и пускала слюну, делая вид, что это пена от припадка. Всё это было до того неумело, что Витя начинал чувствовать себя ужасно неловко. Не умея подыграть, он зажимался, становился угловатым и тупым.
Её отец пропал без вести, когда ей было пять лет. Мать умерла от лейкемии два года назад.
Когда Витя впервые пришёл к ней в гости, он увидел в гардеробной фотографию женщины с чёрной полосой по диагонали. Он сразу понял, кто это.
— Только я тебя очень прошу, — сказала тогда Лика, состроив жалобные глаза, — пообещай никогда не говорить ничего плохого про мою мать!
Он очень удивился такой просьбе, потому что, естественно, у него и в мыслях не было говорить что-то плохое про умершую, совершенно ему не знакомую маму своей девушки.
Если Витя начинал с ней говорить о том, что ему интересно, увлекался вдруг, и она замечала, что он увлечён, она сразу его прерывала. Ей не нравилось, что он говорит не о ней, что его может увлекать нечто иное, не связанное с ней. Поэтому она переводила разговор на себя. Эти беседы о ней, о её мнимых болезнях, маме, бывшем муже, вызывали у него настойчивые приступы дурноты и желание бежать. Но сменить пластинку было нельзя, центром должна была быть она, постоянно. Ему отводилась роль слушателя, желательно стоящего на коленях и с готовностью принимающего всё, что от неё исходит.
Однажды она пригласила свою подругу, ту, с которой я должен был сегодня зачем-то познакомиться. Она заранее предупредила Витю, что подруга считает, что они с ним не спят, хотя это было неправдой, Витя и Лика спали с первого свидания.
Они сидели в ресторане втроём. В какой-то момент разговор зашёл об интимных отношениях. И вдруг Лика со своим особенным смехом, смущённо-демонстративным, сказала громко, на весь ресторан:
— Но у нас, Виктор, никакого секса до свадьбы!
Её подруга умным долгим взглядом посмотрела на Виктора, и он увидел, что она всё понимает. И более того — он заметил, что она понимает, что и он понимает, что она понимает, и опять странно ему стало, что Лика так не уважает его, что позволяет с ним, даже при других, эту нелепую игру.
— Знаешь, Лика, — ответил тогда Виктор, — я думаю, что и после свадьбы нам не стоит.
Подруге очень понравилась эта шутка, и она искренне и громко засмеялась. А Лика не оценила. И потом подруге пришлось ехать домой ночью на метро.
Их отношения с подругой были не совсем обычными, Лика поддерживала её деньгами и водила по ресторанам. За это подруга платила тем, что делала вид, что принимает за чистую монету Ликину игру. Но Виктору ничем не платили, и он не понимал, почему, с какой стати должен играть по её правилам. Может быть, из-за секса?
Как-то она захотела удивить его новой причёской.
Он ждал её в ресторане. Было лето, тепло, он пришёл в майке, шортах и шлёпанцах. Он уже успел хорошо загореть и регулярно ходил в тренажёрный зал — в общем, тоже всё для того, чтобы нравиться Лике.
Она задержалась сильно. Наконец она пришла, бледная, с большими настороженными глазами, готовая вот-вот заплакать. Новая причёска ей не особо шла, и цвет она выбрала не совсем удачный, какой-то каштановый, но ему она нравилась в любом виде.
— Отлично выглядишь! — сказал он бодро.
Она затравленно посмотрела на него и ответила зло:
— А ты вообще на педика похож!
От неожиданности он не знал, что ответить, и некоторое время просто молча смотрел на неё. Спустя минуту она попросила у него прощения.
Она часто ездила в командировки. Когда она приезжала, он её встречал и они ехали к ней отмечать встречу. В один такой приезд, уже поздно вечером, когда они собирались в постель, он заметил большой синяк у неё вверху груди, очень похожий на засос.
Она последила его взгляд и испуганно сказала, со своим характерным гортанным смешком:
— Витя, это не то, что ты думаешь! Я упала на конференции!
Но Витя знал, это было именно то, что он думал. Но ревности почему-то не было. Наверное потому, что он был готов к этому — с того самого момента, когда в их первую ночь она в порыве страсти назвала его Максиком.
Вообще из каждой командировки она приезжала в синяках. Чаще на коленках, но и на других местах они тоже были.
— Ты же знаешь, — говорила она доверительным тоном, как будто они обсуждают что-то такое интимное, что их связывает, — какая я неуклюжая из-за болезни!
Он этого не знал, потому что никакой болезни у неё не было и она была вполне ловкой. Но он сдержано кивнул, понимая, что это часть игры, без которой она не может.
Они никогда не ссорились. Только один раз было что-то похожее на ссору, да и то не совсем. Они пришли в кино и ждали начала сеанса. Витя накануне ходил в тренажёрный зал и теперь пожаловался на боль в спине.
— Милый, — сказала Лика, — я бы тебе массаж сейчас сделала. Как, помнишь, позавчера? Хорошо же было?
Витя долго и задумчиво на неё посмотрел. Она смотрела в ответ, чувствуя, что совершила ошибку. Вид у неё стал очень жалкий.
— Ну я же делала тебе, было же…
— Слушай, давай не будем? Ясно же всё.
Она решила, что это конец. Но он стоял рядом как ни в чём не бывало и ждал начала сеанса. Никаких выяснений, вопросов, требований с его стороны не последовало.
— Ну и что дальше? — спросила она робко. — Как мы дальше будем?
— Как раньше, — с улыбкой ответил он.
И всё же он решил отомстить ей. Он тоже поехал в командировку — для неё, а на самом деле ко мне на дачу. Когда она услышала от него, что он уезжает, ей поплохело — причём по-настоящему. Как-то вдруг постарев и подурнев, она спросила его слабым голосом:
— Витя, куда?
— В Иваново! — с ходу придумал он.
— В город невест? — криво усмехнулась она.
Он кивнул.
В первый же вечер его пребывания в «командировке» она стала ему звонить. А он сидел напротив меня совершенно пьяный и делал вид, что у него очень плохая связь и он её не слышит.
— Витя, — кричала она, — я хочу знать, в какой гостинце ты остановился!
— В хорошей, — ответил он.
— А как она называется?
— Нормально называется… Ты что, никогда не видела, как гостиницы называются?
— Витя, скажи название!
— Лика, ты что не доверяешь мне? — он изобразил возмущение.
— Как называется?! — настаивала она.
— Называется «Х–й!» — крикнул он и выключил телефон.
Это история с командировкой была ошибкой. Потому что в отличие от него, Лика очень сильно ревновала. Если он не отвечал на звонок, опаздывал или просто вёл себя, как ей казалось, подозрительно, она сразу начинала думать, что у него другая женщина. Недавно она призналась ему, что хотела бы чтобы у него случился инсульт, в результате которого он потерял бы мобильность. Тогда она смогла бы ухаживать за ним и уж никакие другие женщины не смотрели бы на него.
А женщины смотрели. На улице, в кафе, в транспорте, повсюду Лика ловила на Вите их липкие взгляды. Они смотрели с интересом, и некоторые даже с улыбкой — и это несмотря на её присутствие.
— Представь. Пришёл к ней. Болтаем, я на кровати лежу, она сидит рядом. Она нервная, напряжена, вижу что-то не так. Замечаю — в руке у неё зубочистка, она её в пальцах вертит и всё как будто ко мне примеряется. И бледная ужасно, так ей не по себе.
Я её спросил в шутку: ты что, в глаз мне хочешь её воткнуть?
Она засмеялась так по-своему, как будто что-то неприличное обсуждаем, а потом ответила серьёзно:
— Знаешь, да. Ты одноглазый никому, кроме меня, не будешь нужен.
Витя с кровати встал и в кресло пересел, от греха подальше.
А она осталась на кровати. Взяла его майку, в задумчивости прижала её к лицу и стала вдыхать.
— Ой, что я делаю, — спохватилась она. — Нюхаю твою майку, и мне кажется, что от неё пахнет персиками…
— После этой истории, — говорит он мне, пока мы ждём, — я боюсь с ней встречаться. А вчера вообще был край. Она решила угостить меня коктейлем собственного приготовления. Я выпил бокал, и мне резко так поплохело, что я упал на кровать и заснул. Ночью проснулся весь потный, сердце колотится, слабость. Встать не могу. А она сидит напротив в кресле в полутьме, смотрит на меня печально и пьёт вино. И музыка эта опять…
В общем, я решил с ней расстаться. Можно я у тебя поживу пока? Мне кажется, если я скажу ей, что мы больше не будем встречаться, они наймёт киллера…
В кафе она пришла с опозданием. Она подошла торопливым шагом, смеясь и сияя (Витя сказал бы, что театрально), и громко поздоровалась. За ней шла её подруга, крупная, с грубыми чертами лица, на вид значительно старше Лики.
— Привет, милый, — звонко воскликнула Лика, поцеловала Витю, села рядом с ним, взяв его за руку, и обратилась ко мне, — О! Я так наслышана о вас! Витя мне все уши прожужжал!
И она засмеялась тем смехом, о котором так часто говорил Витя — как будто она говорит что-то неприличное и потому извиняется за это.
— А это моя подруга Ксения! Прошу любить! — и с тем же странным смехом она указала двумя ладонями на подругу.
Ксения протянула мне руку, я её пожал, и сразу понял, что между нами ничего не может быть, она была не в моём вкусе. Но Лика нарочито держала себя так, как будто мы с Ксенией уже пара.
Мне понравилась Лика. Она была очень мила и в самом деле чем-то похожа на маленькую девочку. Особой наигранности в её поведении я не замечал, наверно, потому что совсем не знал её, а может потому, что Витя сильно преувеличивал. Она вообще производила приятное впечатление. Легко и умно говорила на любые темы и казалась совершенно нормальной. Уже через несколько минут я стал подозревать, что всё это были Витины болезненные фантазии. Он вообще любил приврать и мог насочинять невесть что про самые обычные вещи.
Появилась официантка с заказом: бутылкой шампанского и закусками.
Пока она расставляла на столе, Витя довольно демонстративно рассматривал её.
— Шампанское хорошее? — спросил он вдруг с эдакой мужской улыбкой.
И добавил, прочитав имя на её бейдже:
— Мария?
Она улыбнулась ему в ответ.
— Я сама не пила, — простодушно ответила она, — но это просекко, у нас часто берут! Что-нибудь ещё желаете?
И она игриво посмотрела Виктору в глаза.
— Я подумаю, — с усмешкой ответил он. — Кстати, приятно познакомиться, меня зовут Виктор!
Пока происходил этот их разговор, мне стало неловко за друга, и я даже покраснел, видя, что творится с Ликой. Она уже не слушала меня и, криво улыбаясь побелевшими губами, отвечала мне невпопад: «А, да-да, да…».
Я сильно толкнул Витю под столом коленом, он непонимающе оглянулся на меня, не меняя обольстительного выражения, а я сделал выразительные глаза.
— Ой! — вдруг звонко воскликнула Лика. — Я поранилась случайно! Ну что это за ножи у них?!
Я увидел в одной её руке тупой столовый нож и длинный порез на ладони другой.
Сразу выступила кровь. Я предложил ей салфетку, официантка в недоумении смотрела на Лику, Ксения вскочила и стала кого-то звать, а Витя торопливо, как голубь, озирался по сторонам.
Лика протянула ему свою руку, уже сильно кровоточащую, и сказала надрывающимся голосом, как будто вот-вот заплачет:
— Витя, смотри, что случилось! Поцелуй! Бо-бо!
Тут прибежали другие официанты, и управляющий, и все в ресторане устремили свои взоры на нас. Лика не опускала руку и настойчиво держала её у лица Вити, и красные капли падали на белую скатерть. Витя растерянно глядел на неё и не знал, как быть, а она жалобно на него, а мы все на них двоих, замерев в тихом ожидании, что будет дальше. Наконец, под всеобщим вниманием, он взял её ладонь в свою и стал целовать, пачкая губы в крови.
Редактор Анна Волкова.
Другая современная литература: chtivo.spb.ru