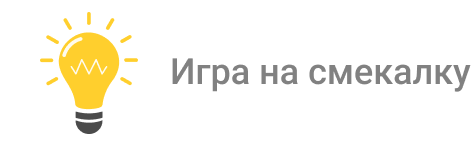Профессиональная рецензия на сериал "Слово пацана" от режиссёра
«Вы слышите, как жалко и безнадежно как
Заплакали синьоры, их жены и служанки,
Собаки на лежанках и дети на руках».
А.Величанский. Под музыку Вивальди
Все большие истории находят личный отклик в наших сердцах. Потому они и становятся большими: мы пропускаем их через призму собственного опыта, расставляем акценты, важные для нас, и так настоящие истории превращаются в сияющий тысячами граней алмаз. Это и случилось с историей, рассказанной в сериале: все критические отзывы, которые я читала, аппелируют к самым разным ее аспектам, основываясь на личном опыте авторов. Среди многообразия критики есть настоящие сокровища, глубокие и интересные разборы, которые анализируют профессиональные вещи, пользуясь профессиональными критериями, а не голым «им долой». На некоторые из режиссерских аллюзий, являющихся предметом дискуссии в этих работах, я, признаюсь, не обратила внимания, не догадалась вычленить их из сложной и многогранной вселенной фильма. Тем и интересен профессиональный критический разбор – он расставляет акценты так, как мы сами никогда бы не сделали и обращает наше внимание на вещи, сначала ускользнувшие от нас. Он обогащает оригинальный сюжет, превращая его в историю, конца которой нет. Мне бы тоже хотелось присоединить свой голос к этому грандиозному хору, и говорить сегодня в своем разборе о том, что оказалось важным лично для меня в этой большой истории. Для меня это прежде всего история о наших родителях.
Мне тридцать пять. Я родилась в 1988 и не застала эпоху, которая описывается в сериале. Но наше поколение Y росло и воспитывалось в девяностые – время, наследующее времени действия фильма – и если уж кто-то что-то и повидал в годы взросления, так это мы. Сразу скажу, что я люблю девяностые. Ситуация в стране тут ни при чем, просто это время моего детства, «там, где мама молодая и отец живой». И вообще, небо тогда было большое, солнце яркое, воздух чистый и жизнь какая-то совсем… хорошая. И бандиты, стрелявшие друг в друга, в первых бизнесменов и в народных депутатов, представлялись нам чем-то средним между д’Артаньяном и Робин Гудом. Не потому, что мы были клиническими идиотами или расчетливыми негодяями. Просто потому, что мы были молоды. И в молодости всегда восхищались плохими парнями. Но никто из нас не взял оружие в руки. Оружие в руки берут совсем по другим причинам, а не из-за детских игр в подражание людям с оружием. Между подростковым обожанием и взрослым решением лежит бездна, которую не перешагивают из-за того, что условные Леша Солдат или Саша Македонский казались крутыми ребятами. И уж совсем странной выглядит истерия по поводу того, что на это решение могут повлиять художественные произведения. Ну, кроме шуток, к тем, кто действительно верит, что, посмотрев сериал про уличные банды, люди начнут их сколачивать в реальной жизни, возникает много вопросов. На этом фоне наивное и несколько моралистское предложение смотреть сериал родителям вместе с детьми уже не кажется таким плохим – черт с ним, в конце концов, всяк лучше, чем предыдущая глубокая мысль. Другое дело, что не всегда это осуществимо в реальной жизни. Но посмотрев его с близкими, друзьями, в одиночестве или в обнимку с котом, дети оборачиваются на своих родителей и сравнивают их с теми, кого увидели на экране. И вот здесь наступает время нашего самого важного экзамена: выдержим ли мы сравнение? Скажут ли наши дети: «Мой папа круче этих крутых парней, потому что он за добро»? Если скажут, нам можно пить вино и думать о будущем. Если восхитятся теми, кто на экране, то в этом будут виноваты не они, не герои фильма и не те, кто их сыграл или создал. В этом будем виноваты мы, родители. Признавать это неприятно и не очень понятно, что с этим делать. Не поэтому ли так активизировались запретители всех мастей и якобы радетели за моральный облик молодежи? Моральный облик молодежи отражается в наших глазах, и не будет ли более правильным не запрещать (да когда это молодых останавливали запреты?), а жить вместе со своими детьми так, чтобы им не страшно было смотреть в наши глаза?
Говоря на языке профессиональной критики, сериал «Слово пацана» - это история о том, как непростая ситуация в обществе отражается на судьбах самой уязвимой его части – юношества, как в яростном горниле хаоса смены эпох формируется их характер и система ценностей, и как одних этот Молох заглатывает целиком, а другие, оказавшиеся ему не по зубам, выходят изменившимися, познавшими суть зла, отказавшимися от него и готовыми жить взрослую жизнь нормальных людей. Режиссер показывает нам обряд инициации.
Мы все вышли из мифа. Нам, русским, повезло в этом смысле больше других: наша мифологическая традиция настолько богата, что ее хватит на тысячи сюжетов. Но сюжет инициации – прохождения молодого человека через испытания для того, чтобы стать взрослым, является универсальной фабулой общего фольклорного наследия человечества. К какой бы культуре мы ни обратились, эти сцены будут описываться практически одинаково с удивительным совпадением деталей. С точки зрения режиссерского концепта, Крыжовников, конечно, рассказывает нам историю инициации. Это удивительно и прекрасно – не то, чтобы эта тема была суперпопулярной. А между тем, идея интереснейшая. Нет, правда, в периоды сдвига исторических пластов всегда пробуждаются такие древние хтонические традиции, люди начинают вспоминать имена забытых языческих богов и, к сожалению, заново строить их алтари. А посмотреть на такой сюжет в обстановке современной реальности относительно недавних лет - просто настоящее удовольствие и истинный режиссерский профессионализм, на качественную историзацию, прием, пришедший из символистского жанра, мало кто способен. У Крыжовникова она получилась и получилась очень хорошо. Нет сомнений, что вопрос он изучал серьезно, произведен глубокий анализ и найдены отличные отсылки в разных качественных составляющих фильма, работающие на этот концепт. К ним относим и двух главных героев-подростков, один, как диковинное отражение другого – темный волчонок Марат со взглядом исподлобья и рваной походкой хищного зверя, и светлый Андрей, большеглазый, с тонкими чертами точеного лица, словно сошедший с пастельных икон Рублева ангел или молодой Франциск Азисский на золотых фресках Джотто. Понимаем ли мы финал после появления таких хрестоматийных типажей? Конечно, и понимаем довольно очевидно. Упрощение ли это? С точки зрения психологического реализма, безусловное. С точки зрения фольклорной традиции, к которой режиссер стремится в жанре, очень красивое в нее попадание. Именно Марат переживет инициацию: так и не став Волком, но превратившись вместо этого в Волкодава, именно он сможет во взрослой жизни сказать сыну: «Парень, я прошел через всё. Я не стал этим и не стал тем. Я передам тебе свой опыт». Он это и есть те самые выжившие, ныне сорокалетние достойные люди, старательно вытравившие страшное прошлое из глаз и памяти, и вздрогнувшие перед экраном, увидев его снова после стольких лет. Они поколение победителей, и, как любые победители, не торопятся вспоминать свою войну. Но это благодаря им история тогда пошла дальше. Из-за того, что однажды они признались: зло это мы. Это ли не идея великой победы добра над злом? По-настоящему победить зло может только тот, кто сам был им, содрогнулся от осознания собственной мерзости и отказался от этой страшной силы. И вот тогда дьявол оказывается повержен. Не случайно в последней серии режиссер рисует нам дорогу, наглядная и простая аллегория, но снова – не забывайте про жанр. Да и аллегория не становится меньше оттого, что она проста. Адидас и Марат пускаются в путь. Но какой он разный, и как они непохожи, эти два брата. Адидас не в Гагры едет, но по дороге в никуда, а Марат после драки с Андреем (последний бой, решающее испытание обряда инициации) идет по заснеженной проезжей части домой. К отцу, потерявшему одного сына, но вновь обретшему другого. Не из-за липовых комсомольских грамот. А потому что отец его правильно воспитал. Мы не видим этой их встречи, но очень хорошо знаем сюжет. Возвращение блудного сына отправляет нас к другой большой традиции – библейской. Так всегда получается, когда концепт движется туда, куда нужно: постановщик умело играет широким понятием традиции, давая отсылки на совершенно разный культурный бэкграунд. Марат к тому же еще и младший сын, а младшим сыновьям в фольклорном паттерне всегда уготовано становиться мудрецами. Стал ли он таковым? Этого мы не знаем. Но этот мальчик, одержавший победу над злом в своем сердце, разве не достоин если не уважения, то сострадания?
Но этот волчонок. А что же с волком? Есть ведь в сюжете и старший брат. Старшему в сказках всегда положено быть умным. И вроде бы так оно и выходит: из Афганистана возвращается долгожданный Володя, любимый сын, надежда и гордость отца, обожаемый младшим братом – в первой серии Марат уже успел надоесть с разговорами о том, какая классная жизнь наступит, когда Вова приедет домой, и в его словах слышится искреннее и большое чувство. Кроме того, Адидас появляется только во второй серии, и на протяжении первой мы готовимся к этой встрече, наш интерес подогревается ожиданием того, что скоро явится герой. И герой является. Красивый парень, светловолосый, ясноглазый (на примере Андрея мы уже знаем, на что указывает эта внешность. И это, кстати, тоже прием, который режиссер проводит сознательно – в финале мы смотрим на Андрея и видим, как Адидас воскресает и дело его живет), в афганской шинели с гитарой за плечами. В первой же сцене сражается за правое дело – обманутую маму товарища своего брата – и проигрывает. Какой отличнейший, с чистейшим профессионализмом преобразованный в постмодернистскую традицию фольклорный сюжет! Мы видим воина, который сражается за добро и не побеждает, но это, конечно, ничего, что этого сейчас не происходит, потому что он хотя пока и слабее зла, но это ведь потому, что зло очень сильное и страшное – он проиграл на первом этапе инициации, но соберется с силами и обязательно победит. Ах, какой блистательный spass! Брехт был бы доволен. Как быстро нас заставляют поверить в то, что этот светлоликий афганец герой. Как тонко Крыжовников играет на современной, всем нам близкой уже традиции делать всех афганцев героями. Это ведь действительно огромный культурный пласт российского общества, и многие из этих людей, нет сомнений, настоящие герои, да только не про них здесь речь. И еще – в нашем сознании так силен на этих людях некоторый налет страдания и отверженности – воевали и погибали они в чужой стране, зачастую обманом туда отправленные, совершенно непонятно за что, и, главное, не победили – а это, выражаясь циничным профессиональным языком, то, что всегда любит зритель. Посмотрите, как идеально вписана эта традиция в характер антигероя. Такого Адидаса и уважаешь, и жалеешь одновременно. И ждешь ведь, что сейчас он тучи разведет руками, и настанет царство света и истины. И когда он придумывает обирать на дороге нищих водителей, начинаешь оправдывать это. Это он не для себя, а чтобы помочь мальчику Ералашу купить утюг для бабушки! Ералаш погибнет скоро и страшно, его забьют ногами посреди дороги, и это станет вторым испытанием, которое Адидас не пройдет. С этого эпизода и начинается его падение во зло, это завязка конфликта. Завязка, несомненно, мощная и поддерживающая spass: по-человечески очень хочется, чтобы убийц этого безобидного и симпатичного мальчишки с милым прозвищем Ералаш настигло справедливое возмездие. Спасти кота. Крыжовников, разумеется, знает об этом великом методе голливудской кинематографической традиции (и ее отправили в копилку традиций). Нет, этот сериал не примитивный, он буквально напичкан самыми разными аллюзиями. И вот Адидас во главе войска собирается воздать за други своя: здесь и его столкновение с Кощеем и эпическое сражение с хади-такташевскими на снегу («Банды Нью-Йорка», я люблю вас! Режиссер тоже.), отсылка к которому, кстати, контражуром возникает еще в первой серии, когда Марат в манере «Слова о полку Игореве» передает только что присоединившемуся к группировке Андрею устную мудрость о подвигах ратных давно минувших дней. Дальше будет романтическая линия с медсестрой Наташей – куда же без этого, героев должны любить, и филигранно снятая их любовная сцена, и побег вместе на украденном «Жигуле» (который после всего пережитого уже не воспринимается, как большой грех, чего там) в бесконечность зимних степей. Это все красиво. Нам до последнего не говорят, что черное, а что белое, постоянно разрывая свежую рану под названием «а вдруг он все-таки герой». Особенно это обострено, конечно, во всей линии с Айгуль. Помните эпизод, где Вова, застрелив Желтого и освободив девочку, выводит ее на улицу, накрывая своей курткой, и усаживает в машину? «Держись, сестренка», - говорит он. И думаешь, ну вот и в самом деле до романтизации бандитизма добрались… А запретители-то были правы, и небезосновательны их обвинения! Даже и не романтизация, а настоящая героизация здесь вырисовывается, и все аллюзии соединяются в одной точке: Адидас прошел инициацию, воздал за невинную жертву, спас кота, убил дракона, тут и сказке конец. Потом маячит осознание им ужаса зла, неизбежный и скорый выход из банды, а там и до прихода во власть ради борьбы за правду недалеко. Кем обычно становится герой в конце сказки? Ну и свадьба, конечно: и я там был, мед-пиво пил, и дальше вы знаете. Не получится. Режиссерское послание ясно: убийство зла не может быть победой добра. Это такое же зло. Не осознает он его ужас. И ведь не осознает же: в страшной сцене его последней встречи с отцом в пустом, будто придавленном низким потолком и залитом мертвенным желтоватым светом банкетном зале, на его чистом лице будет явственно читаться непонимание происходящего. Когда я посмотрела сцену с Айгуль, долго не могла понять, что там не так, где червоточина, откуда уже сразу возникает ощущение: не герой. А потом поняла. Машина. Украденная у отца машина. На ней и увозит рыцарь спасенную им деву. И вот здесь понимаешь: и рыцарь черный, и девушка плохо кончит… Об Айгуль позже, а вот Адидас приходит к логическому концу в сценах с появлением в доме и на похоронах Желтого - какой шикарный, леденящий кровь языческий сюжет о герое, случайно попадающем на тризну врага и вынужденном держать ответ перед его матерью. Там еще и операторская работа на высоте – ракурсы и цвет кадров создают мучительную и тягучую картину какой-то нереальности, действительно сюрреалистической, жуткой сказки, в которую попал Адидас. Конец его понятен, и я не буду говорить об этой сцене. А вот их последняя встреча с Маратом является кульминацией для развития характера последнего. И вроде бы все просто, ну принеси банку соленых огурцов и теплую куртку, говорит Адидас. Он в бегах, уезжает непонятно куда, и это их последняя встреча. «Сейчас разразятся большим диалогом о смысле жизни» - думаешь. Но этого не происходит. «А я тебя так ждал…» - как-то очень по-взрослому грустно говорит Марат. И в этой фразе вся оценка характера Адидаса и все отношение авторов к привлекательности зла.
Линия Айгуль, конечно, тоже вписывается в мифологическую канву, которой следует режиссёр в постмодернистском переосмыслении. Кроме того, что она является решающим испытанием в инициации Марата, в ее истории раскрываются сразу несколько фольклорных сюжетов. Мы видим сказку воительницы и жертвы одновременно. Не знаю, было ли это сознательным решением режиссера, или произошла одна из тех великих случайностей, которые всегда сопровождают верно движущуюся мысль, но эта игра между двумя полюсами одного характера на самом деле восхитительна. И однозначной оценки героя в ее случает так и не произошло, нам самим нужно решить, кто она: Марья Моревна, стоптавшая железные башмаки и сгрызшая железные хлебы, чтобы освободить любимого (и ведь освободила, Марат именно через нее начал свой путь от края бездны), или Рапунцель из башни, терпеливо ждущая рыцаря-освободителя. У нее, кстати, и дракон имеется – сцена, когда Марат увозит ее на дискотеку из-под носа у отца, в бессильной злобе кричащего им вслед через окно, ещё один превосходный, на уровне Сапковского, пример постмодернисткой игры со старой сказкой. Внутри этой традиции становится совершенно понятно ее бесстрашное поведение после похищения, сцена, которую многие вменяли режиссеру в вину, как непроработку характера или предлагаемых обстоятельств. Нет, эта сцена отлично проработана, придумана для концепта и работает на него. Героическая обреченность есть в эпизоде, где она сидит, прямая, как лезвие клинка, и такая же твердая, перед своим похитителем, прижимая к груди видеомагнитофон. Соотнести ее можно с самыми разными культурными прототипами, от Антигоны в разговоре с Креоном до Мальчиша-Кибальчиша на допросе у буржуинов, да конкретный образец не так и важен, главное, мы каким-то глубинным чувством знаем, что она обречена и трагедия случится очень скоро. Я не случайно вспомнила греков: слишком уж ее характер похож на героинь эсхиловских трагедий, несгибаемых и обреченных с самого начала безжалостным античным фатумом, знающих, что победа невозможна, и сражающихся до конца. Истинный героизм, наполненный восхищением перед величием человеческого духа – фундамент гуманистической идеи. Не ищите смысл в том, зачем она вцепилась в магнитофон, попытайтесь почувствовать что-то, лежащее за пределами реалистской логики. Это не Крыжовников поставил ее в заведомо проигрышные обстоятельства. Это сделал Эсхил. Крыжовников наследует одну из величайших драматургических традиций, превращая древний фатум в общественное осуждение жертвы насилия при молчаливом согласии родителей – уродливую гримасу современного общества. И это возродившееся древнее зло буквально материализуется в воздухе, когда Айгуль делает свои последние шаги к балконному окну, и в конце концов толкает ее в спину. Не забудем, что самоубийство героя - еще одна классическая традиция древнегреческого мифа.
Но я обещала писать о родителях, где же они? Все они в сериале уведены в линейку второстепенных героев и светят отраженным светом - для того, чтобы говорить о родителях, нужно было проанализировать поступки детей. Теперь, наконец, мы можем перейти к старшему поколению. Кто они такие, эти люди, молодость которых пришлась на ренессанс шестидесятых, подпевавшие живым Окуджаве и Высоцкому, следившие в прямом эфире за полетом Гагарина, проникнувшие в тайны атомного ядра, носившие летящие платья и элегантные шляпы, помнившие своих павших товарищей и смотрящие в будущее так, как будто там одни чудеса? Я назвала поколение их детей героями. Родители – нечто большее. Титаны, давшие им жизнь. Судьба титанов незавидна: и могучий Зевс, и премудрый Один заточили своих родителей где-то на переднем крае ада. За что? Почему Кронос пожирал тех, кому дал жизнь? Из страха лишиться власти или потому, что ужаснулся, увидев чудовищ вместо сыновей? Отец Зевса никогда не входил в топ моих любимых персонажей, но, узнавая этот образ в отце Адидаса и Марата, я впервые в жизни его понимаю. Кронос означает время. Как быстро оно летит в начале сериала, когда Кирилл Суворов приходит вечером домой, и жена торопится накормить его повкуснее, и как намертво останавливается, проваливаясь в ничто – обратную сторону бесконечности – в банкетном зале, где отец, сидя за гораздо более богато накрытым столом, смотрит на сына-убийцу. Вообще, режиссер четко придерживается выбранного для каждого героя паттерна: в данном случае, время будет играть огромную роль во всех сценах Кирилла и сыновей. Вспомним, что на идее утекающего сквозь пальцы времени построен один из кульминационных эпизодов сюжета, когда Марата, на секунду забежавшего домой за кастетом Адидаса, отец в буквальном смысле сгребает подмышку и везет к тетке, пресекая его триумфальное участие в битве с группировкой Хади-Такташ. Время отца против времени сыновей. И отец проигрывает, бесспорно, мы кожей чувствуем, как время постепенно замедляется для него после этого эпизода, превращая в финале вдохновенного ученого в живого мертвеца. Он умер, потому что обратились ко злу его дети, и этот трагический сюжет накрепко вписан в традицию построения сюжета всех фильмов, так или иначе касающихся этой исторической эпохи. Помните, как в «Ворошиловском стрелке» выжатый досуха герой Михаила Ульянова добавляет вслед полковнику – отцу одного из насильников, в ужасе убежавшему после его уверенных слов, что с сыном случилось непоправимое: «Конечно, случилось. Раз он насильником стал, с ним давно уже что-то случилось». А почерневший от горя отец Космоса в последней серии «Бригады», глядя в глаза одержимому местью Белому, произносит фразу, ставшую страшной резолюцией итога жизни его крутого сына и компании: «Вы все озверели и кровью умылись». «Не понимаю я ничего, Левик», - застывает в отчаянной муке старший брат Никита в «Парнях из стали», сидя на заснеженном кладбище напротив могилы с игрушечной железной дорогой, перед тем, как пустить пулю в висок. Так и Кирилл Суворов неподвижно сидит за ломящимся от угощения столом, выматывающие долго вглядываясь в лицо сына и пытаясь понять, что он, отец, сделал не так. Знает ли он, что Адидаса ищут? Замечает ли слишком уж сильно суетящегося официанта? Да. Но он сделал выбор вслед за гоголевским Тарасом. Я пытаюсь представить, что должна была бы совершить я, чтобы мой отец решился на такое. Мне страшно это представлять. Но я точно знаю, что он сделал бы то же самое.
Если отец это время, мать должна быть представлена не менее фундаментальным понятием, чем-то, способным потрясти мироздание и перевернуть небо и землю. А как ещё можно показать материнскую любовь? Любовь вечную, неизменную, обещанную каждому человеку с рождения, как одна из непреложных истин. Но постмодернизм подвергает сомнению даже неизменные в своей естественности вещи. И если уж браться играть по его правилам, нужно делать это до конца. Крыжовников делает. Он берет характер совершенно обычной советской женщины, совершенно нормальной матери, и уничтожает его. Эпоха рушится, когда перестают быть незыблемыми наши мамы. Можно ли представить аллегорию более совершенную для сошедшей с ума эпохи, чем безумие матери? Это не время останавливается, это расползается сама ткань бытия. Мы здесь выходим за грань мифа или, точнее, приходим к архимифу, универсальному для всех. Образ матери не нуждается во встраивании в какие-либо мифологические каноны, мать – миф сама по себе. Матери одинаково любят детей, белых, черных, красных или синих, как море. Если мать отказывается от ребенка, это было, есть и будет олицетворением первобытного страха, которому нет названия. Отец может сделать это у последнего края, но мать… Именно поэтому, когда мама Андрея произносит отчаянные слова в середине сюжета, становится ясно: сын плохо кончит. У него теперь нет матери, только воспитательница. Она, кстати, как и комсомольские начальники, находится в серой зоне, проще говоря, болтается между добром и злом, а, если мы будем расставлять персонажей по сторонам конфликта, на белой окажутся только родители. Не потому что для режиссёра прошлое это хорошо, в конце концов, комсомол гораздо сильнее вписан в ткань советского прошлого, чем матери и отцы, а потому что нельзя превратиться в нечто, состоящее из когтей и клыков, и пойти строить дивный новый мир. Его могут построить только люди. Если дети озверели и кровью умылись, родителям опять приходится взваливать все на свои плечи: в средних сериях история дрожит от нечеловеческого напряжения, готовая лопнуть в любой момент – мы следим не за новыми перипетиями в банде, мы ждем, выдержат ли родители. Но все-таки Крыжовников не хочет быть чистым постмодернистом. А может быть, в этом и есть истинный постмодерн: вводить в жанровую канву то, что этому жанру в кошмаре не могло бы присниться… Так или иначе, рождается удивительная сцена, которая, честно сказать, меняет все. Или в очередной раз меняет все. Как, каким образом возникает в этом темном, наполненном абсурдистской жестокостью и нашпигованном плоскими гармониями хитов восьмидесятых и языческим неистовством «Пиялы», мире простая и древняя, из чарующих звуков первых опер рожденная мелодия: «Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под вьюгу за окном печалиться давайте, давайте, давайте, печалиться давайте об этом и о том». И льется, льется на раны этот благословенный бальзам… Танцует мама Андрея, вдохновенно вальсирует с Ириной он сам, кружится счастливая сестра, маленькая девочка, и кажется, может быть, все-таки не потеряна страна, способная творить такие песни? Глаза мамы наполняются слезами и так жалко становится наших родителей, прошедших через такое, что не дай никому Бог. Но мы, вместе с синьорами, женами, детьми и собаками, конечно, плачем ни о них, мы плачем о себе... А дальше эта мама, которую все уже списали со счетов, говорит, что хотела бы попробовать свой любимый тортик со смешным названием «Птичье молоко», и Андрей срывается, бежит за ним на рынок, хочет купить еще цветы, предлагает за них свою шапку, безупречно завершая сюжетную арку с украденной шапкой для матери, и наскакивает на обворованного его бандой хозяина видеосалона. И попадает в колонию за совершенную кражу. Его туда не суд отправляет, его туда отправила мама. Которая, конечно, не готова сдаться в борьбе за его будущее. А вы можете представить, что наши мамы сдадутся, когда не сделали все, чтобы нас спасти? Мама буквально запустила для этого пацана, ставшего уже основательно мерзким к последней серии, вторую попытку обряда инициации. Он не должен был получить второй шанс, этот законченный мерзавец, по всем законам драматургическим и человеческим он просто не мог получить этот шанс! Но мама вымолила его силой своей любви, перед которой отступают самые могущественные боги и нарушаются любые законы. Как и в истории Марата, мы не видим разрешения этого конфликта до конца, но, если даже глаза Андрея в последнем кадре не говорят о том, что он постиг последнюю из истин, мама совершенно точно будет пытаться снова и снова. И снова. Я даже готова поспорить об этом на деньги, но я не буду. Это было бы нечестное пари.
Вот такие пространные рассуждения об этом большом кино у меня получились. Искусство всегда полемично и должно вызывать дискуссии, чем горячее, тем лучше. В искусстве никто и никогда не может быть прав или не прав, как и не существует известных путей – только те, что творцы прокладывают сами. В волнующих наши сердца вопросах очень трудно оставаться беспристрастными и смотреть на то, что трогает нас, с профессиональных позиций. Иногда это просто невозможно. Но даже будучи пристрастными, мы все-таки можем оставаться людьми. Умными и думающими зрителями. Доброжелательными и и неравнодушными оппонентами. Увлеченными спорщиками. Ведь когда в мире существует множество разных мнений, он становится очень интересным местом. Сейчас много говорится о том, зачем вообще нужен этот сериал. Но искусство приходит в мир не ради актуальности или необходимости, оно рождается само собой, обусловленное естественным ходом истории. Получается, что именно сейчас этот фильм должен был появиться, и именно сейчас нам нужно его смотреть и дискутировать. У меня нет ответов на многие вопросы, и я не знаю, что сделать, чтобы людей больше никогда не убивали другие люди, но одно я знаю точно: был один человек, который, невиновный, просидел в страшной тюрьме почти тридцать лет, а потом простил своих мучителей. Он сказал: «Я верю, что любовь гораздо естественнее рождается в человеческом сердце, чем ненависть». Давайте теперь помолчим. Тем более, есть о чем…
Автор рецензии - российский и американский режиссер Дарья Жолнера, бывший старший преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, преподаватель College Conservatory of music, Cincinnati, главный режиссер театра "Другая Опера".