Ответ на пост «За что в Российской империи расправлялись с врачами?»
Как известно власти в России всегда Бескорыстно Заботились о Народе, врачи Спасали Людские Жизни за Сущие Копейки, а тупой, дикий необразованный народишко это не ценил и не уважал и даже иногда убивал заботливые власти и героических врачей.
В связи с этим, а также с нынешней "сомоизоляцией" особый интерес представляет история ныне почти забытого "Севастопольского бунта" подробно изложенная (внезапно) в книге Д.Л. Мордовцева "Русские женщины Нового времени. Биографические очерки из русской истории." мною распознанная и исправленная на новую орфографию. Итак встречайте:
Унтер-офицерша Надежда Кирилова.
Римская история сохранила нам поэтический образ несчастной девушки, красота которой была причиною её трагической смерти, а смерть этой невинной девушки вызвала народное волнение: отец собственноручно зарезал свою любимую дочь, чтоб она не досталась сластолюбивому патрицию, а народ, в виду окровавленного трупа жертвы-красавицы, жестоко отомстил всем патрициям и смерть девушки и свои старые, давно накопившиеся обиды.
У нас, в тридцатых годах, повторилось нечто подобное в Севастополе; но это было далеко не то что в Риме—не те краски, не те тени, не те образы: вместо поэтической римлянки и её гордого отца-плебея у нас является унтер-офицерша Надежда Кирилова и её муж, а вместо сластолюбивого патриция—выходит на сцену сластолюбивый штаб-лекарь Верболозов.
Уже прежде мы высказали мысль, что как ни редко женщина вообще появляется на страницах истории, как ни бледны вообще исторические образы женщин как у нас, так и у всех народов, как ни прикрыта от посторонних глаз её закулисная историческая роль, однако несомненно то, что влияние женщины на ход исторических событий неотразимо, что по видимому слабая рука её руководит, невидимо для других, волею мужчины, и из своей скромной области, из спальной, из детской, женщина так или иначе направляет события своего времени то мольбой, то советом, то любовью, то лаской, то своею женскою слезою.
Но когда женщина оставляет спальную и детскую, когда страсть и общее дело увлекает ее на улицу, на площадь—сила её бывает неотразима.
Примером этому может служить так-называемый «женский бунт в Севастополе» — событие, случившееся в 1830 году, страшное по той форме, в которой оно выразилось, и ужасное по своим последствиям.
Хотя событие это не исключительно связано с именем женщины, стоящей в заголовке настоящего очерка, однако ближайшим исходным пунктом его так или иначе служила именно эта женская личность.
Летом 1829 года в Севастополь завезена была чума из Бессарабии, где она тогда свирепствовала во время турецкой войны. Зараза завезена была в Севастополь не сухим путем, а морем, на кораблях.
Для предупреждения распространения заразы город был отрезан от моря и от всех окрестностей строгою карантинною цепью. Карантинное оцепление продолжалось около года. Бедное население, лишенное всяких средств иметь посторонний заработок, пришло в самое ужасное положение, и хотя к весне 1830 года зараза по видимому совершенно прекратилась, однако местное начальство, из предосторожности, не снимало карантинной цепи я тем привело население до положительного отчаяния. В самом бедственном положении находилось население примыкавших к городу слободок, особенно же Корабельной.
«Жители Корабельной слободки—говорится в одном официальном документе, относящемся к этому событию — в сие бедственное для них время, которое, по причине необыкновенно в то время холодной зимы, было весьма для них ощутительно, столько претерпели, что не имеют слов достаточно изъяснить тогдашнее их бедственное положение. Будучи лишены всякого с городом и ближними селами сообщения, не имея что есть и пить, равно и отопить свои жилища, они ежедневно видели несчастные свои семейства и малолетних детей своих изнуряемых голодом и холодом, и, при малейшей кому либо из них приключившейся болезни, по освидетельствовании медицинских чинов, были забираемы в карантин, на Павловский мысок, где и были содержимы по пятидесяти и более дней, и многие из них там умирали, возвратившиеся же из оного находили дома свои совершению опустошенными. Раздаваемое им продовольственною комиссией в сие время пособие было столь незначительно, что оного многим из них и на одну неделю не было достаточно, как-то: по одной мерке муки на целое семейство за все время оцепления, по одной или по две вязанки дров, некоторым же по сорока и пятидесяти копеек, а многие совсем ничего не получали. Представляя себе будущее свое состояние в настоящем его виде, они усматривают, что будет едва ли не хуже прошедшего относительно продовольствия их будущею зимою, ибо они прежними годами в продолжении летних месяцев выходили из места жительства и в ближних местах нанимались к уборке сена, для жатвы хлеба, где зарабатывали в течении лета по сто и более рублей и сим способом зимою содержали и кормили свое семейство. Но как уже второе лето проходит в непрерывном оцеплении города от окрестностей, где они и старались что либо заработать, и не имея к зиме ни хлеба, ни топлива и едва ли какое рубище для прикрытия наготы своей и детей своих, умоляли всех членов комиссии войти в их жестокое положение и довести оное до сведения благодетельного начальства. Положение их представляется им тем ужаснее, что в течении прошедшей зимы все они вообще прежде заработанные кое-какие деньги принуждены были истратить; кроме того, не будучи в состоянии, по дороговизне, в достаточном количестве покупать дрова, принуждены были сжигать многие своя необходимые вещи, как-то: столы, скамейки, сундуки, кровати, полы и даже выламывали кусками кровли домов, только бы не замерзнуть от холода».
Положение населения было тем более отчаянно, что рабочая пора проходила, а оцепление с города не было снято, и жители справедливо заявляли, что если не скоро освободят их от карантинной цепи, то они совсем погибнут и начальство о сем не узнает, ибо оное никогда, исключая сие время существования заразы, не имело надобности входить в их положение и снабжать их хлебом и топливом, а потому открытие города не только не представляет ни малейшей для них пользы, по еще наводит страх от голоду и холоду».
Между тем, чума действительно давно прекратилась, а карантинная цепь все стоит, народ не смеет пробраться за цепь даже тайно, а кто пробирается—того хватают и отсылают на Павловский мысок; голодный скот, не имея корма, тоже рвется за цепь, а сторожевые солдаты его пристреливают. Ужасные «мортусы», с ног до головы зашитые в кожи и облитые смолою, вооруженные железными крюками, все еще рыщут по городу, и всякого подозреваемого в чуме хватают и тащат в карантин. Обязанности «мортусов» исполнялись людьми, приговоренными к каторжной работе. По городу, вместе с «мортусами», продолжают рыскать доктора, и ищут зачумленных. На улицах, на площадях — мертвая тишина, уныние; церкви заперты; звона колоколов не слышно. Больных приобщают посредством лжицы, навязанной на длинный шест. Имущество и платье умершего сжигается. Народ гоняют в бухту и силой купают в воде «подобно скотам». Подозрительных окуривают.
Народ начинает думать, что причиной этого бедствия— доктора, что они держат в осадном положении город и в заблуждении начальство, чтобы получать двойной оклад жалованья. В городе распространяется слух, как это было и во время холерных эпидемий, будто «мортусы», подкупленные начальством и докторами, морят народ, бросая ядовитые вещества в колодцы и источники.
Эти нелепые народные толки превратились в непоколебимое убеждение, когда унтер-офицерская жена Надежда Кирилова заявила, что штаб-лекарь Верболозов уморил все её семейство, и хотя она сама спаслась, но двое её детей действительно умерли от отравы.
Надежда Кирилова была отчасти права; по она бросила в массу слишком горючий материал.
Кирилова нравилась Верболозову и он ухаживал за нею. Русская Лукреция отвергала все предложения влюблённого доктора, и тогда он решился поступить с нею по-римски, но только приемы для этого употребил более современные, далеко не героические.
У Кириловой умер отец, восьмидесятилетний старик. Так как, по карантинным правилам, всякого умершего во время чумы нужно освидетельствовать, чтобы удостовериться, не умер ли он от заразы, и по этому уже назначать способ и приемы его погребения, то Верболозов, желая хотя косвенно победить упрямую красавицу, объявил отца Надежды умершим от чумы и распорядился оцепить дом её, как чумный.
Но и эта мера не победила целомудренной унтер-офицерши — она вела себя как настоящая римлянка.
Тогда Верболозов прибег к другим мерам: он не послал за своею жертвою, подобно римскому консулу, своих ликторов—«мортусов», а употребил для этого орудием робкую еврейку, Ривку 3ильберборг.
— Поди уговори Надежду Кирилову — сказал он ей — а не то я тебя объявлю чумною и отправлю на Павловский мысок.
Напуганная еврейка отправилась исполнять поручение страшного доктора; но и её посредничество не имело успеха.
Но сластолюбивый и изобретательный старик не остановился и на этом: видя бесполезность угроз, он прибег к задабриванью предмета своей страсти. Верболозов принес Кириловой коробку конфет; по когда она и её маленькие дети попробовали этого приношения, то с ними тотчас же сделалась рвота, перешедшая в кровавый понос. Хотя сама Надежда осталась жива, но двое её малюток на другой же день померли.
Народ положительно и громко заговорил, что лекаря морят народ для своих выгод, и потому продолжают держать город на чумном положении.
Другой случай, после происшествия с Кириловой, раздражил население еще более.
Жена одного солдата заболела чумною горячкой и три дня мучилась ужасным образом. Боясь дать знать об этом медикам, чтобы они не объявили больную чумною и не оцепили всего дома, муж этой женщины обратился к «мортусу» Тыщенку, прося прекратят её страдания. «Мортус» дал больной раствор яду, после которого несчастная и умерла. Об этом происшествии узнали власти и нарядили следствие: оказалось, что Тищенко не первый уже раз давал больным свои сильные лекарства на случай предсмертных мучений, и все его пациенты умирали быстро.
Тогда народ пришел к положительному убеждению, что лекаря и «мортусы» морят людей и для своих выгод объявляют город чумным, тогда как, по его понятиям, чума давно оставила город.
Одним словом, чаша была полна с краями — оставалось только влить в неё еще одну каплю, чтобы глухой ропот перешел в открытый мятеж.
Этою каплею была смерть матросской вдовы Зиновии Щегловой, в Корабельной слободке.
Щеглова умерла 31-го мая 1830 года. Между тем за несколько дней до этого, именно 27-го мая, карантинное оцепление было снято с самого Севастополя, как признанного уже не чумным городом, а с Корабельной слободки, вероятно из осторожности, велено было снять карантинную цепь только 3-го июня.
По карантинным правилам, Щеглову нужно было освидетельствовать, и для этого в слободку командирован был штаб-лекарь Шрамков.
Об этой личности следует сказать, что он, к несчастью, был одною из главных причин женского бунта в Севастополе. Подобно Верболозову, преследовавшему Надежду Кирилову, Шрамков нагло относился ко всем женщинам, и ив девятисот показаний, отобранных, после бунта, от женщин следственною комиссией, каждое оканчивалось такою фразою: «претерпевала истязания от штаб-лекаря Шрамкова», который самым непозволительным образом нарушал женскую скромность, и если в числе показаний некоторые и были без вышеупомянутой фразы о Шрамкове, то показания эти принадлежали женщинам, перешедшим уже сорокалетний возраст.
По освидетельствовании умершей Щегловой, Шрамков объяснил её смерть чумой.
Народ поражен был этим известием. Когда начальство, чтобы удостовериться окончательно в истине донесения Шрамкова, командировало для освидетельствования трупа еще старшего врача Ланга, то этот последний, к несчастью, найдя у покойной на шее нарыв, с своей стороны признал ее умершею от чумы и распорядился взять тело Щегловой в карантин для предания его земле, по карантинным правилам, как чумное.
Случай этот повел к тому, что начальство города должно было вновь признать существование чумы и постановить: «так как чума в Корабельной слободке прошла еще не совершенно, то продлить срок её оцеплению еще на четырнадцать дней». При этом постановлено было, чтобы слободка не сообщалась с населением самого Севастополя, уже свободного от оцепления раньше установленного для слободки срока.
Тогда население Корабельной, не видя конца карантинным мерам, решилось не выдавать тела Щегловой и крохе того настаивать на том, что она умерла не от чумы, а от преклонных лет, потому что ей было уже шестьдесят лет.
Пока карантинное начальство распорядилось прислать «мортусов» за трупом Щегловой, около трупа собралось уже до пятидесяти женщин, готовых силою защищать тело от перенесения в карантин.
Явились четыре «мортуса» с чиновником Яновским, чтобы взять труп. Женщины, защищая его, вступили с «мортусами» в драку, избили самого Яновского и так пробили камнями головы двум «мортусам», что те вскоре после этого и умерли.
Дали знать об этой неожиданной вспышке военному губернатору, которым был тогда генерал-лейтенант Сталыпин.
Но пока губернатор успел прислать вооруженных солдат, женский бунт уже вспыхнул: раз что раздражение прорвалось наружу, его уже трудно было затушить, пока горючий материал сам не перегорит и не потухнет.
Раздражение женщин прежде всего опрокинулось на докторов, я в особенности на того, который прежде подвергал их неприличным истязаниям — на штаб-лекаря Шрамкова, объявившего притом, что слободка продолжает быть чумною: разъярённые женщины окружили несчастного доктора, били его по голове, по шее, под бока, таскали по земле, рвали на нем мундир, я, кроме того, наиболее озлобленные из них и наименее скромные делали с ним и то, о чем говорить в печати неприлично. Затем, обезумевшие от своего собственного увлечения тигрицы стали обыскивать свою жертву, надеясь найти у него отраву, раздели несчастного до-нага, таская его с рук на руки разбили стекло находившихся у него в кармане часов и приняли осколки стекла за следы пузырька с ядом. Обобрав у него деньги, женщины не взяли их себе, а передали часовому, оставив у своей жертвы только один рубль. Затем подняли несчастного с земли, повели по улицам Корабельной и кричали, что поймали его с отравой.
Случай Верболозова с Кириловой был у всех в памяти—доктора должны быть отравители!
День был знойный. Чтобы удобнее производить допросы своей жертве, женщины притащили изувеченного доктора под тень одного дома, и начали над ним свой суд.
— А скажи, Шрамков, кто тебя послал морить людей? спрашивали его.
— Зачем ты их опаивал? допытывались другие.
— Какой это мы у тебя разбили пузырек?
— Отчего умерла Щеглова и мортусы ли ее задавили?
Требуя ответов на все эти вопросы, женщины в то же время принуждали его дать им подписку в справедливости их подозрений относительно чумы, и уверяли, что после подписки его отпустят.
Доктор умолял их не требовать от него подписки; говорил, что он не имеет на это права; но его не слушали— от него требовали подписку.
— Да что вы его слушаете! он заодно со всеми, кричали из толпы.
Снова началось битье и таскание по земле злополучного доктора. Затем его повели в бухту и искупали в наказание за то, что и их гоняли для купанья в бухту «подобно скотам».
После купанья доктор приведен был слова в слободку, заперт в тот самый дом, в котором умерла Зиновия Щеглова, и снова потом выпущен.
Между тем с так-называемой «южной стороны» Севастополя показался небольшой отряд вооруженных солдат, но, заметив толпу более чем из пятисот женщин, не решился идти на явную опасность, а воротился назад за подкреплением.
С «северной стороны» Севастополя видно было, что делалось на «южной»: там происходили приготовления войск к формальному походу против «северной стороны».
Заметив это, женщины пришли в ужас, и подняли вой. На этот вой выбежало еще до полутора тысячи женщин с детьми—вопли и крики отозвались во всем городе.
Узнав в чем дело, матросы, в числе трехсот человек, пришли на помощь своим женам, детям я родственницам. Улицы оказались тесны для такой многочисленной толпы, и вся масса волнующейся черни повалила на площадь. Тело Щегловой было также вынесено на площадь.
Наконец с «южной стороны» является и войско. Несколько взводов вооруженных солдат, под предводительством контр- адмирала Скаловскаго, войдя в слободку, обложили бунтовщиков с двух сторон.
Так как Скаловский не имел от губернатора полномочия действовать силою оружия, то он приказал одной роте солдат пробиться сквозь толпу женщин к трупу Щегловой, чтобы взять ее и похоронить по карантинным правилам.
Толпа, впрочем, вела себя благоразумно, и, не оказывая никакого сопротивления, выдала солдатам не только труп Щегловой, но и доктора Шрамкова, бывшего как бы в плену, с тем чтобы он отправлен был на Павловский мысок для выдерживания установленного карантина, так как на некоторое время он был заключен, по его же уверениям, в чумном доме и мог поэтому заразиться чумой.
Но Скаловский имел еще два других поручения от губернатора — уговорить толпу разойтись по домам и потом склонить все население Корабельной слободки к тому, чтобы оно вышло во временный лагерь, так как мера эта всегда считалась самою успешною для искоренения чумы.
Но на оба предложения контр-адмирала толпа отвечала дерзостью и негодованием.
Скаловский, видя неудачу, должен был удалиться на «южную сторону», а приведенное войско оставил на «северной» для того, чтобы оно препятствовало сообщению бунтовщиков с Севастополем.
Тогда Сталыпин посылает к бунтовщикам новую вооруженную силу. Тот же Скаловский привел еще три роты Елецкого пехотного полка, чтобы поддержать уже высказанные толпе свои требования; но толпа продолжала стоять на своем — ни по домам не расходилась, ни в лагерь не уходила.
Так прошел первый день мятежа.
1-го июня в Севастополь приехал Таврический гражданский губернатор и настойчиво советовал Сталыпину принять против бунтовщиков самые решительные меры. Мнение гражданского губернатора поддерживали и все прочие военные власти, сознававшие невозможность действовать на раздраженную толпу увещаниями. Но Сталыпин, вследствие своего мягкого характера и все еще надеясь, что бунтовщики образумятся, никак не решался прибегнуть к вооруженной силе.
Гражданский губернатор, поссорившись с Сталыпиным, уехал в Симферополь, ничего не сделав для подавления мятежа.
К бунтовщикам снова являются власти—Скаловский, генерал-губернаторский чиновник по особым поручениям Семенов и другие.
Вместо увещаний начинаются жёсткие и неуместные угрозы.
— Если вы не покоритесь — кричит Семенов к толпе— то вас погонят на купанье как скотов, пожгут ваше имущество и насильно выведут в лагерь.
На эти угрозы женщины отвечали:
— Ни по домам не пойдем, ни в лагерь не выйдем, ни купаться не станем и ни на какую новую окурку не согласны.
Сталыпин посылает, наконец, к бунтовщикам священников.
Бунтовщики со слезами говорят священникам, что они нисколько не хотят упорствовать перед начальством, что они с радостью разошлись бы по домам, но что они дольше не могут выносить оцепления.
— За все время оцепления—говорили они — у нас, по причине окурки я карантинных мер, не осталось никакой одежды и обуви, ни у кого нет чего есть, чем избу вытопить. Весь скот наш или подох с голоду, или продан за бесценок, или его постреляли. Мы сами от голоду пришли в совершенное изнеможение и не можем кормить грудных ребят, которые от этого страждут и неминуемо должны умереть. Мы не бунтовщики, мы есть хотим, а Семенов говорит, что нас будут купать как скотов и имущество наше пожгут.
Ушли и священники, а толпа все стоят на площади в осадном положении.
Сталыпин посылает к толпе с новыми предложениями: чтобы склонить толпу выйти в лагерь, он обещает, сверх положенного провианта, топлива и воды, по пяти копеек ассигнациями па душу на приварок.
Сталыпину отвечают, что прежнего провианта было недостаточно, а на пять копеек никакого приварка приготовить нельзя по причине страшной дороговизны припасов.
Старик губернатор теряет, наконец, терпение и велит разыскать всех зачинщиков: «буде такими окажутся мужчины, то предать их военному суду, а если женщины, то наказать их сильно розгами через мортусов в разных частях города, для лучшего примера». Бунтовщикам, кроме того, объявляют, что против них употребят оружие,
— Мы не бунтовщики и зачинщиков между вами никаких нет, и нам все равно — умереть ли с голоду, или от чего другого.
В заключение толпа объявила, что она намерена быть в оцеплении только до 3-го июня, когда кончится первый семидневный срок, и что никоим образом не желает быть в оцепления второй, четырнадцатидневный срок, назначенный для снятия цепи по случаю смерти Зиновии Щегловой.
Положение дел было критическое. Женский бунт переходил в общий мятеж. Все матросы, которые и не находились на площади, а оставались в гавани и в бухте при своих обязанностях, пришли в то же непокорное состояние, потому что у многих из них между оцепленными на площади были или жены, или дети, или другие родственники.
Сталыпин понял опасность положения города и доносил генерал-губернатору князю Воронцову, между прочим, следующее:
«Я не должен скрыть от вашего сиятельства, что расположение умов частей морских экипажей, в Севастополе находящихся, весьма неблагонадежно, так что они, почти не скрываясь, говорят, в случае если бы начальство вознамерилось действовать на мятежников силою оружия, то они выжидают только первого выстрела, чтобы идти к ним на помощь».
В виду такой грозной перспективы, Сталыпин созвал военный совет. Па совете решено: «содержать Корабельную слободку в строгом оцеплении и стеснении тем усиленным количеством войск, которые имеются в распоряжении, доколе ослушники не примут в надлежащее повиновение».
По повиновение было невозможно — ослушникам нечего было есть.
При всем том, на своем совете толпа решила — до 3-го июня, до конца положенного начальством срока, не пробиваться через цепь даже и в том случае, если б она состояла не из вооруженных войск, а из одних только деревянных рогаток.
Действительно, эта нестройная и голодная масса вела себя вполне благоразумно. Когда к оцепленным явился Скаловский, чтобы лично осведомиться о положения дел, оцепленные с клятвами, обещали ему не нарушать оцепления. Они только просили милости, пощады, потому что были голодны.
Но когда Скаловский объявил оцепленным решение военного совета, то осажденные пришли в ужас, женщины подняли плач, слившийся в один общий вой. Они рвали на себе волосы, целовались друг с другом и в отчаянья бегали по всему оцеплению. Дети следовали примеру матерей. Мужчины плакали навзрыд.
Сцена эта произвела на войско самое тяжелое впечатление, поддерживавшееся постоянными причитаньями женщин и ревом детей во всю ночь на 3-е июня.
Это была роковая ночь.
Во время всеобщего воя и плача, многие из оцепленных женщин и находившиеся с ними мужчины составили нечто вроде военного совета. На этом совете решено было, что на другой день осажденные так или иначе должны прорвать цепь. Так как без борьбы дело не могло обойтись, то шкиперский помощник Кузьмин вызвался научить осажденных боевому фронту, на что и получил единодушное согласие. Тотчас же, в качестве командира, Кузьмин начал обучать всех осажденных боевым приемам, и в этом странном ученье, среди ночного плача, женщины принимали весьма деятельное участие. В течении ночи оцепленным преподаны были приемы маршировки, различных боевых эволюций, группировке по ротам, по взводам и указывались выгодные позиции в предстоящей битве.
А между тем сторожевые войска должны были смотреть на эти странные, небывалые ночные боевые приготовления и ждать дальнейшей развязки.
На военном же совете осажденные определили время начала действий и самый план наступления на войска и на город. На совете же составлен был список всем лицам, которые должны были пасть жертвою народного озлобления.
Севастопольский военный губернатор, генерал-лейтенант Сталыпин внесен был в список жертв первым. За ним следовали члены продовольственной комиссии, члены медицинского совета, далее—флотский начальник контр-адмирал Сальти и прочие члены, начальник карантинной линии князь Херхуладзев и карантинные чиновники.
Смерть ожидала, следовательно, и Верболозова, оскорбителя и врага Надежды Кириловой.
На совете же, наконец, постановлено было—послать лазутчиков для возмущения Артиллерийской я Каторжной слободок, а равно и всего Севастополя или, по крайней мере, для разведыванья, как они отнесутся к предприятию осажденных.
Исполнение этого поручения возложено было на матроса первой статьи Соловьева. Ему была дана подробная инструкция как действовать и как донести осажденным о результате командировки. По инструкции, в числе доводов для начала бунта были следующие: жители Корабельной слободки умирают с голоду; их всех хотят перебить или сослать в Сибирь, и поэтому они хотят взбунтоваться; наконец, как скоро начнется возмущение, то в нем примут участие татары и арнауты, а «турки пришлют из Константинополя свой флот, о чем им в свое время дано знать. Условный знак для начала возмущения—колокольный звон и крики «ура».
Соловьев отправился. На дороге он встретился с плотником Никитиным и уговорил его идти с собой для совместного выполнения взятого им па себя поручения.
Прежде всего лазутчики посетили адмиралтейство, где находились казармы рабочих экипажей. Рабочие экипажи все были готовы пристать к бунтовщикам.
В Адмиралтейской слободке лазутчики нашли расположение умов еще более для них благоприятное и готовое к мятежу.
Наконец они зашли и на «хребет Беззакония» — уголок, преимущественно заселенный матросами и голытьбой. Голытьба и матросы с радостью шли помогать осажденным.
Но здесь, часов уже в одиннадцать, лазутчики были схвачены и приведены к губернатору.
Ни мало не медля, Сталыпин отряжает против бунтовщиков бригадного командира Воробьева с тремя батальонами сухопутного войска и двумя орудиями, совершенно обнажая таким образом город от войск, в котором остался один только орловский батальон.
Но и Воробьев не должен был еще употреблять в дело вооруженную силу, а только строго наблюдать за оцепленными.
В пять часов к оцепленным командируется Скаловский, который к немалому удивлению узнает, что осажденные ведут себя смирно и никаких признаков возмущения не обнаруживают, а напротив клятвами заверяют, что не думали и не думают выходить из карантинной цепи.
Но тишина эта была перед бурею. Раньше вечера бунтовщики ничего не думали предпринимать. Они ждали, что к вечеру цепь будет снята. Они сами решили, что будут повиноваться до срока, раньше определённого начальством для снятия цепи, а срок этот, по их мнению, кончался вечером.
Но вот наступил и вечер, а цепь не снимается.
Толпа стала волноваться. Осажденные заявили открытое намерение прорвать цепь, и стали напирать на нее, выставляя вперед малолетних детей и грудных ребятишек. Женщины опять подняли рыдание и вой. лезли на цепь массою, защищаясь детьми, как щитами.
Воробьев немедленно посылает к губернатору спросить— что ему делать.
Но между тем цепь от напора массы начала уже прорываться.
В этот критический момент получается приказ губернатора чрез плац-адъютанта: действовать против толпы оружием и продолжать стрельбу до тех пор, пока непокорные с площади не пойдут прямо в лагерь.
Воробьев командует батальонам строиться в боевой порядок и наводить на бунтовщиков пушки. Испуганная толпа с криком бросается назад, и, припав к земле, снова ставит перед собою детей.
Это был ловкий маневр со стороны бунтовщиков.
Когда бригадный командир дал приказ стрелять, артиллеристы, видя перед собою детей, пришли в недоумение—куда направить выстрелы, и первый залп пустили на воздух.
Такой неожиданный исход первого выстрела ободрил бунтовщиков; но он навел ужас па бригадного командира. Канонир Елисеенко наотрез отказался стрелять в детей, и таким образом единственная надежда на артиллерию — пропала.
Воробьев очутился в руках бунтовщиков. Цепь разорвана. Оцепленные и оцеплявшие смешались, бросаясь целовать друг друга. Пушки взяты. Все офицеры также взяты в плен, потому что они не значились в числе приговоренных к смерти.
Воробьев тотчас же был растерзана, самым зверским образом.
Затем вся эта смешанная толпа — женщины, за ними матросы и солдаты с торжеством и неистовыми криками «ура» двигается на «южную сторону», на Севастополь.
Чтобы охватить город со всех сторон, толпа разделяется на партии. Одна из этих партий, под предводительством яличника Кондратия Шкарелупова, отправляется на Павловский мысок, к церкви св. Владимира, взламывает дверь колокольни и бьет в набат: вместе с набатным звоном колоколов раздается нескончаемое «ура». Это было сигналом для жителей всего Севастополя с слободами.
Партия Шкарелупова бросается по всем домам и казармам искать, нет ли там кого из приговоренных к смертной казни, и находит лишь одного Шрамкова.
Все доктора — и Шрамков, признавший Зиновию Щеглову зачумленною, и Верболозов, оскорбивший Надежду Кирилову, и Ланг — все были в числе приговоренных.
Но странно — как это часто бывает с обезумевшею толпою — Шрамков был пощажен: так как он находился в карантине, то толпа решила не трогать казённого здания, не разорять карантина—и Шрамков остался в живых.
Затем партия Шкарелупова идет на Севастополь, где должны были совершиться все ужасы возмущения, и соединяется с другими партиями.
Первым делом бунтовщиков, по переходе на южную сторону, было броситься на кабаки. Но полиция предупредила их. Угадывая, на что может быть способна опьяневшая толпа, и без того уже обезумевшая, полиция поспешила, пока имела возможность, разбить бочки в питейном подвале и в тех кабаках, к которым за толпою доступ был еще возможен. При всем том водка не вся была уничтожена, и бунтовщики, бросившись на оставшиеся в целости питейные дома, успели выпить дарового вина на 3712 руб. 40 коп.
Водка поддает жару диким зверям, и эти несчастные звери, под именем «доброй партии», вновь делятся на отдельные партия и рассыпаются по всем улицам Севастополя словно на охоту — за ловлею своих жертв.
Нескончаемое «ура» и набатный звон сопровождают это возмутительное дело.
Одна партия бросается на адмиралтейство, разбивает его ворота и принимает к себе двести матросов рабочих экипажей.
Продолжение в комментариях.
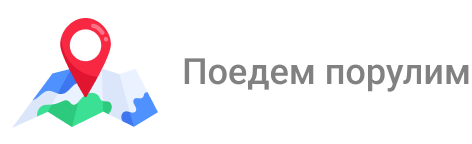

Все о медицине
11K пост39.4K подписчиков
Правила сообщества
1)Не оскорбляйте друг друга
2) Ув. коллеги, при возникновении спора относитесь с уважением
3) спрашивая совета и рекомендации готовьтесь к тому что вы получите критику в свой адрес (интернет, пикабу в частности, не является медицинским сайтом).