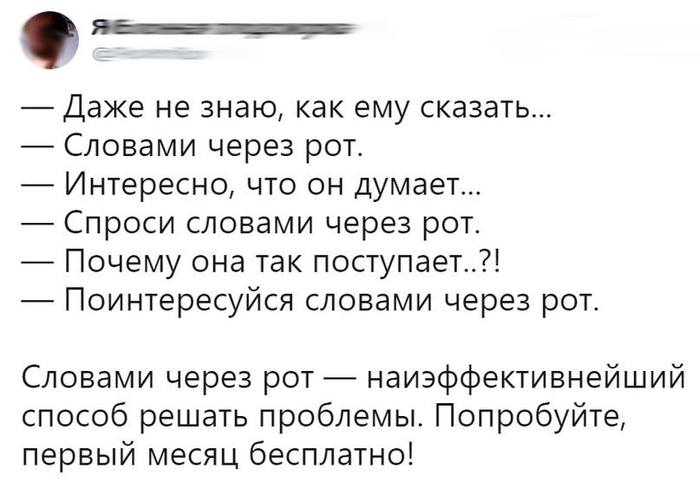Для чего нужна психотерапия.
Автор - Яр Громов
Ех-совок решительно ставит знак равно между словами психиатрия и психотерапия.
Основа слова "псих" - че не ясно? Псих и псих, раз обратился к специалистам, то все с тобой понятно.
Если в психотерапию пошел мужчина, то еще и слабак. Настоящие мужики (ТМ) решают свои вопросы сами.
В последнее время в общественном бессознательном обозначилась тенденция на легализацию психотерапии, об этом стало даже возможно говорить вслух: я работю с психотерапевтом.
При этом большая часть людей подобное заявление все равно воспринимают сродни признанию "я гей". И потом начинается шушукание: "а ты в курсе, что он того? спиной к нему лучше не поворачиваться".
Кароч, Вишенка, хочу внести свои 5 копеек в культпросвет и рассказать, почему психотерапия - это практически мастхэв.
И начну я с интересного факта, что человек имеет самый большой размер головного мозга (пропорционально к размеру тела) среди всех биологических видов планеты.
Это, конечно, повод для гордости, но все имеет свою цену. Например, минимальный набор предустановленных биологических программ и самый долгий период взросления.
Задумывались когда-нибудь, почему щеночек через 5 недель - это уже маленькая мимими собачка, готовая носиться по квартире и ссать в тапки (или это привилегия котенков?) , а человеческая личинка в этом же возрасте еще не может осознанно коснуться пальцем носа?
У котенков итд все базовые программы поведения уже записаны в черепной коробке от рождения. Быстрый период активации и привыкания, и все, го го го.
Но не у людей. что же не дает нам иметь со старту крутой пак софта на борту?
Все дело в размере мозга.
Мы с трудом проходим родовые пути, а если бы нам еще поверх записать большой набор предустановленных программ, то примерно каждые первые роды заканчивались бы смертью одного или обоих участников процесса.
Но этот баг оказался фичей. Мы оказались (вынужденно) чемпионами по обучению и спокойно записываем себе все необходимые программы в процессе взросления.
Да, на это уходит лет пять, но это имеет свои преимущества.
У гепарда 95% программ прошиты сразу, помести его в условия Сибири - пиздец гепарду. Бурому медведю тоже пиздец, если его переместить в савану.
А человеку похуй, он записывает все программы ИСХОДЯ ИЗ СВОЕГО ТЕКУЩЕГО ОКРУЖЕНИЯ, включая социальные, географические и прочие данные.
Именно поэтому мы обогнали тараканов по выживаемости вида и распространились от Якутии до тропиков.
Чемпионский титул по обучению делает нас идеально приспосабливаемыми к любым условиям, только дайте нам 3-5 лет на старте.
И все бы было збс, если бы не одно но: мыслительный аппарат на старте у нас достаточно слабый с точки зрения критической логики и понимания причинно-следственных связей.
Кроме того, мозг очень энергозатратный. Думать, учиться и осмысливать - это пиздец какое энергозатратное занятие.
Поэтому многие программы, которые мы записываем себе на наш "жесткий диск", пишутся очень дилетантным программистом (нами же в возрасте до 5 лет).
Кроме того, окружение этого юного программера часто тоже является нубами, и у них качество их программного обеспечения и навыки проверки и корректировки чужого исходного кода стремятся к нулю.
Если просто, то я о том, что часто некому посмотреть через плечо и сказать: "твой код говно".
Ну или как-то более ласково, типа "смотри, у тебя вот здесь полный пиздец в регулярках и переменных, а это приводит к куче багов при проверках, воспроизведении программ итд. Лучше бы вот так..."
Хотя, возможно, все это тоже не баг, а фича.
Все, перехожу к мясу.
В процессе получения первично необходимого опыта мы все заняты решением двух первичных базовых программ:
- выжить
- максимально быстро приспособиться к окружающей среде, включая социум, т.е обучиться. Что, по сути, см. пункт 1.
Именно поэтому человеческих личинок не остановить в процессе познания мира: хочешь жить - успей учиться.
И мы учимся. Как можем
Т.к мыслительный аппарат еще слабый, навыки формирования программ слабые, но мы пишем все это себе в память как получается.
И здесь самое время объяснить, зачем нужны эти программы.
Помнишь, я говорил, что мозг пиздец какой энергозатратный и думать - это дорого?
Так вот, программы решают две важные задачи:
- обеспечить выживаемость.
- снизить энергозатраты, что, по сути, опять смотри пункт 1.
Если какая-то модель поведения позволила мне выжить, то я запишу ее и буду воспроизводить уже "без думания". Она уже "проверена на эффективность" и главное, на воспроизведение можно не тратить умственную энергию.
Кроме того, мы экономим и время на обучение новому варианту поведения. Ибо нах, старый же в прошлом сработал!
И вот эта вся механика приводит к тому, что мы к 5 годам формируем себе набор программ, которые ВНИМАНИЕ!!!111!!! руководят нашим поведением ВСЮ, БЛЯ, НАШУ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ.
И еще раз:
- это программы, созданные детским мыслительным аппаратом, с минимальными входящими данными и с полным отсутствием критической логики
- это программы, которые способствовали выживанию в нашем 1-5летнем возрасте.
Т.е, актуальность этого софта для меня, 37летнего, с моими текущими возможностями к выживанию, взаимодействию с окружающим миром итд, вызывает много вопросов.
Самое главное: детское мышление эгоцентрично и инфантильно-магическое. Я центр вселенной и все должно быть так, как мне хочется, я маленький, мир большой, взрослые и мир мне должны.
Примерно вот такой набор установок имеет каждый первый в детстве.
Они важны и нужны на этапе усвоения первичного опыта, чтобы мы не выебывались особо, что повышает наши шансы на выживание.
Родительство это пиздец (окей, не самая простая и приятная штука), и нужны были механики для регулирования поведения родителей и детей, а-ля "я не понимаю, почему бы мне прямо сейчас не решить эту проблему раз и навсегда".
Поэтому (в том числе) каждый первый имеет в детстве то самое инфантильное мышление.
Все, почти финал.
Есть мальчик Ярослав. До пяти лет он сформировал свой набор программ и представлений о мире, в том числе список того, что этот мир ему, Ярославу, должен.
Прикол только в том, что миру похуй на эти представления маленького Ярослава, даже если последнему уже 37 лет.
И дальше выбор за самим Ярославом.
Или оставаться до самой смерти с набором детских программ и иллюзий о "мне должны", или начать адекватиться и постепенно переписывать исходный код.
Оставлять в коде то, что важно. Понимать, где "костыли" (участки кода, которые написаны ну пиздец как криво, но это работает), которые трогать нельзя, потому что на них держится вообще весь набор базовых программ.
И переписывать все, что не актуально. Включая свои иллюзии относительно мира.
Как? В терапии. Когда опытный товарищ говорит тебе "смотри, вот здесь у тебя пиздец, а не код, а тут ты вообще пытаешься делить на ноль".
Т.е, вся психотерапия и психологическое взросление - это болезненный (хотя есть мнение, что не обязательно так) путь отказа от иллюзий о себе и мире.
А психологическая зрелость - это более-менее объективное и адекватное понимание себя, своих границ, своих обязанностей и прав как взрослой, самостоятельной, автономной боевой единицы.
Можно оставаться до смерти в психологическом возрасте пятилетки? Да
У нас процентов 90 страны так и живет.
Но вся кайфушечка и взрослое взаимоотношение с жизнью доступно зрелым.
Начинается все с признания себе, что возможно с твоим исходным кодом не все ок.
А повторяющиеся ситуации в твоей жизни - это попытки тебя заадекватить и вытащить из иллюзий и детского проживания жизни.
Т.к признать, что мой код говно, а я инфантильная личность, это не особо кайфовое занятие, в терапию часто приходят в моменты кризисов, когда наши детские программы и иллюзии трещат по швам от контакта с бессердечной и удивительной реальностью.
Так что, какая разница, какие на тебе кеды, если у тебя вокруг все виноваты. (с)
Нужна тебе психотерапия или тебе нормально с исходным кодом - дело личное.
Но те самые, вкусные, заработки и отношения, образ жизни и прочие кайфушечки лежат по ту сторону работы с собой.
ps - я все упростил и метафоризировал, но основная суть остается верной.
пользуясь случаем, выражаю в очередной раз благодарность моему основному терапевту и всем учителям, инструкторам, наставникам и старшим товарищам за то, что в свои 37 я перешагнул свои психологические 5 лет (хотя это не точно).
В любом случае, я на этом пути, дорогу осилит идущий.