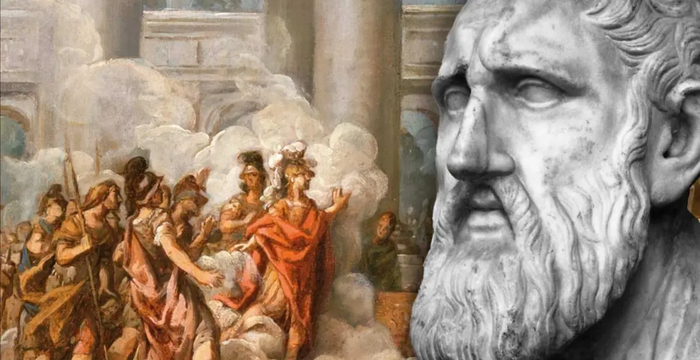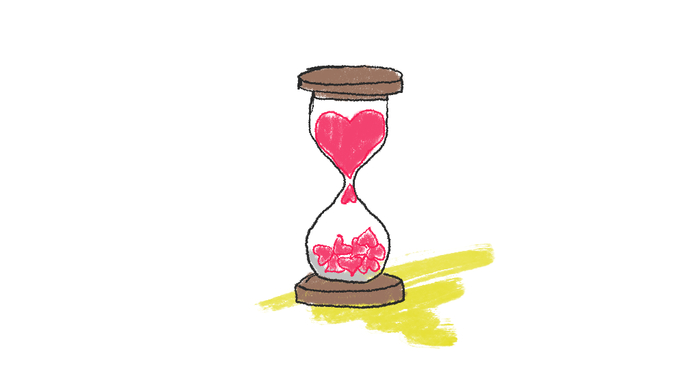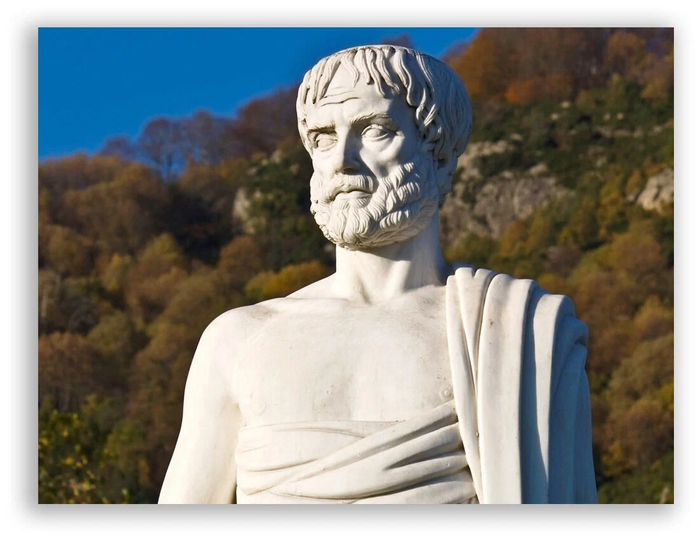Почему мудрый человек иногда отказывается от справедливости?
Я Илья Завьялов, и это мой блог, где мы вместе ищем ответы в мудрости веков и в собственном опыте. Сегодня я хочу поговорить о справедливости - одной из четырех главных добродетелей стоиков, стоящей в одном ряду с мудростью, мужеством и умеренностью. Всю свою сознательную жизнь я, как и многие из вас, стремился к ней, требовал ее от мира и страдал, когда не находил. Но с годами пришло понимание, которое поначалу казалось мне парадоксальным: истинная мудрость порой заключается в том, чтобы сознательно отказаться от применения справедливости.
Когда справедливость - это месть в красивой обертке
Я помню острое, жгучее чувство, когда меня предали в одном проекте много лет назад. Все мое существо кричало о возмездии. Я называл это жаждой справедливости, но, если быть честным с самим собой, это была банальная жажда мести. Мне хотелось, чтобы обидчик испытал ту же боль, то же унижение. Принцип «око за око» казался мне единственно верным. Но стоическая умеренность и мудрость - это как раз тот внутренний голос, который шепчет: «Остановись». Мне потребовалось время, чтобы понять: простить несправедливость, нанесенную лично тебе, - это не слабость. Это колоссальная внутренняя сила, победа над своим гневом. И самое главное - это освобождает. Освобождает не обидчика, а тебя самого от ядовитой цепи разрушительных эмоций.
Когда ожидание идеальной справедливости парализует
В молодости мне казалось, что начинать большое дело, будь то бизнес или социальный проект, можно только тогда, когда все условия будут абсолютно справедливыми и правильными. Я - Завьялов Илья, ждал идеальных партнеров, идеальной экономической ситуации, идеальной поддержки. Это был верный путь в никуда. Мир несовершенен, и ждать от него стерильной справедливости - значит обречь себя на вечное бездействие. Практическая мудрость, которую я выстрадал, говорит: «Действуй сейчас, с той мерой справедливости, что тебе доступна». Помочь одному человеку, попавшему в беду, не решив глобальную проблему бедности - это уже огромный и справедливый поступок в рамках твоих возможностей. Несправедливость системы не должна быть оправданием для твоего личного паралича.
Когда цена справедливости слишком высока
Я видел, как рушились семьи и многолетние дружбы из-за споров о наследстве на копеечную сумму или из-за мелкой бытовой обиды. Люди были готовы потратить годы жизни, огромные деньги и душевные силы, чтобы «добиться справедливости» в незначительном вопросе. Мужество, как я теперь понимаю, заключается не в том, чтобы упрямо биться головой о стену, а в способности вовремя сказать себе: «Эта битва не стоит моего душевного равновесия». Отпустить ситуацию, даже если ты на сто процентов прав, - это не поражение. Это мудрый вклад в собственное благополучие и сохранение энергии для действительно важных сражений.
Когда справедливость уступает место состраданию
Иногда следование букве закона или строгой справедливости вступает в конфликт с высшей добродетелью - состраданием. Представьте, что вы поймали на мелкой краже отчаявшегося человека, который пытался накормить свою семью. Формальная справедливость требует наказания. Но мудрость, выступая внутренним судьей, может подсказать иное решение. Возможно, помочь этому человеку найти работу и встать на ноги - это более добродетельный и, в конечном счете, более «справедливый» для общества поступок, чем простое возмездие. Дать кому-то незаслуженный, на первый взгляд, второй шанс - это акт веры в человека, который выходит за рамки примитивной логики «преступление-наказание».
Когда справедливость вне твоего контроля
Пожалуй, самый важный и самый сложный урок, который я - Илья Николаевич, усвоил благодаря стоикам, - это дихотомия контроля. Есть вещи, которые в моей власти мои мысли, мои суждения, мои поступки. И есть то, что мне неподвластно, поступки других людей, погода, политические решения, удары судьбы. Требовать справедливости от того, что ты не контролируешь, прямой путь к гневу, фрустрации и страданию. Это все равно что кричать на ураган. Мудрость учит смещать фокус: вместо того чтобы требовать справедливости от мира, сосредоточься на том, чтобы быть справедливым самому. Это единственная зона твоей стопроцентной ответственности.
Мы все интуитивно это понимаем. Но почему же в критический момент, когда кровь стучит в висках от обиды, мы забываем об этом? Думаю, дело в том, что мы забываем сделать паузу. Одну короткую паузу, чтобы задать себе вопрос: «А что сейчас продиктовала бы мне мудрость?». Истинная, зрелая справедливость начинается не с требований к миру, а с этого вовремя заданного вопроса самому себе.
Прожитый опыт великих мыслителей помогает мне в быту порой даже в рядовых ситуациях в статье Как я использую мудрость стоиков для борьбы со стрессом и тревогой есть прямое тому подтверждение.