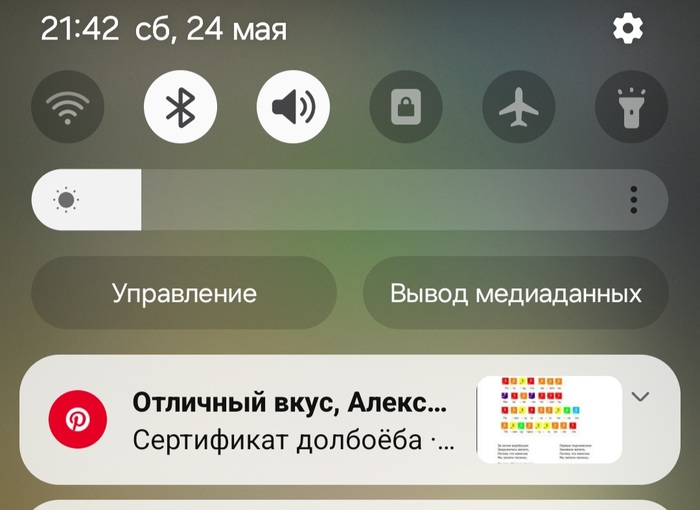Солнце встало над Свинцовыми Огородами, разбудив Петровича хриплым криком петуха Васьки. Дед вышел на крыльцо, потянулся, кости затрещали, как сырые дрова. Воздух пахнул дымком из соседской трубы, кислым квасом и пылью, осевшей за ночь на листьях лопухов размером с телячью голову. Баба Агафья уже возилась у печи, грохоча чугунками. "Каши накотел, старый?" – крикнула она в сенцы. "Щас, бабка, щас..." – пробурчал Петрович, сплевывая в кусты мяты, отчего те на мгновение замерли, а потом зашевелились еще сильнее.
Пыль на дороге, поднятая проехавшей телегой дяди Митрия, зависла в воздухе не просто столбом, а сложилась в нечеткое подобие лица бабы Клавы, которая умерла прошлой осенью. Лицо пыльное зевнуло, и оттуда вылетело три воробья, чирикающих наоборот: "Чик! Чик! Чик!". Петрович почесал затылок. Угли в печи Агафьи вдруг зашипели не от воды, а от капли тишины, упавшей со стропил. Каша в котелке заволновалась, как река перед ледоходом, и на поверхности проступил узор, похожий на карту местных болот, где, как все знали, жил водяной в резиновых сапогах тридцать седьмого размера. Куры перестали клевать зерно и выстроились в шеренгу, уставившись пуговичными глазами на запад, где ничего особенного не было, кроме кривого сарая дяди Федота.
Борода Петровича, всегда седая и клочковатая, вдруг начала расти вниз, проросла сквозь половицы и превратилась в веревочную лестницу. "Ну, бабка, пойду, гляну..." – сказал он не то Агафье, не то воробью, сидевшему на левой лопате. Агафья достала из печи не кашу, а моток колючей проволоки, горячей и поющей тонким голосом мальчишки-пастушка. Она стала вязать из нее носки, напевая песню про репу, которая сбежала в лес и вышла замуж за медведя-шахтера. Тень от колодца отползла к плетню, свернулась клубком и захрапела, издавая запах моченых яблок и дегтя. Дядя Митрий проехал обратно, но теперь его телега была запряжена не лошадью, а двумя большими, очень озабоченными карасями, которые тянули воз, полный... тишины. Тишина высыпалась на дорогу и залила куриную шеренгу по колено. Куры закукарекали.
Петрович спустился по своей бороде в подполье, где вместо картошки лежали перезревшие лунные серпы, звенящие от сквозняка. Он взял один, отломил кончик, и оттуда потек густой мед цвета ржавчины. Мед запел хором дьячков, но слова были не на русском, а на языке лопнувших пузырей в квашеной капусте. Наверху, Агафья доила корову Зорьку, но вместо молока из вымени сочились мелкие, липкие сумерки. Сумерки падали в ведро с жалобным писком и тут же сворачивались в клубочки, которые тут же раскатывались по двору, оставляя за собой следы из битой посуды и вчерашних снов. Лицо бабы Клавы из пыли сморщилось и чихнуло, породив ураган из куриных перьев и забытых имен. Перья прилипли к тишине, залитой на дороге, и превратились в чешую. Двор задышал, как огромная рыба, выброшенная на берег. Запахло... пустотой. Где-то далеко, за лесом, залаяла собака, но лай был квадратным и оставлял синяки на небе. Петрович вылез из подполья, держа в руке не серп, а кривой вопль кошки, попавшей под дождь из гвоздей. "Бабка," – сказал он, но его рот был полон теплой золы и шепота прошлогодних листьев. Агафья обернулась. Вместо лица у нее была... дырка в завтра. И оттуда дуло.
Куриные боги проснулись в грязи с неба. Васька-петух клюнул собственное отражение в луже соли и утонул в вертикальном крике. Печь Агафьи вдруг запела гимн рельсам, сложенным из мокрого сена и дедовских костей, а дым из трубы свернулся в петлю времени и затянулся туже. Дед Петрович посмотрел на свою тень, которая отвязалась и пошла пахать поле слезами, оставляя борозды из спутанных волос и детских вопросов без ответов. Сарай дяди Федота вздохнул и выдохнул стаю кирпичей, которые пролетели сквозь пыльное лицо бабы Клавы, не оставив следов, кроме запаха горящей сметаны и ощущения, что вторник уже был. Вода в колодце загустела в стоячее "зачем?". И тогда дождь из гвоздей пошел вверх, забивая облака обратно в тучи, а по бороде Петровича, которая теперь была просто дыркой в земле, полезли наверх кривые огурцы, шепчущие на языке сломанных грабель о том, что корова Зорька... это и есть настоящий... хлеб? Или... нет. Ветер подхватил последнюю мысль и унес ее в сторону болот, где водяной в сапогах 37 размера заплакал чернилами и растворился в первом слоге слова "понедельник", которого никогда не существовало. Дед Петрович исчез. На его месте осталась только лужа бороды и стойкое ощущение, что кто-то только что съел все ложки.