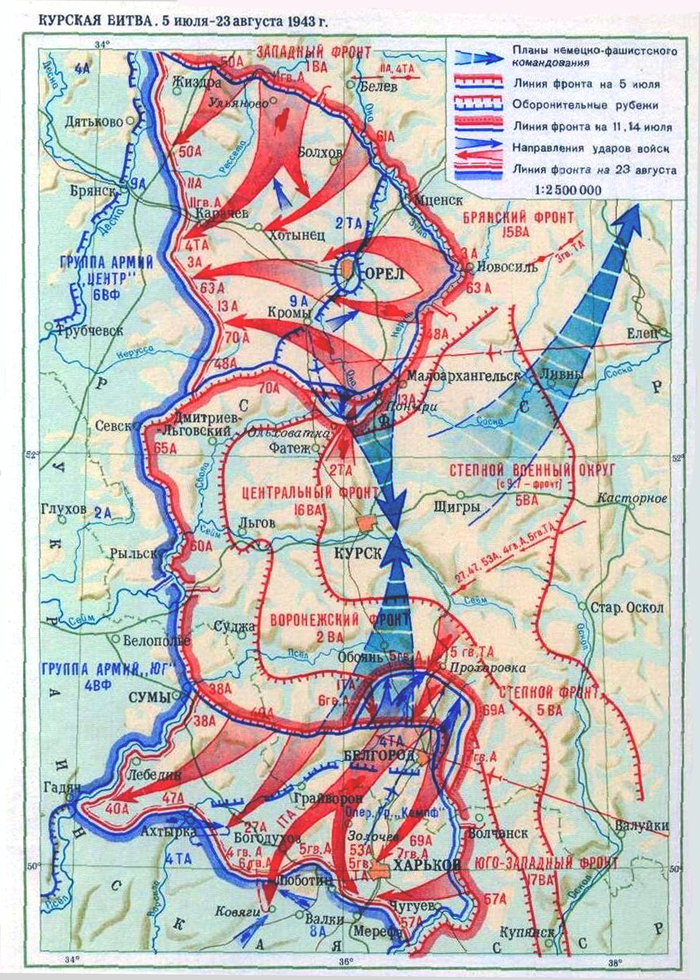"Ледокол" на чистой воде (часть 3) - полный разбор лжи книги Виктора Суворова
Глава 10 «Ледокола» посвящена “Линии Сталина” и “Линии Молотова”, она содержит по большей части рассуждения, цифры и технические данные.
Несоответствие действительности содержания этой части писаний Суворова очень подробно раскрыта в 13-й главе книги историка Алексея Исаева «Антисуворов: Большая ложь маленького человечка». Кто желает – может ознакомиться. Там всё расписано детально, а здесь я приведу только несколько эпизодов из 10-й главы творения Виктора Суворова.
Сначала, доказывая неприступность линии имени Сталина, он пишет:
«“Линию Сталина” было невозможно обойти стороной: её фланги упирались в Балтийское и Чёрное моря» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
А уже через несколько абзацев показывает ту же самую линию укреплений совсем с другой стороны:
«“Линия Сталина” была универсальной: она могла быть использована для обороны государства или служить плацдармом для наступления, именно для этого и были оставлены широкие проходы между УРами...» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Чисто формально – противоречия в утверждениях господина Резуна здесь как бы и нет. Но что с того, что нельзя обойти, если есть возможность наступать через те самые “широкие проходы”? Кстати, эти самые проходы имели ширину в сотни километров.
Дальше Виктор Суворов утверждает, что «... линию разоружили, а потом и сломали: она мешала массам советских войск тайно сосредоточиться у германских границ, она мешала бы снабжать Красную Армию в ходе победоносного освободительного похода миллионами тонн боеприпасов, продовольствия и топлива. В мирное время проходов между УРами было вполне достаточно и для военных, и для экономических нужд, но в ходе войны потоки грузов должны быть рассредоточены на тысячи ручейков, чтобы быть неуязвимыми для противодействия противника. Укрепрайоны как бы сжимали потоки транспорта в относительно узких коридорах [...]» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
“Узкие коридоры” в обиходе именуют дорогами. И войска, и транспорт движутся именно по ним. Ряд бетонных ДОТов никак не мог помешать перемещениям своих войск. Дороги совершенно свободно пересекали линию укрепрайонов. В ходе боевых действий ДОТы воспрещали движение по дороге огнем. К “оборонительности” и “наступательности” просветы в линии УРов никакого отношения не имеют.
* * *
«Маршал Советского Союза Г. К. Жуков свидетельствует: “Укреплённые районы строятся слишком близко от границы и имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе Белостокского выступа. Это позволяет противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей белостокской группировки. Кроме того, из-за небольшой глубины УРы не могут долго продержаться, так как они насквозь простреливаются артиллерией” (Воспоминания и размышления, С. 194)» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Это, как вы поняли, речь уже о ”Линии Молотова”. Один из немногих случаев, когда Резун не исказил смысл цитаты. Но! Описанная Георгием Константиновичем ситуация имела место на знаменитом совещании высшего командного состава в конце декабря 1940 года, по итогам которого Жуков стал начальником генерального штаба Красной Армии. Суворов заостряет внимание читателя на том, что укрепрайоны строятся “не там”, но игнорирует тот факт, что Жуков обеспокоен именно возможностью нападения противника на эти УРы. И почему-то именно генерала Жукова, поднимавшего этот вопрос, уже в феврале Сталин назначил начальником Генштаба.
Конечно же Суворов “не замечает” и того факта, что в ходе этого совещания рассматривались также и вопросы обороны.
Ниже цитата из книги маршала Жукова:
«На совещании всё время присутствовали члены Политбюро А. А. Жданов, Г. М. Маленков и другие.
Были сделаны важные сообщения. Генерал армии И. В. Тюленев подготовил содержательный доклад "Характер современной оборонительной операции" [...]
Генерал-лейтенант А. К. Смирнов выступил с докладом на тему "Бой стрелковой дивизии в наступлении и обороне"» (Георгий Жуков, Воспоминания и размышления – Глава восьмая).
* * *
И снова о крепостях.
«Если противник может ударить из районов Бреста и Сувалки, то почему не использовать брошенные старые русские приграничные крепости Брест, Осовец, Гродно, Перемышль, Каунас? [...]
Итак, куда же смотрит ГВИУ – Главное военно-инженерное управление Красной Армии? “Начальник ГВИУ предложил использовать старые русские приграничные крепости и создать зоны заграждений. Это предложение так никогда и не было принято. Ни к чему, мол.” (И. Г. Старинов. Мины ждут своего часа. С. 177)» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Здесь Суворов дописался до того, что крепость Брест не используется и вообще является “брошенной”.
А как обстоит дело с другими крепостями?
Вот цитата из той самой книги о генерале Карбышеве, на которую Суворов уже ссылался ранее:
«Учитывая значительное отставание строительства новых укреплений, Карбышев настоял на создании комиссии для определения состояния старой Гродненской Крепости и возможности её включения в систему Гродненского укрепленного района. Он придавал большое значение этой крепости, расположенной на подступах к городу, на возвышенном правом берегу Немана. [...]
Карбышев вошёл научным консультантом в состав комиссии, которая пришла к выводу, что крепость восстановить целесообразно, но работа потребует значительного срока» (Евгений Решин, Генерал Карбышев – Часть первая).
Собираются использовать старые крепости, но на их восстановление необходимо время и средства. Стройматериалы с неба не падают.
* * *
«На строительстве “Линии Молотова” после прихода Жукова ничего к лучшему не изменилось. Наоборот, строительство некоторых укрепленных районов, например Брестского, было отнесено ко второй очереди (Анфилов, с. 166). Читателю, знакомому с советской действительностью, не надо объяснять значения слов “строительство второй очереди”. На практике это означает почти полностью замороженное строительство» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Читатели, знакомые с советской действительностью, знают, что такое срыв сроков поставки...
Суворов не отрицает факта строительства укреплений, но пытается показать, что строительство ведётся «фиктивно» – чтобы усыпить бдительность немцев.
«... германские войска видели интенсивное строительство, которое не останавливалось ни днем, ни ночью, причем ночами «русские строят свои доты при полном освещении».
Как же это понимать? Ужели такие идиоты, что строительные площадки у самой границы полностью демаскируют каждую ночь полным освещением?! И как связать вместе «строительство второй очереди» и «день и ночь при полном освещении»?! Неужели демонстрация? Именно так. [...]
Генерал-полковник Л. М. Сандалов в своих мемуарах (Пережитое. С. 64) передает слова коменданта Брестского укрепрайона генерал-майора К. Пузырева: “Вынос укрепрайона к самой границе – дело непривычное. Раньше мы всегда строили доты на некотором удалении от границы. Но тут ничего не поделаешь. Мы должны руководствоваться не только военными, но и политическими соображениями…”» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Демонстрация работ по укреплению обороны на участке, где планируется наступление – это военная хитрость. Военная хитрость и политические соображения, согласитесь, вещи разные – это, во-вторых. А во-первых, в оригинальном тексте у Сандалова всё несколько иначе.
«Следующий день ушел на ознакомление с Брестским укрепрайоном, комендант которого генерал-майор М. И. Пузырёв вместе со всем своим управлением находился тогда также в Бресте. Этот укрепрайон простирался главным образом на северо-восток от города по восточному берегу Буга. Работы по сооружению дотов развернулись там широким фронтом. Кроме строительного управления и специальных частей, переброшенных из Слуцка, округ прикомандировал в распоряжение генерала Пузырёва окружной инженерный полк и несколько корпусных саперных батальонов из восточной части Белоруссии.
Расспрашивая коменданта укрепрайона о количестве людей, работающих на строительстве каждого дота, о видах транспорта, которым подвозился на стройплощадки разного рода материал – песок, щебень, арматура, – я высказал предположение, что немцы, наверное, наблюдают за нами с вышек и часть дотов, несомненно, будет засечена их разведкой.
- К сожалению, – вздохнул Чуйков, – немецкая разведка знает об укрепрайоне в целом и расположении отдельных его дотов не только путём наблюдения, но и через свою агентуру. Выселить подозрительных лиц из пограничной зоны пока не удалось. Впрочем, разрушить дот, даже если известно, где он находится, не так-то просто.
- И потом надо иметь в виду, – добавил от себя Пузырёв, – что после окончания строительства все доты будут тщательно замаскированы. Попробуй отличи их тогда от окружающей местности. Правда, вынос укрепрайона к самой границе – дело непривычное. Раньше мы всегда строили доты на некотором удалении от границы. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы должны руководствоваться не только военными, но и политическими соображениями, исходя из известного положения: "Ни одного вершка своей земли не отдадим никому..."» (Леонид Сандалов, Пережитое).
Как говорится, оцените разницу. И заодно ещё раз обратите внимание на тот факт, что работы по возведению оборонительных сооружений ведутся весьма активно.
Полковник Анфилов свидетельствует:
«Строительство укрепленных районов вдоль новой государственной границы осуществлялось высокими темпами. Для организации и руководства оборонительными работами были сформированы несколько управлений начальника строительства (УНС) и 138 строительных участков. В целях обеспечения рабочей силой были сформированы 84 строительных батальона, 25 отдельных строительных рот и 17 автобатов. Кроме того, на строительство привлекли 160 инженерных и саперных батальонов приграничных округов и 41 батальон из внутренних округов. Вместе с этими инженерными частями с весны 1941 г. на строительстве находилось 17 820 вольнонаёмных рабочих. Чтобы представить ежесуточный объем работ весной 1941 г., достаточно указать, что на строительстве оборонительных сооружений в укрепленных районах Прибалтийского особого военного округа ежедневно работали 57 778 человек, Западного особого военного округа – 34 930 человек и Киевского особого военного округа – 43 006 человек. Однако если сил было и достаточно, то средств, в связи с большим объёмом оборонительного строительства, явно не хватало. Вполне естественно, что промышленность не могла в короткие сроки обеспечить строительство всем необходимым. Из-за недостатка строительных материалов (цемент, щебень, дерево, арматура), механизмов, вооружения для дотов, коробов амбразур и другого оборудования тормозилось выполнение намеченных планов строительства» (Виктор Анфилов, Начало Великой Отечественной Войны – Глава вторая).
А Виктор Суворов пытается сформировать у читателя впечатление, что эти самые работы ведутся преднамеренно вяло. Далее он пишет:
«Всё у него [Жукова] всегда было правильно. И раньше, и позже. Но вот в первой половине 1941 года Жуков вдруг превратился в идиота и давал идиотские приказы. Ведь именно в момент прихода Жукова в Генеральный штаб, “укрепрайоны на старых границах по-прежнему разоружались, а строительство на новых границах велось черепашьим темпом” (Старинов. С. 178)» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Резун вставляет вырванную из контекста цитату из книги Старинова и подталкивает читателя к мысли, что темпы строительства оборонительных сооружений искусственно замедляются Жуковым, видимо с подачи самого Сталина. Однако обратимся к источнику, который цитирует Суворов.
«27 сентября [1940 года] был заключен Берлинский пакт между Германией, Италией и Японией. 12 октября гитлеровцы вступили в Румынию. Теперь от Балтийского до Черного моря перед нашими войсками стояли немецко-фашистские полчища. Во второй половине ноября Румыния, Венгрия и Словакия присоединились к Берлинскому пакту. [...]
Но укрепленные районы на старых границах по прежнему разоружались, строительство на новых границах велось черепашьими темпами. Столь же медленно у границы возводились противотанковые и противопехотные препятствия из-за недостатка средств заграждений» (Илья Старинов, Записки диверсанта – Часть III, Глава 4).
Вот так! Речь у Старинова идёт о темпах строительства системы обороны на новой границе осенью 1940 года – задолго до того как Жуков возглавил генштаб РККА. И главное – Старинов называет причину низких темпов строительства: недостаток средств заграждений. Не умысел Жукова, или Сталина, а технические проблемы тормозят возведение заграждений.
Почему разоружались укрепрайоны на старой границе? Потому что производить новое для новой «Линии Молотова» и содержать две линии укреплений являлось задачей непосильной для бюджета тогдашнего СССР.
Далее Виктор Суворов, ни на что не ссылаясь, чисто от себя, выдает рекомендации по обустройству “наступательной” фортификации. Он рекомендует не маскировать УРы, не делать их глубокими, не прикрывать ДОТы минными полями, не тратить много цемента и стали, и тут же пишет, цитируя Жукова:
«Чуть раньше, в августе 1939 года, великий Жуков на Халхин-Голе блистательно применил все эти правила: “Этими мероприятиями мы стремились создать у противника впечатление об отсутствии на нашей стороне каких-либо подготовительных мер наступательного характера, показать, что мы ведем широко развернутые работы по устройству обороны, и только обороны” (Жуков, С. 161). Японцев обмануть удалось, они поверили “оборонительным” работам Жукова и тут же поплатились, попав под его внезапный сокрушительный удар» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Выглядят так, что, мол, Жуков-то – не промах! Не хуже самого Виктора Суворова, понимает, как строить “наступательную фортификацию”.
Ну а что же на самом деле применил Георгий Жуков на Халхин-Голе, в ходе подготовки к удару по японцам? Какими мероприятиями он стремился создать у противника впечатление об отсутствии подготовки наступления? Вот что написал сам маршал:
«В целях маскировки, сохранения в строжайшей тайне наших мероприятий Военным советом армейской группы одновременно с планом предстоящей операции был разработан план оперативно-тактического обмана противника, который включал в себя:
– производство скрытных передвижений и сосредоточений прибывающих войск из Советского Союза для усиления армейской группы;
– скрытные перегруппировки сил и средств, находящихся в обороне за рекой Халхин-Гол;
– осуществление скрытных переправ войск и материальных запасов через реку Халхин-Гол;
– производство рекогносцировок исходных районов, участков и направлений для действия войск;
– особо секретная отработка задач всех родов войск, участвующих в предстоящей операции;
– проведение скрытной доразведки всеми видами и родами войск;
– вопросы дезинформации и обмана противника с целью введения его в заблуждение относительно наших намерений.
Этими мероприятиями мы стремились создать у противника впечатление...» (Георгий Жуков, Воспоминания и размышления – Глава седьмая).
Ну и далее по тексту. Как видите, у Георгия Константиновича вообще ни слова нет о фортификации или каких-то “оборонительных работах”. Опять прямая фальсификация в стиле Резуна!
Как же хорошо Суворов отозвался о деятельности Жукова на Халхин-Голе! Даже назвал его действия блистательными. А давайте-ка вспомним: чем собственно Георгий Жуков на этом самом Халхин-Голе занимался.
В период с июля по сентябрь 1939 года комкор Жуков скрытно подготовил и успешно провёл стремительную НАСТУПАТЕЛЬНУЮ операцию против японских войск в районе реки Халхин-Гол.
Виктор Суворов несметное количество раз повторял в своих книгах, что в оборонительной войне нужно рыть окопы, строить ДОТы, а потом ещё рыть окопы и ещё сооружать ДОТы – строить вторую линию обороны, а потом третью и так далее, и что разграждение, а равно продвижение вперёд в оборонительной войне абсолютно не нужно. Когда враг нападёт, то, подержав оборону на первой линии, надо отступать на вторую, а потом на третью и т.д. – он прямо так и пишет. По Суворову, оборонительная война – это строительство полос укреплений и постоянное отступление на новую линию обороны. Только так выпускник Киевского высшего общевойскового командного училища имени Фрунзе Владимир Богданович Резун представляет оборонительную войну! А наступают, по его утверждению, только в агрессивных, захватнических войнах. Но Жуков-то на Халхин-Голе наступал! Так, может, СССР напал на Японию в 39-м? Может, товарищ Сталин надумал начать “освободительный поход” в Азию? Почему автор «Ледокола», упоминая о событиях на Халхин-Голе, ничего не говорит об “агрессивных планах Сталина” на Дальнем Востоке? А потому что весной 1939 года японские войска вторглись на территорию Монголии и армия Монгольской Народной Республики вела сугубо оборонительную войну. Это никакая не аналитика, это, как говорится, медицинский факт. Красная Армия выступала на стороне Монголии в войне против японской агрессии. Окончательный успех в этой ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ войне был достигнут в результате скрытно подготовленной и внезапно проведённой НАСТУПАТЕЛЬНОЙ операции – войска агрессора были разгромлены.
К слову, в июле 1939 года – в разгар боёв на Халхин-Голе – между Японией и Великобританией был заключён договор известный как «Соглашение Ариты – Крейги». По этому договору Англия признавала все захваты Японии в Китае, и тем самым, фактически оказывала дипломатическую поддержку японской агрессии против Монголии и её союзника СССР.
Американский адмирал Честер Нимиц, командовавший во время войны Тихоокеанским флотом США, в своей книге «Война на море 1939-1945» хот и не назвал страны и фамилии фигурантов, но всё же не двузначно указал на последствия британской политики на Дальнм востоке.
«В конце 1931 года после захвата Манчжурии Япония начала активную подготовку ко Второй мировой войне. Соединенные Штаты отказались признать изменения, происшедшие в результате применения силы, [...] но европейские страны не смогли поддержать позицию США, и это привело к тому, что в дальнейшем Япония ещё решительнее встала на путь агрессии. Единственное, чего опасалась Япония, - это вмешательства Советского Союза» (Честер Нимиц, Война на море (1939-1945) - Глава седьмая).
И опять же, просто к слову: в 1937 – 1939 годах США продали Японии военных материалов и сырья на сумму 511 миллионов долларов. Это примерно на 9 с половиной миллиардов долларов по курсу 2019-го года.
«В июле 1940 года конгресс принял закон, ограничивающий вывоз некоторых военных материалов: была приостановлена продажа Японии самолетов и авиационного бензина, однако экспорт железа и стали продолжался до осени 1940 года. Вывоз в Японию нефти был запрещен государственным департаментом только в июле 1941 года» (Честер Нимиц, Война на море (1939-1945) - Глава седьмая).
И последнее о Монголии. В предисловии к «Ледоколу» Виктор Суворов написал:
«До Второй мировой войны все суверенные государства мира, кроме СССР, по сталинскому делению, считались капиталистическими» (Виктор Суворов, Ледокол –Предисловие).
Монгольская Народная Республика была социалистической страной с 1924 года. Мелочь, конечно, но всё равно нагрешил против истины.
* * *
«Весной и летом 1941 года Гудериан снова занят оборонительным строительством теперь уже на советской границе. Если Гудериан строит бетонные коробки по берегам пограничной реки, то это совсем не означает, что он намерен обороняться» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 10).
Это Суворов старается создать у читателя впечатление, что действия советских и немецких генералов накануне 22 июня абсолютно симметричны. Откуда он взял информацию о том, что генерал Гудериан «строил бетонные коробки», абсолютно непонятно. В воспоминаниях самого Гейнца Гудериана нет никаких упоминаний об участии в строительстве. Нет вообще – от слова «совсем».
Вот что писал генерал о весне и начале лета 41-го года:
«Готовясь к выполнению, предстоящих трудных задач, я с особым рвением занимался обучением и вооружением дивизий, находившихся под моим командованием. Я настойчиво указывал войскам на то, что предстоящая кампания будет значительно тяжелее, чем кампания в Польше и на Западе. В целях сохранения военной тайны я не мог говорить ничего другого...» (Гейнц Гудериан, Воспоминания солдата – Глава IV).
Также он упоминает об учениях, проводившихся в этот период.
«У Верховного командования, несмотря на опыт Западной кампании, не было единого мнения относительно использования танковых соединений. Это сказывалось во время различных учений, которые организовывались с целью уяснения предстоящей задачи и подготовки командиров к её выполнению» (Там же).
Ни о каких строительных работах в книге Гудериана не говорится.
P.S. к 3-й части.
Строительство системы укреплений известных как Линия Сталина началось в 1927 году. А проектировалась она вообще в середине 20-х. На тот момент никому в страшном сне не могли присниться немецкие танковые клинья 41-го года. В тогдашней Веймарской Германии вообще не существовало танковых войск. Линия Сталина проектировалась в расчёте на то, что ей придётся отражать атаки польской кавалерии. именно Польша в 20-х и начале 30-х годов считалась наиболее вероятным противником Советского Союза.
По немецким данным, составленным после захвата Линии Сталина, в 1941 году, всего на этой линии, не считая Карельского УРа, было 142 каземата и позиции для полевой артиллерии калибра 76 мм (4,8%), 248 казематов и бункеров для противотанковых пушек калибра 45 мм (8,4%) и 2572 каземата и бункера для пулемётов (86,8%). Как видите, подавляющее большинство ДОТов Линии Сталина имели пулемётное вооружение и соответственно не могли противостоять танкам. В Полоцком УРе не было артиллерийских позиций; а в Мозырьском, Коростеньском, Литическом и Рыбницком укрепрайонах отсутствовали позиции для противотанковой артиллерии.
Линия строилась для того чтобы из пулемётов косить вторгшихся польских улан, а не останавливать немецкие танки – это во-первых. Во-вторых, бетонные укрепления Линии Сталина были рассчитаны на то, чтобы выдерживать многократные попадания артиллерийских снарядов калибром до 155 мм. Но в период со времён их проектирования и до 1941 года, механизация и моторизация войск очень сильно шагнула верёд. В результате, летом 41-го артиллерия немецких корпусов имела в своём составе орудия калибром 170 мм (17 cm K.Mrs.Laf) и 210 мм (21 cm Mrs.18). ДОТы Линии Сталина просто не были рассчитаны на обстрел и артсистем такого калибра. Так что не могла откровенно устаревшая Линия Сталина остановить немецкое наступление.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ