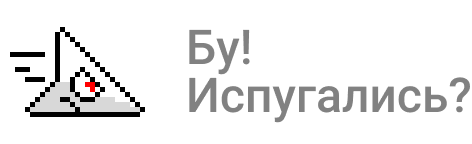Второй бабушкин заговор
Чтож. Наблюдаю, размышляю, всматриваюсь, осознаю. И, кажется, вот уж девятый год знакома с бабушкой, но всё ещё не могу уложить внутри себя все причудливые переплетения, все смешения верований, уживающихся рядком в её старческой голове. Они, эти верования её, ровно зелье ведьминское – от всякой травки по цвету, по листочку, по корневищу. От сладкого клевера и от горькой полыни, от вязкого черёмушника и от липкого молочая, от доброго малинника и от опасного волчеягодника… От всего по части, незнакомой друг с другом ранее, несовместимой совершенно будто бы. Смешивается, варится, настаивается. И вот оно – текучее зелье, работающее в нужную, для сложившего его, сторону.
Бабушкино зелье прочное, каждая часть в нём – уже её собственная, сроднившаяся с ней, пусть и нелепая для остальных. Одна его часть ворочаться домой запрещает, коль за порог вышел, даже ежели и позабыл чего – всё равно нельзя, беда будет. Другая его часть полы да себя по субботам и воскресеньям мыть запрещает – потому как негоже в день Божий делами домашними заниматься. Ещё одна часть ключи от сарая и огородной калитки в трёх кулёчках носит, замки закрывая – плюет и шепчет слова обережные от злого люда. А после – крестом христианским крестит и ангелов призывает, чтоб и замки берегли, и морковку, и лук, и инструменты все… И всё это – одна и та же наша бабушка. И всё это одновременно варится в ней, кипит с пузырьками и не знаешь никогда заранее, что выплюнется первым, а что вторым.
Заговаривает бабушка не только глаза да замки огородные, кстати сказать. Ещё один её любимый заговор мы долго пытались расслышать, несколько лет понадобилось, чтобы целиком собрать обрывки. Хоть его она и не ночью, днём да вечером обыкновенно нашёптывает, но всё равно, речь у неё уж больно неразборчивая, особенно когда себе под нос, да потоком сплошным без пауз бубнит. А ещё головушка-то уже древняя, ненадолго мысль удерживает, оттого она порой шепчет-шепчет, собьётся, забывает, где остановилась и сызнова начинает бормотать. Так что под диктовку за ней записывать никак невозможно, только оторванными кусочками. Набирать их много-много и тогда уж сшивать в один разноцветный плат.
Ноги свои бабушка заговаривает чаще прочего. Уж очень много им за девяносто три с лишним года досталось: и пеши да босы ходили по хозяйству много, и в болотине рядом с журавиными россыпями вязли часто, и бык взбесившийся на скотне бодал их до костей – едва спасли мужики, и в речке студёной стыли… Временами, когда бабушка уплывает в воспоминания обо всём пережитом, мы проверяем – точно ли жива, точно ли она с нами. Всякий раз думается, что не выживают люди после такого, что только на экранах да в книгах такое случается. Но вот, живая бабушка сидит перед нами и ноженьки её при ней, хоть и слабы уже, и ноют страх, как больно, аж до крика порой, и не держат уже шибко долго – по стеночкам, на палочке, да на руках наших перемещается бабушка всё больше. Но всё равно, при ней ноженьки, вот они.
У бабушки под кроватью палка специальная имеется, нарочно, чтобы ноги с её помощью заговаривать. Палка-сук, точно не знаю от яблони или вишни старой она его в огороде отломала. Палка с несколькими кривыми наростами, похожими на коленца. Опираться на такую неудобно, крива очень, а вот для заговора именно такая нужна – это я поняла, когда все слова из него смогла собрать:
— До чего доглумикались ноженьки, мочи нету. В кажну будто кипятку плёхнуто, ни шагу ступить, ни в лёжку не лечь мне с ими. Прут, забирай себе кривизну и болячку ножную всяку. Забирай до другово численника, забирай, да лежи себе, костищей усохнувши. Пущай не наутручаетси ни одна нога: ни ветром, ни снегом, ни дожжами. Пущай вода, которая в тебе бежи переплехнется мне в ноги, пущай и напробоску бегуть они позени, и обувши бегуть они позени – ровно молодушки. Пущай не ходить мне калей, покуда всё недодилав. Слухай меня, прутище, лежи сам вкриви да всухе, так-то. Тебе я слово сказываю, тебя кладу, без тебя сойду дале, аминь.
И стучит. Стучит кривой палкой об пол, трижды стучит, чтобы всё понял прут кривой, мозги сухие. Забрасывает его под кровать лежать, а сама сходит – ну, по-ейному стало быть идёт, непременно сразу идёт куда-то, хоть до окна. У неё ж дела недодиланные лежат, грустят без неё, ну.