Пшено и Лопата | Егор Щукарёв
Иллюстрация Екатерины Ковалевской. Больше Чтива: chtivo.spb.ru
«Дзинннь!»
Хромированные двери лифта расходятся в стороны. Выпятив вперёд одновременно грудь, живот и подбородок, из лифта на этаж выходит Семён Алексеевич Лопата. С высоты могучего роста он пристально смотрит на окружающих и будто бы ждёт ответного внимания к себе. Широко улыбаясь и вальяжно размахивая портфелем, он ловит своё отражение в стеклянных дверях кабинетов. Остальные тела суетливо бегут по невидимым тропам, уперев взгляды в планшеты или себе под ноги, тыча друг другу в документы, перебрасываются короткими репликами. Лишь голос Семёна Алексеевича звучит как низкочастотный рёв кита среди планктона: «Здаров, Павел Игоревич! Как живём? Ха-ха! Супруге привет!», «Марина Владимировна, очаровательно выглядим. Да, законопроект ваш сегодня рассматриваем, да», «О, Алексей Юрьевич, Алёша, давно не виделись. Держимся огурцом. Да… Да-да… Да», «Не задерживаем, Виктор, проходим. Оп! Таак! Хах!», «Сан Саныч, смотрели тебя вчера в программе. Ну ты дал, старик! Да. Как договорились, после заседания обсудим в столовой».
Дойдя до конца коридора, открыв электронным ключом последнюю дверь, Семён Алексеевич вошёл в смежный корпус. Лицо его расслабилось и отяжелело. Коридор тих и в ранние часы безлюден. В отличие от первого корпуса в офисном стиле, здесь царил дух советского учреждения. Бордовый ковролин, стены обиты вагонкой, лаком блестят глухие жёлтые двери. Семён Алексеевич прошёл мимо зеркала и остановился у двери с табличкой «Начальник отдела социальных исследований Челнок И. И.», прокашлялся, натянул могучие щёки в улыбке, поправил узел золотисто-жёлтого галстука, постучал и, повернув ручку, ворвался в проём.
— Приветствуем, Илья Ильич! Чем занимаемся?
В двух креслах напротив мерцающего экрана сидели Илья Ильич Челнок и Игнат Платонович Труха. Семён Алексеевич оторопел, увидев последнего, и тут же стал думать, заметили ли его возникшее волнение, но те не обратили на Семёна Алексеевича никакого внимания, будучи погружёнными не столько в созерцание монитора, сколько во вслушивание звучащего из колонок воркующего голоса. Игнат Платонович смотрел в дальний угол экрана, подперев нижнюю губу костяшками пальцев. Это был ухоженный молодой человек лет тридцати пяти с зачёсанными назад вьющимися волосами, одетый модно, но сдержанно. На шее из-под воротника выглядывал фрагмент татуировки, полный рисунок которой угадывался с трудом. Игнат Труха — единственный в Ведомстве, кто не одевался по форме в костюм-тройку. Говорил негромко, неторопливо, но излагал ясно, словно зачитывал конспект.
Прошло полминуты, и Семёну Алексеевичу не понравилось, что с момента его появления в кабинете никто не обратил внимания ни на него, ни на то, что он слегка волнуется. Он снова прокашлялся и чуть тише обычного сказал:
— Ну-с, Игнат Платонович, здрасте. Что смотрим?
Игнат Платонович пресёк его вопрос, подняв вверх указательный палец, и перевёл его на экран, обозначив предмет общей занятости. Семёну Алексеевичу этот жест не понравился, как и то, что этим жестом его осекли. Почувствовав себя ущемлённым, униженным, он всё же изобразил заинтересованность, встал чуть поодаль и тоже уставился в монитор.
Семён Алексеевич не любил Игната. Не любил и боялся, а боялся потому, что не понимал ни его внешнего вида, ни его манеры речи, а главное, не понимал, чем именно Игнат занимается в Ведомстве. Игнат Труха работал в Министерстве культуры, но в Ведомстве занимал должность аналитика в отделе социальных исследований. Появлялся нечасто, но почти всегда с папками отчётов. Он был вхож во все круги. Будучи рукопожатным в бомонде и как будто бы своим в андерграунде, он уделял внимание больше не центральным фигурам, а периферии культуры. После прогона театрального спектакля, обсудив премьеру с режиссёром и актёрами, он шёл за кулисы обсудить постановку с художником спектакля, костюмером и мастером по свету. После концерта в филармонии он формально поздравлял дирижёра, после чего шёл в курилку, чтобы обсудить с контрабасами и тромбонами интерпретацию симфонии. Он игнорировал гастроли рок-звёзд, но регулярно ходил в малолюдные клубы на концерты фри-джаза, соматик-техно и инди-троники. Сухим языком канцелярита он говорил с менеджерами от культуры, но обменивался стопками книг с ремесленными мастерами, проводя целые дни в обители их мастерских за беседами, бесконечным чаем, разлитым в пиалы на гончарных кругах и верстаках среди столярной пыли. Всегда слушал внимательно и с лёгкостью мог поддержать любой разговор, если тема была действительно интересной. Он сам казался интересным не только навыком расположить к себе доверительным тоном, не только умением поднять занимательную тему, а умением самому интересоваться другими. Завсегдатай вернисажей выставок, загородных концертов, вечеров поэзии говорил со всеми обо всём. А потом относил отчёты в Ведомство.
Семён Алексеевич Лопата остерегался контактов с Игнатом, но внимательно следил за его руками, когда в них были загадочные папки отчётов. Несколько раз ему удавалось ознакомиться с их заголовками. «Тема взаимосвязи телесности и социальной справедливости в авангарде изобразительного искусства. Отчёт с выставки панк-арта», «Политическая ориентированность и биоэтика. Взгляд младших научных сотрудников Института. Стенография разговора в курилке Академии наук», «Модернизация связи с природой через биохимию мозга. Репорт с фестиваля экспериментальной электроники», «Языческий мистицизм Паустовского как возможный вектор поиска религиозной самоидентичности. Мнение с конференции филологов», «Серые списки "инаковых". Рекомендации на иммунитет». Семёну Алексеевичу хватило и этих заголовков, чтобы почувствовать недоумение и невзлюбить Игната ещё более.
Он смотрел в затылок Игната Трухи, когда вспомнил, что пытается изобразить заинтересованность образом с экрана. Из монитора смотрело миловидное женское лицо с мягкими округлыми чертами, смешлявым макияжем, обрамлённое сложной укладкой с локонами русалочных цветов. Семён Алексеевич попытался вслушаться.
— Вы говорите об искусстве галерейном, приходя к которому, зритель готов от него защищаться. Ну, то есть он сам идёт в галерею искать смысл, безопасно его смотреть, комфортно интерпретировать. Акционизм же работает со зрителем случайным — человеком, идущим по улице, едущим в транспорте, стоящим в очереди в поликлинику. Задача акциониста — столкнуть его с иррациональным, с бытовым абсурдом и, когда на того находит оторопь, передать зрителю идею. Поэтому акционист должен говорить на языке, понятном этому случайному зрителю. И в здесь ему помогает текст. Это его лучший инструмент. Он пишет текст на себе, на одежде, на своём теле, на плакате, граффити на стене, стилизует шрифт под шрифт ценника в магазине или реклaмного билборда. И в этом отличие акционизма от изобразительного искусства, где текст либо неумелое… неуместное… эмм… ну, читерство. Автор-живописец ведь не подписывает объекты в поле своего холста. Это вот шар, это девочка, на котором она стоит, это человек на неё смотрит, а это слоны с длинными ногами. Нет. Он использует текст либо отдельно, как описание общей концепции, либо если текст действительно является частью изображения, как в комиксах, или как это иронично обыгрывали московские концептуалисты восьмидесятых. Наша культура текстоцентрична, потому мы не можем похвастать баннерной слепотой. Даже если мы смотрим видео на родном языке, мы невольно отвлекаемся, читая субтитры. Ну, если они включены. Хотя кажется, зачем?
— Эт чего за баба? — дал о себе знать Семён Алексеевич.
— Вера Пшено, акционистка. Вчера вышло интервью, — ответил Игнат Платонович.
— А, эта, художница. От слова «худо». То-то смотрю, личико знакомое. Болтает сложно. В наше время художники рисовать умели. Шишкин там, Кустодиев.
— Художник она или нет — каждый решает сам. Она позиционирует свою деятельность как акционизм и перфоманс.
Семён Алексеевич наигранно хмыкнул. Илья Ильич сделал громкость с пульта на два деления выше. За кадром зазвучал голос интервьюера:
— Не кажется вам, что это жестоко по отношению к зрителю, не навязчиво ли сталкивать с тем, чего он, может быть, не хочет знать?
— С тем, что он сам не выбирал. Придумайте любую единицу измерения информации — секунду, байт, квадратный метр. Измерьте то количество потребляемой человеком информации, которое он не выбирал. Рекламу товаров, услуг, новости, пропаганду в общественном транспорте, на эскалаторе метро, по радио, ТВ, всплывающие баннеры, витрины магазинов, случайные разговоры и вынужденные диалоги — всю ту информацию, которую человек не выбирал. Современный человек сдался и принял как данность, что он живёт и претерпевает общее для всех информационное поле, и даже научился делать вид, что его не замечает. Но кто сказал, что у кого-то есть монопольное право на наполнение содержанием шумного эфира? Каждый имеет право внести в это информационное поле что-то своё. Пробиться сквозь информационный панцирь зрителя можно разве что с помощью эффекта неожиданности, сквозь, опять же, столкновение с иррациональным, абсурдом повседневности. И необязательно это будет намеренная встреча с художником и его акционизмом. Представьте, вы идёте домой, а в подъезде нетрезвый сосед выйдет к вам обмазанный солидолом, с ведром на голове и в шубе на голое тело и покажет вам самый изумительный перфоманс. Какой именно — додумайте сами, но впечатление от него останется с вами как одно самых ярких воспоминаний последних дней, а может, засядет в памяти навечно. Почему? Потому что оно было неожиданным. Но перфоманс соседа — это импровизация, эмоциональный жест, не подкреплённый какой-то идеей, посылом, месседжем. А художник использует текст для идеи как вирус, а жест, действие — как переносчик, чтобы сеять в других сомнения. И потому, однажды услышав в автобусе вместо объявления остановки, увидев на билборде вместо рекламы кредита или в магазине на ценнике вместо слова «Макароны» текст, который вы не ждёте, к которому вы не готовы, который вы не выбирали, вы можете постараться забыть этот момент и этот текст, но то, что лежит за этим текстом — идею — вы не забудете никогда. И это займёт тысячную долю объёмавсей информации, которую вы также не выбирали, но эту идею вы продолжите думать и развивать как свою, потому что…
Pause. Взгляд героини застыл, направленный в камеру, и размыто глядел стоп-кадром с экрана.
— Что скажете, Игнат Платонович? — Илья Ильич отложил пульт.
— Да это параша какая-то! — опередил его Семён Алексеевич.
— Ну, вы как всегда, Семён Алексеевич. Зря вы так категорично. Они всё же авторы своих идей. Они создают что-то почти с нуля. Они поодиночке и авторы, и исполнители. В какой-то степени действительно художники…
— Да ладно вам — художники. Гитлер, говорят, тоже был художником, а что из этого вышло? Акционизм какой-то, иррациональное-хуециональное, перфоманс-хуёманс. Лишь бы не работать, вот что я думаю. — Семён Алексеевич обошёл собеседников, повернулся к ним спиной и уставился в застывшее лицо Веры Пшено.
Её лицо ему нравилось, но всё, что обрамляло кажущуюся и недосягаемую красоту её лица и голоса, — слова, фасон одежды, цвет волос и губ — казалось непонятным и потому раздражало. На секунду ему показалось, что изображение лица не застыло на экране, а слегка дёргается, что глаза и скулы чуть шевелятся, а губы тянутся в ухмылке. Он начал тыкать в её лицо своим пальцем.
— А вы нашли кого слушать. Её?! Эту бабу тупую?! Чем она занимается? Как и паразиты все эти. Лицо намалевала, волосню покрасила, акционистка. Тоже мне, кошка драная! В уши тут мёд льёт девка эта крашеная! Сучка вертлявая! Шшшлю…
Pause. Уже с другого экрана застывшее в гримасе лицо Семёна Алексеевича смотрело стоп-кадром с экрана, тыча размазанным пальцем в зрителя. Светлыми пятнами блестели белки распахнутых глаз. Кончик языка, отбрасывая блик слюны, был обрамлён искривлённой окружностью рта и подчёркивался снизу дугами одного и второго подбородка. Горизонтальная полоса помех рассекала его лоб посередине. Палец на пульте отпустил кнопку.
— Рожа-то какая противная! Ещё чуть, и треснет. И чего ему так неймётся? Чем мы ему так насолили, чтоб так кривляться и так убиваться?
Вера положила пульт на колени.
— Хочется критиковать — сделайте лучше. Пускай это закономерная реакция, реагируй, проклинай, с меня не убудет, но я ждала, что реакция будет на перфоманс, на выставку, но не на меня. Я сама стараюсь не отсвечивать.
Она обвела взором студию. Интервьюер, оператор, звуковик и редактор — вся съёмочная группа исчезла. Она посмотрела на свои руки.
— Казалось, все понимают, что на самом деле мы делаем это для себя, чтобы просто сделать, порадоваться результату, справиться с нерешительностью, оказаться услышанными, такими же как и мы. Говоря про какого-то там зрителя, держим в голове, что первым зрителем являемся мы сами, что себе же проговариваем то, что для нас очевидно, когда других способов говорить и являть мир, чтобы проявленное не отменить, не имеется. Со стороны это действительно игры, интеллектуальное баловство, в худшем случае — мелкое хулиганство. — Вера посмотрела в свет направленного на неё софита. — Но почему они так отчаянно нас ненавидят? Гóрох, ответь, отчего? Ты здесь, ты со мной?
Из-за слепящей стены света прозвучал голос:
— Не от-тказывай другим в их ненависти. Если кто-то т-тебя ненавидит или держит обиду, значит, ему это нужно, не мешай ему чувствовать. Любой заслужил т-такое же право на ненависть, какое он заслужил на любовь. Не б-бывает абсолютного принятия других. Каждый из нас кого-то не любит. Это в порядке вещей.
Осветитель повернул яркий софит в сторону, чтобы тот не слепил Веру, и вышел вперёд. Его звали Григорий Гóрох, в среде друзей его ласково звали «Горошек». Невысокий, щуплый, коротко стриженный, в глухом тёмном свитере и в очках в толстой оправе. В беседе с людьми чаще смотрел под ноги и бегал глазами, словно отыскивая нужные слова на полу и таким образом их подбирая.
— Ты сама сказала, что с-с тебя не убудет. Если честно, т-то, что мы, ну, делаем всё д-для себя, это верно, но тщеславие никто не отменял. Мы хотим быть услышанными и ждём реакции зрителя на наши проекты, и это то-тоже реакция. Так что или п-принимай любую к-критику, либо не жди никакого отклика, а действительно делай всё по карма-йоге, мне так кажется.
— Так-то я согласна. Просто я ещё не привыкла к вниманию, и потому немного выпендриваюсь. Я о другом. Я о том, чем мы вообще занимаемся. Я сама часто задаюсь вопросом: а не фигню ли я делаю? Вот ты, Гóрох, например. Ты работаешь со светом и с пространством, делаешь для клубных рейвов световые инсталляции, объекты из ламп, скульптуры из этих, газо-неоновых трубочек. Помню, ты делал такие классные фотокадры цветных диодов в стекле и фотографику на длинной выдержке. И ты понимаешь то, что ты делаешь, и при возникшем у кого-то вопросе можешь подробно объяснить. Но у тебя нет амбиций, ты делаешь действительно для себя, а работаешь в студии осветителем. А я? Я больше говорю, чем делаю. А делаю просто какие-то мелкие провокации или ставлю спектакль по пьесе, в которую никто не врубается, в наивном ожидании что-то изменить в этом мире, достучаться до кого-то и на таких интервью будто оправдываюсь за содеянное. И этот боров, как его? Лопата. Он прав, возможно. Я года три не брала в руки карандаш. Какой из меня художник? На наши выставки и спектакли приходит человек сорок. Половина из них — друзья, такие же художники, десятка полтора — действительно ценные зрители. Пара журналистов. А ещё несколько казённых лиц — этих дятлов, нелепо косящих под своих, да всякие несуны-отчётники типа Трухи. Думает, мы не в курсе, куда и зачем он носит отчёты. Знаем, конечно же. Да и он знает, что мы знаем, потому всё прозрачно. И пускай носит, путь работает этот «испорченный телефон». Он для них вроде сурдопереводчика.
— Я ещё не понял, ф-ф-в чём твой конфликт.
— Сейчас попробую сформулировать. Принято считать, что искусство осмысляет реальность, задаёт ей дизайн, проявляет запросы общества, создаёт с нуля оригинальный контент, который потребляют другие. По крайней мере, приятно так думать нам, и потому мы стараемся вкладывать в каждую работу и труд, и знание, и смысл. Но для них… — Вера кивнула на всё ещё застывшего в мониторе Семёна Алексеевича. — Для них это ничто, какое-то баловство: рисуем странные картинки, стихи читаем, просто так валяемся на сцене. Отклик от нашего труда отложен и размазан во времени. И вот такие вот в галстуках агенты Смиты видят только форму, но не видят вложенных идей. Мы для них только клоуны, которые почему-то не развлекают их, а «мутят воду», «ходють там, разговаривают непонятное». И роль искусства как рупора культуры им непонятна. В их восприятии в реальности мы не существуем. Мы с ними в разных плоскостях и им не конкуренты. Так почему же они нас ТАК презирают и жаждут собрать нас в жернова? Казалось бы, им уж точно есть с кем бодаться и на кого выплёскивать гнев. Вот ответь мне, Гóрох. Мне действительно интересно, что думаешь ты.
— Ммм… Мне кажется, это общий для многих из нас синдром. Мы живём в обществе с чувством, что его мы н-не заслужили. Что просыпаемся по утрам уже с-с чувством в-вины за свою бесполезность, даже если это не так. Постоянно извиняемся за то, что з-занимаем место в общем пространстве, тратим общий для всех кислород, будто нас всё время оценивает кто-то. А личную полезность, социальный рейтинг принято оценивать по деятельности, на которой зарабатываем деньги, по нашей трудовой книжке, а не потому, что мы делаем дома без в-вмешательства средств. Свой рейтинг п-предъявляем другим — «вот смотрите, я сделал что-то полезное, я заслужил», — но требуем от других отчётность з-за их полезность. Никого не воспитывали ценить себя, и если тебе уг-гораздило родиться, то ты уже заслужил и личное п-пространство, и какие-то блага, и право на произнесённые вслух слова, и право быть счастливым. Общество как будто всех виноватых, стыд как средство манипуляции. П-понимаешь? Общество несамоценных.
— Я понимаю, кажется. Когда оказываюсь в новом месте, тоже думаю сначала, есть ли у меня такие же совсеми права и что сделать, чтобы заслужить чувство комфорта. Что-то вроде того.
— И если кто-то чувствует себя не на с-своём месте, если чувствует, что он по-настоящему никому не полезен, то он пытается ут-твердиться, указав пальцем на тех, кто якобы никчёмен, кто занимается чем-то эфемерным, пустым и на этом деле н-н-не приносит средств. Такие люди как пассажиры на корабле, которые боятся, что, если корабль потонет, нужно заранее оказаться в с-спасательной шлюпке. И в своём маниакальном стремлении спастись действуют н-н-на опережение, уговаривая выбросить за борт тех, с кем будет в лодке тесно. Хотя корабль идёт по течению и никто не тонет, кроме тех, кто идёт ко дну в своём воображении.
— Слушай, Горошек, я думала об этом примерно так же, но не могла сформулировать. Сейчас. Хочу сказать кое-что. Не хочу потерять эту мысль. Не, послушай, душно как-то. Давай возьмём чего-нибудь горячего, сходим на свежий воздух.
— Давай. Возьмём горячий шоколад. Знаю тут балкон с красивым видом. Ты только это… — Гóрох улыбнулся и кивнул в сторону монитора. — Этого разморозь, а т-то од-деревенеет.
Вера рассмеялась в ответ. Подбежала к столу, схватила сумку, не глядя протянула в сторону монитора пульт и уже на бегу нажала на кнопку.
— …Лю-у-уха-а-а-а! Дрррянь! Сука! Куда пошла?! Да ты сама... Ты сама… Оставь свет… Оставь свет... Это синее… И это вот голое… Там поди он с ней… Ещё и… Не потерплю! Не позволю! Ты мне! Мне! Ведь я! По углам земля... Что это было? Мама! Я хочу арбуз.
Семён почувствовал, что вспотел, но не смог понять, что происходит. Затем пришло чувство, что какое-то время он отсутствовал в этом мире совсем. В этом мире каком? В привычном своём, но очутился в чьём-то чужом, том, хозяин которого оказался для Семёна почему-то важным, а он сам оказался на мгновение лишь каким-то статистом: появился в нём, сыграл свою роль и исчез. Со всеми своими наращённым прошлым, жизненной мудростью и бытовым опытом он стал для кого-то то ли застывшей картинкой в экране, то ли второстепенным персонажем в рассказе, прочитанном однажды вслух, и исчез. Но вот он есть и обрастает воспоминаниями о какой-то привычной реальности. Это чувство снимало тревогу. Семён глядел вперёд, когда вспомнил, что позади него тоже есть его мир. В этот момент из-за спины, из этого мира прозвучал голос:
— Семён Алексеевич, ну ты это…
Семён начал поворачиваться назад, с облегчением вспоминая предметы реальности. Перед ним в кресле сидел Илья Ильич — привычный, но какой-то новый Илья Ильич. Понятный, ровный, ни в чём не выпуклый, идеальный посредник Илья Ильич, подбирая слова, поднял глаза на Семёна.
— Семён Алексеевич, ты… О-о-о-о-о-о... Да на тебе лица нет, родной! Чего тебе неймётся? Мы тут передачу смотрели, а ты пришёл, зачем-то орёшь, кривляешься, тратишь себя зазря. Сходи умой лицо, отдохни. Семён Алексеевич, послушай, тебе просто нужно расслабиться. Просто. Нужно. Расслабиться.
Семён послушно повернулся к двери, заметив рядом ещё одну фигуру, но кто это — не было сил вспоминать. Сделав шаг, повернулся обратно.
— Я тогда к вам по делу тому как-то потом.
— Да-да, Семён Алексеевич, иди. Гхм-гхм… Игнат Платоныч, интервью — начало интересное. Там и дальше так?
— Да, местами не очень интересно. А так нормальное интервью.
— Нормальное?
— Нормальное.
— Я потом, вечером посмотрю. Хотя вряд ли дома. У меня супруга, знаешь, не очень любит всю эту заумь. Для семейного просмотра что посоветуешь?
— Ну вот у «Гриффинов» восьмой сезон. Новая серия вышла.
— И как?
— Кому как, мне понравилось. Забавно. Там ещё шутка такая есть…
Бубнёж голосов скрылся за дверью. Семён тяжело шагал по коридору. Зашёл в туалет. Глянув в зеркало, по-новому разглядел свои черты, погладил щёки, расслабил галстук, расстегнул ворот рубашки, умыл лицо и шею. Вышел обратно в коридор, двинулся в свой кабинет. Привычно мысля вперёд, решил вызвать зама, придумывая на ходу, о чём его спросит, но мысль не шла. Поняв, что не хочет никого видеть, а тем более чтобы кто-то сейчас видел его, Семён остановился и пошёл в «комнату отдыха», давно ставшую просто курилкой. На ходу он понял, что принял верное решение. В тело словно залили цемент, и до того, как тот начнёт застывать, нужно успеть занять приличную позу в комфортном месте. Почему-то в голове возникла мысль о горячем шоколаде, хотя Семён его никогда не пил, но сил на сложные действия оставалось всё меньше. В комнате было пусто. Семён медленно погрузил тело в потрескавшийся диван и позволил телу растечься. На последнем рывке он расправил лёгкие, вдохнул побольше воздуха и с выдохом произнёс:
— Пу-пу-пу-пу-пу-у-у-у. Во-о-от... Дела… Гхм-гхм.
Прошли приятные пара минут тишины, за которые Семён с интересом насчитал чётное количество вдохов и выдохов, после чего примирительно произнёс:
— Мда. Странно это всё. Как там Ильюша хорошо сказал? Чего это я, действительно? Чего это я? Мне и вправду просто нужно расслабиться.
Редактор Катерина Гребенщикова
Корректор Вера Вересиянова
Больше Чтива: chtivo.spb.ru


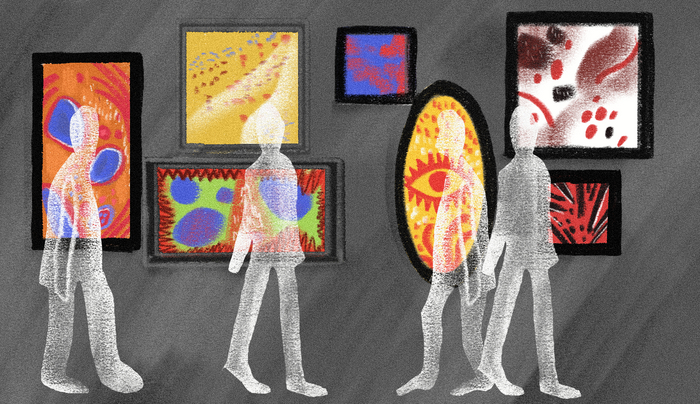




Авторские истории
32.4K поста26.8K подписчика
Правила сообщества
Авторские тексты с тегом моё. Только тексты, ничего лишнего
Рассказы 18+ в сообществе
1. Мы публикуем реальные или выдуманные истории с художественной или литературной обработкой. В основе поста должен быть текст. Рассказы в формате видео и аудио будут вынесены в общую ленту.
2. Вы можете описать рассказанную вам историю, но текст должны писать сами. Тег "мое" обязателен.
3. Комментарии не по теме будут скрываться из сообщества, комментарии с неконструктивной критикой будут скрыты, а их авторы добавлены в игнор-лист.
4. Сообщество - не место для выражения ваших политических взглядов.