Ответ astrobeglec в «Откуда столько столько знатоков СССР?»36
Я родился и живу в одном когда-то перспективном населённом пункте, которому 640 лет.
Теперь мой поселок - корабль, который технически на плаву, он болтается по воле волн, не зная, куда плыть. Он тратит остатки топлива на кондиционеры в каютах, пока гниёт обшивка и ржавеет двигатель.
Когда-то здесь бился пульс большой страны. Река, широкая и трудовая, была её главной артерией. Каждые полчаса вздыхали баржи, гружённые щебнем, углём, песком - твёрдой пищей для гигантов, что стояли на берегах. Крупный железнодорожный узел - был локомотивом в прямом и переносном смысле. Он тянул за собой всю экономику: порт грузил баржи тем, что приходило по рельсам, заводы работали на сырье, доставленном поездами, а торговые базы распределяли товары, пришедшие вагонами.
Промышленность, мощная и разнообразная: гигантский ЖБИ, Молзавод, Мясокомбинат, Консервный и Рыбный заводы.
Сельское хозяйство: два Совхоза и куча Колхозов, огромная Молочная ферма, огромный хлебоприёмный пункт («Заготзерно»), Плодозаготовительная контора, где рождались квас, лимонад и та самая, легендарная «бормотуха» с «червивкой», два Хлебокомбината, «Сельхозтехника» и «Сельхозхимия».
Бурводстрой, МСО, РСУ, ПМК, Сельхозмелеорация, ССК, Газстрой — аббревиатуры-труженики, ковавшие местное процветание.
Нефтебаза и Речной порт — врата, через которые в посёлок приходила энергия и уходили результаты его труда.
Две Торговые базы, снабжавшие весь район.
Автотранспортное предприятие (АТП), где ревели десятки грузовиков, самосвалов, автобусов — целый стальной табун.
Забота о человеке, как высшая ценность: Крупный больничный комплекс с поликлиникой, где приём вели врачи всех специальностей, от педиатра до хирурга. Свой роддом, где под ярким светом ламп ежегодно появлялись на свет сотни новых жителей посёлка. Грязелечебница, использовавшая дары местной природы для исцеления — уникальная роскошь для простого рабочего поселка.
Культура быта и ремесла: Комбинат бытового обслуживания — целый городок мастерства, где в одном месте можно было отдать в починку туфли и телевизор, заказать мебель и постричься. Ателье, где мастерицы с намётанным глазом и золотыми руками кроили и шили одежду — от школьной формы до свадебного платья.
Но плоть любого посёлка — его дети. И для них здесь была выстроена целая вселенная. Семь детских садов, и три из них — ведомственные, от железной дороги, ЖБИ и Совхоза— где стены пахли молоком, а воспитатели знали по имени каждого родителя. Три школы, и одна из них — железнодорожная, с интернатом для учеников, чьи родители работали в ночную смену. Каждый год этот образовательный конвейер, выпускал в большую жизнь три сотни молодых людей.
Это был мир-хозяйство, мир-узел. Он не просто жил — он строил, растил, производил. И, обеспечив людей крышей над головой, начал возводить для лучших из них — учителя, инженеры, строители — улицы аккуратных коттеджей, как знак высшей гражданской чести. В магазине «Железнодорожный» царило чудо самообслуживания, а в «Воднике» можно было купить бутылочное пиво.
На площади, как символ этой нерушимой связи, стояли шестнадцать флагштоков, над которыми развивались алые полотнища Союза и его республик.
А потом ритм сбился.
Первыми пали флаги. Флагштоки срезали в девяносто третьем, и площадь вдруг оголилась, стала чужой и пустой. Это был первый сигнал, тихий и неотвратимый, как щелчок перед обвалом. Убрали Ленина. Переименовали улицы.
Затем замолкли гиганты. Один за другим, как подкошенные великаны, затихли заводы и комбинаты. Железная дорога, лишившаяся грузооборота, растеряла своих стальных коней — от шести маневровых тепловозов остался один, да и тому теперь нечего водить. Река опустела.
АТП — пустырь, заросший бурьяном, и, пара целых гаражей, где возятся с разбитыми «иномарками».
Затем стал угасать свет в окнах больничного комплекса. Уехали специалисты, захирела грязелечебница. А самое страшное — погас свет в роддоме. Теперь, чтобы дать жизнь новому человеку, будущей матери нужно отправиться в стокилометровый путь по разбитой дороге. Рождение из домашнего, почти таинственного акта, превратилось в опасное и утомительное путешествие. Само начало жизни здесь стало нежелательным, неудобным.
Захирело и ремесло. Комбинат бытового обслуживания, некогда бойкое сердце повседневности, вымер. Ирония судьбы распорядилась так, что в его стенах, где когда-то чинили и создавали, теперь разместилась налоговая инспекция. Пространство, наполненное когда-то жизнью, мастерством и разговорами, теперь занято безмолвными кабинетами, где считают, контролируют и изымают. Символично и неумолимо: там, где раньше людям помогали обустраивать быт, теперь у них лишь требуют отчёта. Исчезли ателье, а с ними и сама идея, что вещь можно не выбросить, а починить; что платье можно не купить с чужого плеча, а сшить — единственное и на всю жизнь. Остались лишь одинокие шабашники, но это уже не система, не культура, а лишь жалкие крохи от когда-то общего пирога. Исчезла магия превращения старого в новое, сломанного в целое.
И тогда затихли дети. Из семи садов осталось пять, и те не заполнены. Вечерний интернат железнодорожной школы погас навсегда — он стал ни к чему, когда родителей сократили. А три школы, что когда-то выводили в жизнь триста выпускников из 10-го класса, теперь с трудом набирают сто двадцать в первый класс. И тишина на школьных дворах стала громче любого гудка.
Посёлок стал стремительно стареть и пустеть. От двадцати пяти тысяч ртов и рук осталось шесть, да и те в основном седые. Исчез Дворец пионеров, где рождались мечты, и кинотеатр «Космос», куда мы летали по вечерам.
А потом пришла пора малых смертей. Местный водоканал, не в силах победить воровство или навести порядок, пошёл простым путём — взял и срезал водоразборные колонки, что поили целые улицы. Чтобы не пользовались бесплатно. Чтобы лишить людей последнего общего блага — глотка холодной, чистой воды в летний зной. Теперь на месте колонок — цементные заплатки, как шрамы на теле посёлка. Общественное было окончательно и с позором уничтожено во имя сомнительной экономии. Сосед больше не мог дать соседу напиться. Всё свелось к личному счетчику, к личной ответственности, к личной вине.
Теперь нужда здесь иная. Она не в том, чтобы достать дефицитную колбасу в столице — это было почти приключением. Нынешняя нужда — в элементарном выживании. И систему, которая когда-то возила хлеб в деревенские магазины, заменили личные автомобили детей и внуков. Они везут хлеб своим старикам и одиноким соседям за десятки километров. Кажется, результат тот же — буханка на столе. Но разве это одно и то же? Раньше буханку привозила страна. Теперь её привозит сын. Это не развитие — это возвращение к общинному строю, к круговой поруке родственных душ в руинах общего дома.
И даже река, когда-то кормилица, обеднела. Рыба, что ловилась пудами и кормила половину посёлка — та самая, что шла на Рыбный завод, — словно почувствовала, что жизнь здесь кончилась. Река стала безжизненным ландшафтом, красивым, но мёртвым, как аквариум после того, как из него выловили последнюю золотую рыбку.
Посёлок застыл. Он больше не движется и не строится. Он тихо ветшает, как брошенный корабль, у которого когда-то были и мощные двигатели, и смелая команда, готовая покорять новые горизонты. Теперь градообразующие предприятия - Сетевые магазины. Их конвейер — это движение корзин к кассе. Их сырьё — безликие товары, привозимые фурами из неведомых логистических центров. Их продукт — сиюминутное насыщение. Они не кормят посёлок в широком смысле — они торгуют едой с теми, у кого ещё остались деньги после визита в алкомаркет. И если раньше градообразующее предприятие давало перспективу, работу и смысл, то теперь оно даёт лишь кассовый чек и пакет с едой.
Зато Вы получили «свободу». Но свободу какого рода?
Свободу от дефицита... для тех, у кого есть деньги. Да, в магазинах теперь всё есть. Но это уже не местный хлеб с душой, а безликий штампованный батон из сетевого гипермаркета. Это не выбор между двумя сортами колбасы, а мучительное разглядывание двадцати сортов из пальмы, сои, хрящей, рогов и копыт в яркой упаковке.
Свободу выбора... которого зачастую нет. Выбор работы? Её нет. Выбора школы или больницы? Их почти не осталось. Выбор заключается в том, уехать или остаться и выживать.
Свободу слова. Чтобы говорить о том, как всё плохо. Чтобы жаловаться соседу, сокрушаться в соцсетях. Но голос твой теперь — глас вопиющего в пустыне, а не на собрании трудового коллектива, который мог что-то решить.
Свободу предпринимательства. Чтобы открыть ларек вместо завода. Чтобы пытаться продать что-то тем, у кого нет денег. Чтобы взять кредит и погрязнуть в долгах, пытаясь залатать дыры, которые раньше закрывало государство.
Вы получили «вещи».
У многих теперь есть машина (часто в кредит), плоский телевизор и смартфон с выходом в интернет. Эти вещи создают иллюзию связи с большим миром. Но они же подчёркивают изоляцию. Ты можешь смотреть фильмы со всего света, сидя в доме, где зимой холодно, потому что нет денег на газ. Вы можете читать новости о биржевых курсах, идя за хлебом в единственный магазин, где он ещё есть.
Вы получили «личную ответственность».
Раньше за тебя думала Система. Теперь ты сам: сам ищи работу, сам копи на пенсию (если сможешь), сам лечись (если найдешь и оплатишь врача), сам вози хлеб родителям-старикам, сам решай, как выжить.
Это жестокий и утомительный дар. Община распалась, и человек остался один на один со своими проблемами. Круговая порука родственных душ — это не привилегия, это последний рубеж обороны от полного коллапса.
Что мы получили в итоге?
Мы получили индивидуализм вместо коллективизма. Потребительство вместо созидания. Виртуальную реальность вместо осязаемой. Право уехать вместо возможности жить дома.
Мы променяли общий дом, пусть и с тесными комнатами, но с прочным фундаментом, на личную, хрупкую лодку в бушующем океане. И для тех, чья лодка оказалась крепка, океан открыл невиданные возможности. Но для тысяч других — тех, кто строил тот самый дом, — это плавание оказалось борьбой за выживание у разбитого корыта.
В конечном счёте, мы получили другое измерение жизни. Горизонтальное вместо вертикального. Раньше жизнь была выстроена вертикально: детсад — школа — завод — пенсия. Была перспектива, карьера, общее дело. Теперь жизнь расползлась в горизонтальную плоскость: серфинг по случайным заработкам, выживание день в день, жизнь в режиме постоянного реагирования на кризисы.
И самый большой урон понесли не здания и не заводы, а социальная ткань, доверие и вера в завтрашний день. То, что строилось десятилетиями, было порвано в одно. И залатать его новыми гаджетами и импортными товарами невозможно.
Так что да, мы многое получили. Но вопрос в том, являемся ли мы теперь более богатыми людьми — или просто более одинокими владельцами большего количества вещей на руинах того, что когда-то называли Родиной.
Было ли плохо при СССР?
Да, были талоны, но проблема была не в деньгах, а в физическом отсутствии многих качественных товаров. Чтобы купить что-то хорошее, часто нужно было «доставать», «знать», «стоять в очередях» или ехать в столицу. Не было выбора. Все было однообразно.
Свободы слова, выезда за границу, политического выбора, предпринимательской инициативы — всё это было серьёзно ограничено. Инакомыслие жестоко подавлялось.
Техника, автомобили, одежда, продукты — всё это часто уступало в качестве западным аналогам. Сфера услуг (та же бытовушка) работала медленно и не всегда качественно.
От человека требовалась лояльность системе. Карьера, образование часто зависели не только от способностей, но и от членства в партии, правильного социального происхождения и благонадёжности. Общество было закрытым и малоподвижным. Инновации вне военно-промышленного комплекса внедрялись медленно. Перспективы для яркой, нестандартной личности часто были туманны.
Так было ли плохо?
Для моего посёлка, для инженера, учителя, рабочего, которые видели смысл в своей работе, растили детей, получали квартиры и видели, как вокруг всё строится и развивается — скорее нет, не плохо. Это была жизнь в системе, которая их защищала и давала им цель.
Для диссидента, интеллигента, мечтавшего о свободном обмене идеями, предприимчивого человека, желавшего открыть своё дело, или просто для того, кто хотел слушать другую музыку, читать другую литературу и свободно путешествовать — да, было плохо. Это была жизнь в клетке.
Судя по всему, ответ очевиден: нет, не плохо. Было трудно, аскетично, но это была жизнь с достоинством, смыслом и будущим. А то, что есть сейчас, для нашего мира — не замена, а медленное угасание.
Я не ностальгирую по колбасе за 2,20 и водке по 3,62. Я тоскую по миру, где ценность человека определялась его вкладом в общее дело, а не размером его кошелька. По миру, где будущее виделось не как угроза, а как проект, в котором ты участвуешь. И эта тоска — не блажь, а точная диагностическая реакция здравого ума на мир, который сошёл с ума.
Можно ли меня назвать Совкодрочером?
Если Вы хотите свести сложную, многогранную жизнь целого поколения к карикатуре: якобы все тогда были наивными, зашоренными и верили в «светлое коммунистическое будущее».
Если Вы хотите объявить мою тоску по стабильности, по уважению к труду, по созиданию и общему делу - просто «отсталостью».
Если Вы хотите объявить прошлое сплошным «совком», и представить его разрушение как «освобождение», а не как трагедию.
Называйте, не обижусь. Глупо обижаться на паразитов. Паразиты следуют своей природе. Они появляются там, где есть пища и благоприятная среда. Их не интересуют ни флаги на площади, ни мартеновские печи, ни дипломы инженеров. Их логика проста: есть пища — мы здесь. Они не пришли извне с мечом и огнём. Они вылупились из яиц, которые годами лежали в тёплом навозе равнодушия, усталости и молчаливого согласия с мелким враньём «для своих». Они стали теми, кто срезал флагштоки не как символы, а как цветной металл. Кто распродал не заводы, а лом чёрных металлов. Кто увидел в нашем общем доме не наследие, а месторождение ресурсов для личного обогащения. Паразит не виноват в том, что он паразит. Виновата среда, что позволила ему появиться.
Только, не крутите жопой. Если Вы так ненавидите Советский союз:
Откажитесь от всего, что произвела моя родина. Не живите в «Хрущёбах» и «Брежневках», не для Вас строились. Не пользуйтесь электричеством, ведь это достижение ГОЭЛРО. Не пользуйтесь газом и нефтепродуктами, ведь месторождения разведаны советскими геологами, получившими советское образование. Не пользуйтесь метро и железными дорогами, проложенными тем поколением. Откажитесь от целых городов, построенных с нуля, от гигантских заводов, которые, пусть и сменив название, до сих пор являются каркасом промышленности. Откажитесь от ядерного щита, от космической программы, фундамент которой был залит тогда. Отрекитесь от научных школ. Откажитесь от бесплатной медицины, принципы которой, пусть и в искажённом виде, ещё теплятся в наших поликлиниках. Откажитесь от массового спорта, от стадионов и дворцов культуры, которые были возведены для человека труда.
Соберитесь.
Создайте своё - с нуля. Вы же умнее, трудолюбивее, деловитее, чем такие "пердуны", как я.
Покажите на что способны, что можете лучше!!! Кто Вам мешает? Свобода же...
Не соберетесь и не создадите, потому что мой мир для Вас - антимир. Кощунство. Памятник системе, которую Вы презираете. Вы будете стараться, чтобы его следы окончательно исчезли, как доказательство тупиковости того пути. Ваше «созидание» - это не заводы и элеваторы. Это - коворкинги, стартапы, фондовые биржи и марафоны желаний, тряска задницей в соцсети. Это другой, параллельный мир, выросший на костях моего. Ваш мир — утопия индивидуальной свободы и потребления.
Собрать и создать может только государство. Государство, которое будет и отцом, и тюремщиком. Но это не про Вас, Снежинки, чья главная ценность — собственная уникальность, а не общее дело. Ведь снежинка сложна, красива и неповторима. Она летит туда, куда дует ветер. Снежинка не чувствует ответственности за другие снежинки. Их таяние — это их личная проблема.
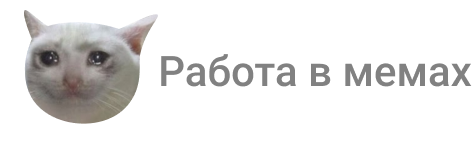

За Правду
1.9K пост1.8K подписчиков