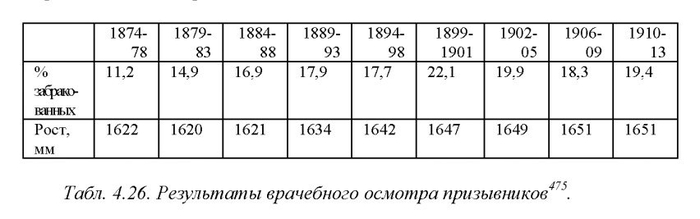Толкователь: РИ в ПВМ. Часть 1
Решил перечитать одного из лучших в России экономических историков и крестьяноведов Сергея Нефёдова о социально-экономических отношениях в Первую мировую войну.
«Русская армия уступала противнику в артиллерии, и русские генералы старались использовать численное превосходство, безжалостно бросая своих солдат в штыковые атаки. Осенью 1914 года на Восточном фронте 3 млн. русских сражались с 1,5 млн. австрийцев и немцев, и к концу года русские потери достигли 1,4 млн. Уже в начале 1915 года закончились мобилизационные запасы снарядов и винтовок, на фронт прибывали невооружённые пополнения. Затем началось немецкое наступление. В июле 1915 года в сражении на реке Нарев тысячи солдат не имели винтовок, а для артиллерии была установлена норма в 5 выстрелов на орудие в сутки. Немецкие же орудия были обеспечены 600-1000 выстрелами. В день немецкого наступления артиллерийская подготовка продолжалась пять часов, и за это время обороняющиеся потеряли 30% боевого состава. Военный министр А.А.Поливанов говорил на заседании Совета Министров 16 июля: «Пользуясь огромным преобладанием артиллерии, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём. В то время как они стреляют из орудий чуть ли не по одиночкам, наши батареи вынуждены молчать даже во время серьёзных столкновений. Благодаря этому, обладая возможностью не пускать в дело пехотные массы, неприятель почти не несёт потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами
Русская армия потребляла 5 кг металла на каждого солдата в месяц, в то время как германская – 102 кг, то есть в 20 раз больше».
Первое время крестьяне (они составляли 92% русской армии) не отказывались идти в «мясные штурмы», наивно полагая, что добрый царь после окончания войны отблагодарит их раздачей помещичьей и церковной земли. Крестьяне первое время воевали не за патриотизм, а только за такую идею.
«У них не было никакого представления о том, ради чего они воюют, – свидетельствует британский военный атташе А.Нокс, – не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем тягчайших потерь». «Крестьянин шёл на призыв потому, что привык вообще исполнять всё, что от него требует власть, – писал генерал Ю.Н.Данилов, – он терпел, но пассивно нёс свой крест, пока не подошли великие испытания». Едва ли не единственной внутренней мотивацией крестьянского участия в войне – но мотивацией неофициальной, исключительно на уровне бытового сознания – были слухи о том, что после окончания войны солдаты-победители получат землю. Эти слухи были аналогичны слухам 1812 и 1855 годов о том, что крепостные-ополченцы получат свободу».
Но к лету 1915 года крестьяне поняли, что царь и элитарии ничем не отплатят им за их жертвы. Об этом глумливо говорили самим солдатам их офицеры – часто тоже представлявшие земледельческую знать. В сознании крестьянской массы произошёл психологический переворот. Именно тогда пошли массовая сдача в плен, дезертирство, «самострелы», братания с противником:
«В целом за время войны Россия потеряла 3,9 млн пленными, в 3 раза больше, чем Германия, Франция и Англия вместе взятые. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных, а в германской, английской и французской армиях – от 20 до 26, то есть русские сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем солдаты других армий.
Резко возросло число дезертиров, к началу 1917 года оно составляло 1,5 млн человек. Отмечались случаи отказа частей идти в наступление («забастовки солдат»), братания с солдатами противника. В солдатских письмах всё чаще встречаются угрозы посчитаться с «пузанами, которые сидят в тылу».
При активном нежелании крестьян воевать за царя и элитариев (ещё раньше отказались воевать горожане, покупая себе «бронь» и «белые билеты») что выход России из войны, что Революция были предрешены.
Взято от сюда: