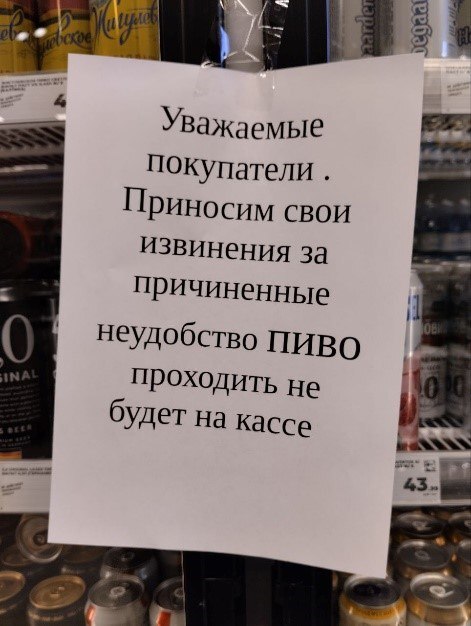Культура болтовни
Раньше проблемой было раздобыть хоть какую-то информацию по тому или иному специальному вопросу. Сейчас главная сложность – в океане безответственной болтовни найти источники, заслуживающие доверия.
Тривиальная мысль? Пожалуй. Впервые я услышал её лет двадцать назад. Но лишь в последние годы – с изумлением – начал замечать, насколько она справедлива. Человеку, пытающемуся нагуглить информацию по заинтересовавшей его теме, в большинстве случае придётся пройти через толстый слой более или менее вздорных материалов. И, к сожалению, худший из ориентиров при поиске истины – популярность автора статьи, поста, Youtube-ролика или книги.
Недавно меня совершенно поразил уровень работы редакции, создающей один из самых популярных русскоязычных YouTube-каналов на историческую тему. Вначале я краем глаза увидел ролик, посвящённый неизвестному мне эпизоду мировой истории, и подумал: «Ого! Класс!». Затем посмотрел видео на тему, отчасти мне знакомую, и заметил несколько досадных (но простительных) неточностей. Наконец, я включил выпуск, посвящённый герою и эпохе, о которых знаю достаточно много. И – о ужас! – оказалось, что передо мной откровенная халтура. Ведущий раскрыл тему на уровне студента, которому одногруппник-«ботан» что-то рассказал накануне экзамена. Он ошибался в фактах, путался в хронологии и давал исторически некорректные интерпретации.
Но больше всего меня поразила следующая мысль. Ведущий рассуждает об обстоятельствах начала так называемой Первой итальянской войны (1494–1495 годы): «…из Америки возвращается Христофор Колумб. Его рассказы о далёких неисследованных землях целиком занимают внимание Старого Света – и до происходящего на Апеннинском полуострове Европе, в общем, дела никакого нет. Французский король Карл VIII решает в таких обстоятельствах, что не грех было бы расширить границы своего государства». Вдумайтесь в сказанное: миллионы европейцев (в отсутствие прессы, радио, телевидения и интернета) настолько увлечены пересказом друг другу слухов об открытиях Колумба, что именно из-за этого не замечают войны на (находящемся в сотнях километров от большинства из них) итальянском «сапоге». Ммм, очень реалистично!
У ведущего – историческое образование. Канал создаёт команда редакторов (не знаю, насколько большая, но всё же – команда). А стоит вдуматься или копнуть вглубь – и оказывается, что всё описанное происходило то ли не совсем так, то ли совсем не так. Что это такое, как не культура болтовни?