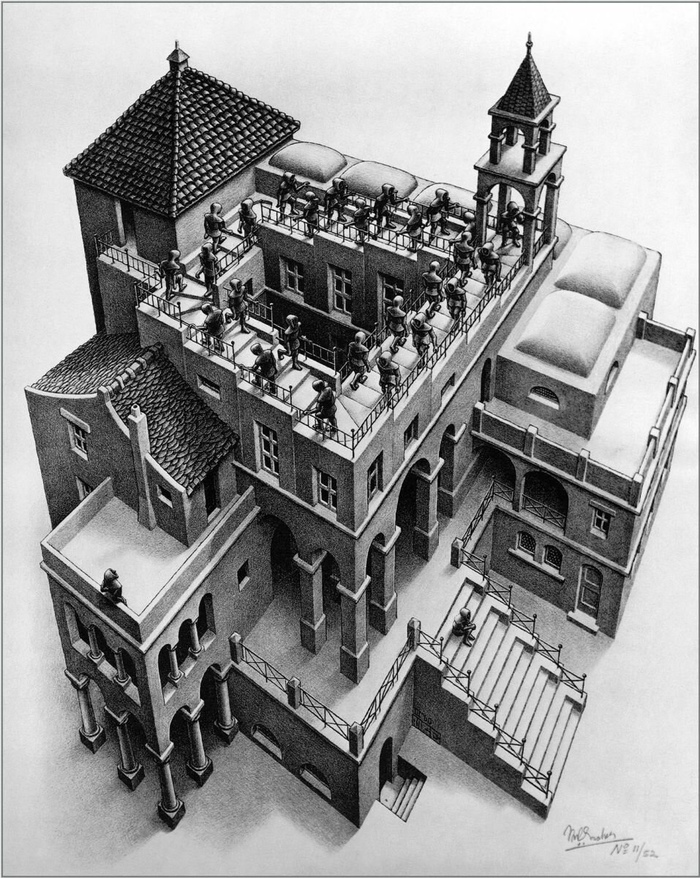RebelPixie
Мобилизация без военника
Вопрос для друга. Не для того друга, а для реального.
Есть у меня товарищ, живет в МСК. В 200х - году, будучи еще школьником, эмигрировал с родителями из Украины в эту самую МСК. Закончил школу, поступил в ВУЗ ( РМАТ, как я понимаю, это не государственный ВУЗ), далее в аспирантуру, шоб от армии откосить...
Так вот, вопрос. Ему сейчас не сильно за 30, военника у него нет, с его слов в военкомате он был черт знает когда, и с тех вообще переехал из МСК в подмосковсье, где сейчас и прописан. Но живет уже снова в МСК ( я сам в ахуе). На работе, выходит, особо не требовали военник до этого.
Как в таком случае ему придет повестка, придет ли, какая у него категория и т.д и т.п? И стоит ли ему что-то узнавать самостоятельно, если служить он не хочет?
Не подавай виду
Однажды ты сядешь не на тот трамвай, зайдёшь в старую телефонную будку, спустишься в соседский погреб, заглянешь в колодец, перепутаешь двери, свернёшь не туда, ступишь на тёмную лестницу, и весь мир вдруг переменится.
Что делать тогда? Главное — не подавать виду.
Эта история началась со старой школьной парты. Урок был скучен, как скучно всё в восьмом классе, когда тело уже потряхивает от гормонов, а тебя просят решать задачки про спешащие навстречу товарняки. От безделья я раскачивался на стуле, надеясь, что он завалится на сидящую рядом Нинку, та взвизгнет, и я под шумок проверю, не обманывает ли меня её лифчик. Но когда я уже был готов застать Нинку врасплох, взгляд мой привлёк торчащий из-под парты листок. Он был всунут в отверстие металлического профиля, куда поколениями запихивали всякий сор, и просто умолял потянуть за ровный чистенький сгиб. Если бы я только знал, к чему это приведёт! Тогда бы я выпрямился, вперился в доску и решал бы стучащие задачи про товарняки, пока не поступил бы в университет вагоновожатых, лишь бы укатить подальше от того, что мне открылось.
За давностью лет я могу лишь приблизительно пересказать содержание записки. Её написал кто-то из параллели, и начиналась история вполне комично. Парня, что называется, припёрло: он чуть не оподливился прямо на математике и, уже вылетев из класса, осознал, что до туалета просто не добежит. От отчаяния он сунулся в учительскую уборную, и она оказалась незапертой! Счастливчик восседал на учительском толкане аки царь и вершил свои черные дела. Попутно он подробно описывал обстановку уборной, совсем не похожую на зассанный школьный сортир. Там даже книжка лежала, первый том «Унесённых ветром». От нечего делать засранец начал листать её. Особенно его поразили слова чернокожей Мамушки: «Одно дело, что жентмуны говорят, а другое — что у них на уме». Очень уж автору понравилось исковерканное слово «джентльмены». Потом парень вернулся на урок, который продолжался как ни в чём не бывало. Но вот на доске… там вместо скучной тригонометрии висели условия задачи о скорости вращения кишковорота.
Он был нарисован рядом — тошнотворная мандала из скручивающихся кишок с сизой червоточиной посредине. Центр кишковорота был неподвижен, оттуда немигающе таращилось что-то предвечное, неисчислимое, лежащее в основе всего. По краям извивались вздувшиеся кишки. Внутренний круг кишковорота вращался против часовой, внешний — по. При неравномерном вращательном движении требовалось установить угловые скорости обоих кругов, а затем вычислить угловое ускорение кишковорота.
Осыпаясь мелом, он со скрипом полз по доске.
Как помню, парня поразил даже не сам кишковорот, а сложность задачи. Он что-то спросил у соседа, но тот даже не повернул головы. Тогда он что-то спросил у соседки, но та тоже ничего не ответила. Тогда он поднял руку и спросил у учительницы. Та вперилась, будто спрашивающий был чужаком, и на парня молча уставился весь класс.
В тишине слышно было, как двигался кишковорот.
Кончалась записка тем, что автора вызвали к директору, и он якобы пишет это послание на последних минутах урока. Так, на всякий случай, анон.
Паста меня не проняла, хотя про кишковорот показалось забавным. Я посмотрел на доску. Там друг к другу по-прежнему спешили товарняки. И Нинка оставалась такой же сисястой. Да и математичка с буклями на голове меньше всего походила на того, кого интересует вращательные движения требухи.
На перемене я даже бегло пролистал преподские задачники. Там было всё как всегда: землекопы, яблоки, корабли. Никакого кишковорота. Дверь в учительскую уборную была заперта на замок.
С пацанами мы знатно поугарали над телегой и позабыли о ней. Ну, разве что Нинка, которой я засунул скомканную бумажку за шиворот, как-то долго потом хихикала.
В следующий раз меня накрыло только в армии. Мне не повезло — я попал не в связь и не в обслугу аэродрома, а в самые что ни на есть мотострелки. Учебка закончилась, нас привезли в типичную Зажопинскую вэ-чэ, где пергидрольные продавщицы из магазина нижнего белья «Трусишка» считались первыми городскими красавицами. На второй год службы я считал точно так же, но когда нас, тощих и замызганных, заводили в казарму, а в ней как толстые сытые коты нас лениво оглядывали дембеля, в животе моём начался сущий кишковорот. И без знания его угловой скорости ясно было, что будут бить.
Прокачивать повели после отбоя, когда дежурный офицер, показав дневальному кулак, свинтил в общагу. Били не со злобы, а ради установления порядка, то есть во имя старых добрых традиционных ценностей. Отметеленные сослуживцы возвращались в кровать даже с какой-то гордостью — я вытерпел, причастился. Через год ко мне водить будут.
Когда очередь дошла до меня, я направился в каптёрку по длинному коридору с низким потолком. Взлётка, застеленная коричневатым линолеумом, который вечно оттирает дневальный — лицо не только роты, но и всей армии; открытое пространство, рассекающее казарму на две части, место для построений, наказаний и прокачки; путь к оружейке, каптёрке, сушилке, туалету, канцелярке, бытовке; и эти двери по бокам — казённые, из желтоватого дерева с красными пылающими табличками. Конечно, не взлётка это, а эшафот, и я шёл по нему, как и поколения моих предшественников. Во всём этом было что-то чудовищно унизительное: ты добровольно следуешь на собственную казнь и ещё поторапливаешься — успеть бы, не заставить ждать палачей. Мне пришлось несколько раз пройти по взлётке: мерзкие желтоватые двери были заперты, за ними никто не шумел. Ещё и дневальный куда-то запропастился. Я долго искал табличку с надписью «Кладовая» и даже начал себя подгонять, поэтому, когда нашёл незапертую дверь, резко рванул её.
Деды сидели за столом. Никто не обратил на меня внимания. Только тихо шелестела гора конфетных фантиков, кипел в трёхлитровой банке чай, да раскачивалась на вешалках потревоженная одежда. Развалившись на стульях, деды читали по ролям книгу. Каким-то шестым чувством я сразу узнал «Унесённых ветром».
— Поставь поднос и зашнуруй мне корсет потуже! — изображая голос Скарлетт, прочёл дюжий сержант Пелипенко. Любимой его забавой было пробивать до эха грудак.
— А какое платье наденет мой ягнёночек? — голосом Маменьки проворковал худощавый каптёр Авдеев, хитрый как хорь, у которого не допросишься ни подшивы, ни сигарет.
— А вот это! — рядовой Тагиев оттянул майку, обнажая борцовскую грудь с чёрным курчавым волосом.
— Ну уж нет! — Маменькой пропел Авдеев. — Совсем негоже этак обряжаться с утра. Кто это выставляет груди напоказ до обеда? У этого платья ни воротничка, ни рукавчиков!
А затем все они — великан Пелипенко, наглый Авдеев, заросший Тагиев — вперились в меня, ожидая ответа. На столе парил чай. Белье на полках лежало как снятое с мертвецов. Перестали раскачиваться бушлаты. А я таращился на стену — там, на фоне незнакомого триколора на меня грозно смотрел чужой верховный главнокомандующий.
Из глубин памяти вдруг всплыла та странная школьная записка:
— Одно дело, что жентмуны говорят, а другое — что у них на уме.
Уж не знаю, почему эта дичь пришла мне в голову, но я был уверен, что отвечать нужно именно так. После недолгого молчания деды начали истерически ржать. Они били ладонями по столу, лягались, разбрызгивали чай. Из глаз у них текли слёзы, а от мощного фырка Пелипенко по каптёрке разлетелись фантики. Давясь от смеха, Авдеев достал бельевое клеймо и с грохотом забил им по страницам. Хихикающий Тагиев едва успевал их переворачивать. А потом деды стали по-рыбьи разевать рты, будто им не хватает воздуха, и сипло повторять:
— Жентмуны! Жентмуны!
Совсем потерявшись, я выскользнул из каптёрки. Вернувшись к товарищам, я не ответил на расспросы и лишь тихо сказал: «Следующий». Накрывшись одеялом, я слышал чьи-то неуверенные шаги, хлопок двери, голоса, вскрик, звуки ударов. Затем виноватое, а потом чуть горделивое шарканье. И злое: «Следующий».
Так я впервые не подал виду.
Первый год службы был трудным, хотя ко мне так никто и не притронулся. Даже ухмыляющийся Пелипенко ни разу не пробил мне грудак. Авдеев всегда выдавал новое бельё, а Тагиев не звал бороться. Сослуживцы заподозрили во мне стукача, который шпионит для ротного, что я не спешил опровергать — мне нравилось сложившееся положение. К тому же я не мог сказать, что всё дело в том, что я рассмешил словом «жентмуны» ротных рулей.
В библиотеке нашёлся серый двухтомник «Унесённых ветром». Никаких печатей на его страницах не оказалось. Судя по карточке, я вообще был первым, кто взял почитать эту книгу. Измучив себя, я кое-как одолел роман. Ничего странного или ужасного в нём не нашлось. С этим согласился даже Авдеев, по долгу службы шмонавший тумбочки. Выудив оттуда книгу, каптёр брезгливо перелистал её:
— Ты ботан что ли?
Я ждал чего угодно — тайного знака, понимающего кивка, быстрого внимательного взгляда, пусть даже нового вызова в каптёрку, а получил тупой вопрос хитрого парня из глубинки, который полагает, что заведовать бельём в казарме — это путь к успеху, а книги — развлечение чепушил. Но ведь сам Авдеев ласковым голосом негритянки спрашивал какое платьишко наденет мохнатый Тагиев! Это он изгибался худым костлявым телом! Он читал книгу! И чёрное клеймо ставил тоже он!
Каптёр уже потрошил другую тумбочку, с матом выбрасывая оттуда горсти барбарисок. Конфетки весело скакали по казарме, закатывались под койки, смотрели на меня красными скрученными кончиками и знали что-то, чего я не знал.
Проносив в душе стойкую ненависть к слову подшива, я дембельнулся свободным человеком.
Семья встретила радостно. Отец, тоже служивший, немного даже заревновал — раньше он один мог травить армейские байки, а теперь я и сам мог развлекать многочисленных родственников. Мать хлопотала на кухне — такая же любимая, как и два года назад. Сестрёнка подросла и готовилась огорошить родителей подростковыми закидонами.
На обед подали суп с копчёностями. Когда все расселись, мать оглядела стол и попросила принести хлеба. Я безуспешно обшаривал кухню, а отец кричал про стынущую водку и гремел половником. Хлеба нигде не было. Я сунулся даже в нишу под подоконником, откуда повеяло той же холодной из детства тьмой. Протиснувшись мимо закруток, я тщетно попытался нащупать заднюю стенку. Пальцы обволакивала пустота, чёрные пустынные воды касались моей длинной, давно уже не детской руки и вытягивать её обратно было даже немного страшно, как что-то совсем чужое.
Заглянув в зал, я хотел уточнить, где хлеб, но осёкся — моя семья, наклонившись над тарелками, сцеживала слюну в парящий суп с копчёностями. Зажмурив глаза, сложив на коленях руки, родственники сбрасывали в суп серебристую нитку слюны. В сцеживании этом не было различий — грузный работящий отец, домохозяйка-мать, вертлявая сестрёнка — все они пускали слюну одинаково, в одной и той же позе, неразличимо медленно, с застывшими лицами. Внешне такие разные, они склонились над тарелками едино, как послушная часть чего-то скрытого, общего и мне неведомого.
Я осторожно вернулся на кухню. Уперев руки в подоконник, выдохнул. С хлебной корзинки слетел пакет. Я тупо уставился на ломти бородинского. С ними было что-то не так. Хлеб лежал аккуратными треугольниками, как в столовой. Мать никогда не резала хлеб треугольниками. Я это точно помнил. Всю жизнь помнишь, как мать резала хлеб.
В зал я возвратился с опаской, но меня лишь шутливо пожурили за возню. Отец громко готовился к водке. Сестрёнка игриво размешивала суп. Мать заправляла салат. В чашках не было ни намёка на слюну, и вскоре начались те семейные расспросы, которые невыносимы в юности и по которым так тоскуешь, когда тебя уже некому позвать к столу.
Мать интересовало не били ли. Отец тут же вклинился «Как себя поставишь!», а я вполне честно ответил, что меня не трогали. Правда, умолчал о причинах. Сестра явно скучала, поэтому я вспомнил, как однажды мы поймали носочных воров — застирали носки в зелёнке и на вечерней поверке часть роты красовалась изумрудными ступнями.
— А ещё что было? — заинтересовалась сестра.
Я рассказал, как здоровенный сержант Пелипенко тайно смотрел мультики.
— А ещё?
Я рассказал, как несколько бухариков устроили погром в аккумуляторной, чем подорвали обороноспособность полка.
— А ещё?
Я рассказал, как мы разгружали вагон, чтобы загрузить его обратно.
— А ещё!?
Я рассказал, как на тряске одеял мы порвали одеяло.
— А ещё!!?
Я рассказывал, а семья жадно требовала ещё. Перестали греметь ложки. Никто не ел хлеб. Спрашивали недослушав, прерывая на полуслове. Близкие допытывалась, не приключилось ли со мной в армии чего-то странного, и глаза их горели.
— А ещё!?
Изо рта у них опять потекла слюна. Она падала в чашки, рвалась при крике, раскачивалась и летела на пол. Родственники не замечали её, не пробовали сглотнуть или вытереть, словно слюну эту вырабатывали не они сами, а что-то сидящее внутри них.
— Сыночка… а ещё что было?
Я молчал. Я знал, что ни в коем случае нельзя рассказывать про жентмунов. И ещё я знал, что семья хотела услышать как раз про них. Сестра в нетерпении стучала беленькими молодыми зубками. Мать задумчиво разглаживала скатерть. Отец смотрел в супницу. Они ждали. И я ждал. Они молчали. И я молчал. В армии я увидел то, чего не должен был. Это было не моё. И это у меня хотели забрать.
А на десерт подали торт-зебру. И вкусен он был, словно мне снова шесть лет.
Вечером в клубе ждали друзья. Бармен мешал коктейли, я безразлично опрокидывал их. Я не мог избавиться от ощущения, что приятели вот-вот поведут себя так же, как и моя семья. Но их простоватые рожи сияли, тела дёргались под музыку, и вскоре пространство так расплылось, что я не заметил, как оказался рядом с Кешей — тем странненьким пареньком, который есть в каждом классе.
Кеша с ранних лет увлекался гаданием. Звёздный час Кеши настал в девятом классе, когда подряд сбылось три его предсказания. Учителя болели, контрольные не начинались, и Кеше даже почти уже дали, но вот дальше, вплоть до самого выпуска, из его пророчеств не сбылось вообще ничего. Хотя прорицал Кеша с удвоенной силой. Он постоянно читал журнальчики с провинциальными НЛО и был единственным, кто отнёсся всерьёз к записке о кишковороте. Конечно, я ничего не рассказал Кеше про жентмунов. Просто намекнул, что имеется интерес. Было бы неплохо проверить. Есть кто на примете?
На выходных Кеша повёл меня в старый парк развлечений. Был вечер, солнце просеивалось из-за деревьев, и сосны, помнящие меня ещё младенцем, раскачивались в подступающей темноте. Там, как древние окаменевшие звери, проступали аттракционы. У закрытого тира, покуривая, нас ждал Чирик.
Это был нездорового вида мужик лет пятидесяти, пустой взгляд которого выдавал опытного алкоголика. Полный, с зализанными сальными волосами, Чирик смотрел на мир вдавленными глазами-кнопками на одутловатом лице. Кеша протянул ему бутылку водки, и Чирик, не говоря ни слова, завёл нас в тир. Мы уселись на матах возле стенда, на котором парило множество птиц — от фазанов до доисторических птеродактилей. При попадании из мелкашки птицы издавали клёкот и били механическими крыльями. Сейчас они молчали, отдыхая от вечной на себя охоты.
Чирик отсалютовал мишеням бутылкой. Кеша раскрыл принесённую книгу. Магия была в том, что во время чтения мужик начинал щебетать. «Чирик!», — изрекал пьяница, и Кеша отмечал нужное слово. Алкаш отпивал водки, безразлично смотрел в угол, а потом вновь стрекотал. Чирикал он без всякой системы: мог выделить трелью целую строчку, а мог молчать всю страницу. Книга тоже могла быть любой. Постоянство проглядывало только в поглощении водки.
Россказням Кеши я сперва не поверил, но мужик и вправду стал почирикивать тонким, совсем не шедшим ему голоском, словно у него внутри жила канарейка. Кеша тут же отмечал слово и продолжал гнусаво читать. Напившись и начирикавшись, ведун отрубился, на чём связь с потусторонним миром оборвалась.
Разумеется, в тетради оказалась полная белиберда. Кеша виновато проблеял, что нужна была закусь, а я устало обводил взглядом храпящего Чирика, укатившуюся в угол бутылку, птиц, грозно воздевших крылья, и придурковатого Кешу, которому я зачем-то доверился.
Всё-таки иногда неудачник — это просто неудачник.
К Чирику я вернулся только через месяц. Не сказать, чтобы за это время что-то произошло. Только однажды, на выходе из автобуса, моё плечо тронула дрожащая рука и старушечий голос невнятно спросил: «Моложой человек, вы выходите?» Я сказал «Да», и сумасшедшая счастливо заулюлюкала на весь салон, будто я согласился выйти за неё. Мой краткий ответ словно замыкал какую-то последовательность, был последним звеном цепочки событий, источником которой был я.
Поэтому мне требовались ответы.
Чирик встретил равнодушным взглядом. Он был по погоде закутан в бушлат, откуда смотрели пустые, давно выцветшие глаза. В них застыло предельное понимание, после которого утрачиваешь интерес к жизни. К заветревшейся мясистой губе прилипла сигарета. Безрадостно тлел огонёк. Чирик молча принял две бутылки, колбасную нарезку и пустил меня в тир.
Я же раскрыл «Унесённые ветром».
Я выбрал отрывок поближе к откровениям Маменьки о жентмунах, и Чирик почти сразу заголосил. Если Кеше он пел безучастно, просто в счёт оплаты, то на первых моих словах вскинулся, с ужасом посмотрел на книгу, а затем защебетал, затрещал, запосвистывал. Чириканье его было испуганным, словно алкаш делал что-то против собственной воли, но не мог перестать из-за данного обещания. Чирик опрокидывал стопку за стопкой, вскрикивал и смотрел на меня так жалостно, будто я мучил его.
Автор: Володя Злобин, участник Мракопедии. Продолжение в коментах.
Цап-цап
Остановка
Асфальт на подъезде к Жданово заменили, а вот остановка осталась прежней — вся в дырах и проплешинах, через которые была видна застрявшая в цементе арматура. Изнутри темнели какие-то агитационные плакаты — то ли зовущие на давно прошедшие выборы, то ли на какие-то бесполезные собрания. Рядом с остановкой торчал огромный цементный пшеничный колос с надписью «Колхоз „Пламя“». Он тоже не изменился за прошедшие годы — лишь еще больше потемнел да рельеф на самой его верхушке уже начал осыпаться.
Семен подтащил свою сумку к остановке, присмотрелся было к лавочке, но та, грязная и обшарпанная, не вызвала в нем доверия. Тогда Семен поставил сумку на асфальт, где почище, достал сигарету — и закурил. Обернувшись на дорогу, он проводил взглядом исчезающий за поворотом автобус. Когда тот скрылся окончательно, Семен стал смотреть по сторонам.
Сверху палило солнце. Пахло разогретым асфальтом. По обочине дороги, по направлению к городу, топала совсем молодая, лет двадцати, девчонка в ярко-желтых шортах и розовых шлепках. Поравнявшись с остановкой, она заметила Семена и сбавила шаг.
— Здравствуйте, — сказала она.
— Добрый день. — Семен улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в деревнях все друг с другом здороваются. — А вы местная?
— А что? — поинтересовалась девушка. В ее голосе послышалось праздное любопытство.
— Я здесь в детстве когда-то жил. — Семен улыбался, щурясь на солнце. — Лет в шесть сюда приехал, почти на полтора года. Когда родители переезжали в Москву и ремонт там делали, а старую квартиру уже другим людям продали. У меня тут тетка жила, Маргарита Павловна, вон там, за речкой…
— Так она померла уже давно, — безразлично произнесла девушка, но вдруг спохватилась. — Ну, то есть вы же знаете?
— Да, знаю. — Семен кинул окурок в урну, но промахнулся. — Родственники ее из Калининграда письмо присылали, настоящее.
— В смысле — настоящее?
— Бумажное. На бумаге то есть.
Девушка непонимающе смотрела на Семена. Тот рассмеялся и пошел в сторону урны, рядом с которой продолжал дымиться бычок.
— Я к тому, что в наше время письма все шлют электронные. А тут — настоящее, бумажное письмо. Оно, правда, пришло, когда уже похоронили ее, поэтому я и не приехал. Только вот сейчас собрался.
— Так и дома ведь ее уже нет. — Девушка вытащила одну ногу из сланца и, вытянувшись, словно цапля, с наслаждением почесала пяткой у колена другой ноги. Затем сложила руки на груди и зевнула. — Сгорел год назад. Там алкаши летом жили. С ними и сгорел.
— Как с ними? — Семен, выпрямившись с дымящимся в пальцах бычком, обернулся к девушке. — Прямо с людьми?
— Говорю же — с алкашами.
— А много?
— Четверо.
— Ужас. — Семен посмотрел на дымящийся окурок, аккуратно потушил его и кинул в урну. — Но я так-то не в дом приехал. Я за грибами.
— За грибами? — протянула девушка. — Это за какими такими грибами?
— За вашими грибами. — Семен вернулся к своей сумке и легонько ее пнул. Сумка отозвалась металлическим звяканьем. — Вот и ведро с собой взял. В Смоленске, на вокзале, купил. Четыреста рублей. Оцинкованное.
— Так какие сейчас грибы? — удивилась девушка. Она уже опустила ногу, но обратно в сланец засовывать ее не спешила. — Это в августе надо приезжать или даже в сентябре. Сейчас сушь. Сыроежки только если, ну и лисички, да они с червями сейчас будут.
— Да нет. — Семен посмотрел в сторону леса. — Я помню, тут грибов полно, все лето можно собирать. Где-то вон там, несколько километров если в ту сторону, там после плотины дорога такая была…
— Это на болото, что ли? — Девушка нахмурилась.
— Ну да. Там же грибы сейчас есть? На опушках, в смысле.
— Ну да, наверное. Так то ж болото.
— Ну и чего, что болото? Грибы-то везде грибы.
Девушка с интересом разглядывала Семена, затем улыбнулась и покачала головой.
— Ну вы даете. На болото в одиночку, не зная дороги?
— И что? Опасно там, что ли?
— Бывает, — просто кивнула девушка. — Там же топь. И кочки все одинаковые да деревья. Заплутаете — до ночи не выберетесь. А ночью — все.
— Что — все? — Семен вытащил из сумки бутылку «Селивановской», открутил крышку, приложил к губам и поморщился. Минералка на жаре стала теплой и невкусной. — Русалки, что ли, в болото утащат?
— Да черт его знает. — Девушка пожала плечами. — Люди так-то пропадают, а отчего — не знает никто. Может, и русалки.
— Серьезно? — Семен убрал бутылку воды обратно в сумку. — Прямо вот так и говорят? Что русалки утащили?
— Говорят, что без вести пропали. В болотах пропадешь — тебя быстро оприходуют. Подъедят до костей, а потом мхом порастешь — и не найдет никто. Или в трясину ступишь — а ряска через несколько минут сойдется — как будто и не было тебя.
— И много пропадают?
— Ну — так… В прошлом году — один всего…
— Пьющий? — уточнил с улыбкой Семен.
— Пьющий, да трезвый. — Девушка нахмурилась и наконец убрала ногу в шлепок. — А вообще — застоялась я. Мне пора к дому идти. А вы ступайте — куда хотите, хоть на болото. Я отговаривать не буду.
— Погодите. — Семен шагнул навстречу к ней. — Я не хотел грубить, честно. Просто я в места дурные не верю. Пропадают-то люди везде. Знаете, сколько в Москве пропадает? Там каждый день — по нескольку человек без вести пропадает, и не всех потом находят. Поэтому — ну болото и болото. У меня в августе и времени не будет. А тетя моя круглый год на этом болоте грибы ведь собирала. И ничего.
— Ну так она ж здесь жила, знала, где можно… — Девушка неопределенно махнула рукой. — У нее, может, свои способы были.
— Способы?
— Она у леса жила, много чего знала. Где пройти, куда не соваться. Поэтому и одна могла на болота. А обычный человек и пропасть может.
— Так я ж не дурак, знаю все. — Семен наклонился и расстегнул сумку. — Вот, у меня и компас, и вода, и брикеты протеиновые — если заблужусь. Но самое важное, — он вытащил ведро с пожитками, поставил на асфальт и хлопнул рукой по опустевшей сумке, в которой осталась лежать одежда, — вот эта вот сумка.
— А что в ней? — девушка попыталась заглянуть. — Одежда какая?
— Ага.
— И что за одежда?
— Обычная моя, городская одежда. — Семен застегнул сумку. — В обычной дорожной сумке. Кроссовки новые. Я их позавчера прикупил, гляди — разноцветные. Не надевал еще их ни разу. И брюки синие.
— И как она тебе на болоте поможет-то? Сумка твоя?
— А так, что я ее с собой и не возьму. — Семен выпрямился. — Я ее здесь оставлю, словно якорь. И этот якорь меня держать будет — чтобы, значит, не унесло…
Девушка посмотрела ему в лицо, затем нахмурилась.
— Издеваешься? — спросила она.
— Нет. — Семен рассмеялся и покачал головой. — Это я просто болтаю много. Я сумку здесь собираюсь оставить. Я всегда так делаю. Я же много где был, и все — один. Оставлю сумку свою хорошим людям — а если не вернусь, — они уж и тревогу поднимут.
— И кому ты здесь сумку оставишь? — с интересом спросила девушка. — Ты ж не знаешь никого.
— Кое-кого знаю…
Девушка посмотрела вниз, на сумку. Затем — снова на Семена.
— Это ты чего, на меня намекаешь?
— Ну да.
— Ты совсем дурной? — беззлобно спросила она. — Ты меня только что встретил.
— Ну и что?
— Я вот оттуда шла, — она махнула рукой за спину. — А ты здесь стоял. Две минуты назад это было. Помнишь?
— Я знаю, я же здесь был.
— И сумку мне свою вот так просто отдашь? — Она сощурилась. — А если я убегу с ней?
— В шлепках-то? Далеко? — Семен посмотрел ей в лицо и перестал улыбаться. — Ну то есть — а чего с ней бежать? Там ни денег, ни документов. Одежда только, пара книг в дорогу — и зарядка от телефона.
— Ну и зачем это мне? Что я с сумкой твоей буду делать?
— Пускай у тебя полежит, а вечером я вернусь — и заберу. А если не вернусь…
— А если не вернешься — мне, значит, в милицию звонить и потом объяснять, что я тебя нигде не закапывала?
— Ну — вроде того. Скажешь, куда пошел, откуда приехал, во что был одет.
— Ну и зачем?
— Чтобы они знали, где искать, да и…
— Не — мне-то это все зачем? — Она вновь вытащила ступню из шлепанца и стояла перед ним, будто девушка из рекламы йоги — только обгоревшая, чумазая и без белоснежной улыбки. — Еще и сумку твою тащить…
— Я тебе, как вернусь, пять сотен дам. За то, что вещи у себя подержала.
— Пять сотен? Этим вечером? — Она задумалась.
— Ага. А я на последнем автобусе вместе с грибами поеду обратно в Смоленск.
— С грибами… — протянула девушка. — Ну ладно. Сумка твоя у меня до вечера полежит. Но — на ночь не оставлю. Пропустишь автобус свой — ночуй где хошь, а к себе не пущу. Напускалась уже.
— Я и не думал…
— Вот и правильно. — Она на ходу втиснулась в скинутый шлепок, шаркая ногами, подошла к Семену и протянула ему руку. — Марина.
— Семен. — Он пожал ее ладошку.
— Я Никитина. Живу за кладбищем, ближе к бывшей общаге. Желтое крыльцо.
— Это хорошо.
— Что хорошо? Крыльцо желтое?
— Да нет же. Что живешь близко. От остановки недалеко совсем.
— Недалеко, да что в этом толку? Все равно хрен отсюда уеду. — Она выпустила ладонь Семена и, отвернувшись, зашагала по асфальту. — Пойдем уже, грибник. Сумку свою сам тащить будешь, я по жаре ленивая.
Семен рассмеялся, подхватил одной рукой ведро, другой — расстегнутую сумку и побежал вслед за Мариной.
Жданово
Идти и правда было недалеко — каких-то десять минут. Марина шла молча, сложив руки на груди и изредка поглядывая через плечо на Семена, который всю дорогу смотрел по сторонам, примечая знакомые детали в изменившейся за двадцать лет местности. Вот расколотая молнией ветла у дороги, на которой они крепили тарзанку. Тарзанки уже не было, но вокруг ветлы желтела вытоптанная трава — видать, дети все еще лазают. Вот — виднеется вдалеке водокачка с гнездом аиста на ней — точно такая же, как в детстве, разве что аисты, должно быть, уже другие. Промелькнул по левую сторону кирпичный магазин, на скамейке у которого несколько детей поедали мороженое. Дети, продолжая жевать, проводили их внимательными глазками.
— Мы в детстве тоже в этот магазин бегали за мороженым, — сказал Семен.
— Не в этот, — бросила через плечо Марина. — Тот сгорел четыре года назад, один кирпич только остался. Потом перестраивали.
— Что же у вас тут горит-то все подряд? — удивился Семен.
— Не нравится — уезжай. — Марина покосилась в сторону магазина. — А вообще — это бывший владелец сжег. Колька Рогов. Не пошло у него — вот он и решил сжечь. Теперь сидит. Скоро выйти уже должен.
— Понятно. — Семен ускорил шаг и поравнялся с Мариной. — А ты тетку мою знала?
— Знала. Ну так — здоровалась, когда в магазине видала. Но в гости не ходила.
— Я у нее тут полтора года провел, когда…
— Ты рассказывал, — перебила его девушка. Они поравнялись с кладбищенской оградой, и Марина ускорила шаг. — Почти пришли. Сейчас кладбище закончится — и дом мой уже видно.
— А не страшно?
— Чего?
— Рядом с кладбищем жить?
— А чего его бояться? — Марина пожала плечами. — Я кладбище люблю. Там тихо. Лучше, если б скотный двор под боком был? Вон, Лупихины живут у скотников — постоянно дерьмом воняет, да коровы весь огород в прошлом году потоптали после дождя. Тут хотя б знаешь, что с кладбища никто не придет.
— Это да, — кивнул Семен. — Но все равно как-то неуютно…
— Кому как. — Марина свернула на тропинку. — Теперь уже близко. Вон мое крыльцо.
Когда они подходили к дому, с желтого крыльца сбежал мальчик лет трех-четырех и вцепился в ноги Марины. За ним, переваливаясь, выбежал из дома толстый щенок, но, остановившись перед ступеньками крыльца, жалобно запищал, вращая хвостиком и смотря на своих хозяев. — Это Руслан. Брат мой мелкий, — сказала Марина. — Сумку свою на терраску заноси. Внутрь не пущу.
— Я помню, да. — Семен улыбнулся мальчику, но тот спрятал лицо. — Я тогда на пол прямо поставлю, хорошо?
— Хорошо.
Он поднялся на крыльцо, и щенок мгновенно бросился к нему, заполз на ботинок и стал жевать шнурки. Семен, смеясь, нагнулся и, поставив звякнувшее ручкой ведро на доски крыльца, поднял щенка на руки.
— Какой у вас песик красивый, — сказал он.
— Какой есть. — Марина достала из кармана шорт яркую конфету и протянула мальчику. Тот сразу начал ее разворачивать, оторвавшись наконец от сестры. — Там еще кошка где-то бегает, но она, наверное, не вылезет — она чужих боится.
Со щенком в одной руке и сумкой в другой Семен зашел в терраску. Внутри было довольно грязно, пахло котами. На полу в беспорядке валялись игрушки — почти все старые и со следами зубов на них — то ли щенок баловался, то ли мальчишка. Семен поставил сумку поближе к окну, еще раз обернулся, посмотрел на столик с маленькой плиткой — готовили, видимо, тоже здесь, и пошел обратно на крыльцо. Щенок, прижатый к груди, теперь легонько покусывал его за пальцы.
— Я у окна поставил. — Семен опустил щенка на пол, и тот сразу же уцепился за его штанину. — Сумку свою в смысле.
— Понятно. — Марина махнула рукой на неухоженный двор. — Ну вот, теперь знаешь, где я живу. Вечером приходи за своей сумкой.
— Обязательно. — Семен аккуратно отодвинул щенка в сторону, подхватил ведро и спустился с крыльца. — Мне тогда прямо ведь быстрее, да? По дороге — а затем налево?
Марина вздохнула, закатывая глаза.
— Ладно уж, пойдем, провожу. Мелкий, будь у дома, понял? — Мелкий уже жевал конфету и потому просто кивнул. — Я сейчас дядю до леса провожу — и вернусь. Пойдем, — махнула она рукой Семену. — Я тебя тогда через деревню проведу, там быстрее.
Щенок за их спинами все-таки осмелился и нырнул со ступенек вниз головой, заворочался в пыли и, поднявшись на лапки, бросился к мальчику. Тот смотрел вслед взрослым с очень серьезным лицом, продолжая жевать свою конфету.
— Марина. — Семен поравнялся с девушкой, размахивая ведром из стороны в сторону. — Я тут подумал — а возьми еще двести рублей!
— Зачем это? — подозрительно спросила она и посмотрела по сторонам. На улице никого не было — видимо, в жару все уходили на озеро либо сидели по домам.
— Ну, брату своему купишь чего-нибудь. А то мне неудобно — зашел без гостинцев…
— На ночь все равно не пущу. — Марина посмотрела на две сотенных купюры, которые протягивал Семен. — И не тяни так деньги, а то вдруг кто увидит, еще чего подумают.
— Чего подумают? — Семен посмотрел на деньги в руке. — А-а-а… так здесь же мало совсем для этого?
— Мало для этого? — повторила Марина, сделав упор на «этого». — Серьезно? А сколько ты обычно «для этого» даешь?
— Да нет, я просто… — Семен, смутившись, опустил руку. — Я обычно ничего не даю. В смысле — и так все как-то получается…
— Очень, наверное, хорошо, что как-то так все получается. Без двух сотен-то. Только все равно — нет.
— Да нет же. — Семен попытался засунуть деньги ей в карман шорт, но, коснувшись джинсовой ткани на ягодице, вдруг понял, что делает что-то неправильно, и отдернул руку. — Я тут просто…
— Да давай уже сюда. — Марина выхватила двести рублей и засунула в карман шорт. Вновь осмотревшись, она сложила руки на груди и ускорила шаг. — Спасибо. Куплю ему чего-нибудь. Хотя ему сегодня больше не надо, а то еще не заснет.
— Понятно, — кивнул Семен, хотя мало что понял. — А родители ваши где?
— Мама померла лет семь назад, а отца и не было, — равнодушно бросила Марина, а затем вдруг осеклась и осторожно взглянула на Семена. Тот шагал рядом, разглядывая деревенские разноцветные дома, и по его лицу ничего нельзя было понять.
«Двадцать лет, — думал Семен. — Двадцать лет прошло, а деревня не поменялась. Все так же стоит на том же месте, и живут здесь такие же люди. Мать умирает, а спустя несколько лет у молодой девчонки рождается „младший брат”. И взять деньги у незнакомца у всех на виду — практически проституция… Деревня не меняется. — Семен грустно улыбнулся. — Сколько бы лет ни прошло — она все подметит и все припомнит».
Они свернули с наезженной пыльной дороги и зашагали по заросшей колее в сторону леса. Марина как будто вся расслабилась, сложенные на груди руки наконец опустились вниз, пальцы вытянули сочную травинку и засунули меж зубов — и вот она уже заулыбалась, разглядывая Семена.
— А чего это ты решил сейчас, по жаре, за грибами приехать? Почему не позже?
— Да что-то вспомнилось вдруг, — пожал Семен плечами. — Тетка всегда грибов нам присылала, в посылках таких. И сушеных, и в банках. Ну — до того, как в армию пошел. Потом уже она, видимо, болела, а я весь в делах был — и не заметил даже, что посылки больше не приходят. А потом умерла. Я все хотел как-нибудь приехать, посмотреть, что здесь да как, но все некогда… А недавно приснилось что-то такое, знаешь, детское и счастливое — и как раз с работой как-то застопорилось. Я подумал — а чего откладывать? Поеду прямо сейчас, возьму на три дня отгул, наберу грибов — и обратно. Ехать, правда, через Смоленск своим ходом долго, но зато — поезд, автобус, потом пешком — прямо туризм! Я раньше так часто ездил, по командировкам всяким… Сейчас уже реже.
— А как по мне — нечего здесь делать, хоть и грибы. — Марина смотрела вдаль и выглядела сейчас даже моложе своих лет. — Ничего здесь нет. И не будет. Потому что нового сюда ничего не попадает, а то, что есть, — то только стареет.
— Или растет, — сказал Семен, смотря на лес. — Я в детстве когда здесь был — лес только за плотиной начинался, а теперь уже и здесь все заросло…
— Поля не пашет никто, вот они и зарастают. — Марина выплюнула изжеванную травинку. — Значит, теперь понял, где плотина? Дойдешь теперь сам?
— Ну — вроде дойду…
— Ну вот и хорошо. — Она остановилась. — Обратно так же иди. И сразу же — ко мне шуруй, понял? Мы спать рано сейчас ложимся, Руслана я укладываю еще засветло, а встречать тебя не пойду и ждать не стану. Опоздаешь — костер тебе в ночи жечь не буду — двери запру да спать лягу, и не открою потом, сколько ни стучи. Наоткрывалась уже.
— Хорошо, — улыбнулся Семен. — Тогда я пойду?
— Иди. — Марина отвернулась и зашагала в сторону видневшейся вдалеке деревни, но вдруг сбавила шаг, а затем и вовсе остановилась и посмотрела на Семена через плечо. — Это не брат мой. Ты уже догадался, наверное, да?
Семен осторожно кивнул.
— Ну вот. Сын это мой. А мужа у меня нет и не было никогда. И всем это известно вокруг. Я просто так про брата ляпнула, не подумав. Не хотела на вопросы твои дурацкие отвечать. И сейчас на них отвечать не намерена, понял?
— Понял, — повторил за ней Семен. — Тяжело, наверное?
— Что — тяжело?
— Одной здесь жить?
— Я не одна, — сказала Марина и направилась к деревне. — Я с сыном.
Семен смотрел, как маленькая фигурка исчезла за густой некошеной травой, и, вздохнув, зашагал в сторону плотины.
Плотина
— Эй, ребятня! — заорал Семен, и три мокрых головы повернулись в его сторону. — Как там, не холодно?
— С чего бы это? — Один из купающихся мальчишек схватился за кривую арматурину, торчащую из плотины, подтянулся — и вылез из воды. Вниз весело побежали ручейки. — Вода вообще парная!
— Верю на слово! — рассмеялся Семен. — А что, где тут лучше всего в лес заходить?
Мальчишка обернулся к своим товарищам. Те не спеша подплывали к плотине, чтобы получше рассмотреть незнакомца.
— А зачем вам в лес? — Мальчишка, стоящий на цементном краю плотины, громко кричал, чтобы перекрыть звук падающей воды, и его голос, звонкий и глубокий, разлетался над гладью водохранилища. — Там проходу нет, деревня в другой стороне.
— А я из деревни и иду!
— Из Жданово? — недоверчиво крикнул паренек и, перебирая ногами по железной решетке, заспешил к берегу, спрыгнул с плотины и затряс черной шевелюрой, роняя в пыль крупные капли. Остальные мальчишки уже выбирались из воды — все как один тощие и дочерна загорелые. — А где вы там живете?
— Я из Смоленска приехал. На автобусе.
— А зачем? — продолжал допытываться пацан. — Чего здесь искать?
— Грибы искать. За ними и приехал.
— Какие сейчас грибы? Сыроежки только да лисички. Да и те червивые. Жара.
— Я на болото хочу сходить.
— На боло-о-ото? — Второй из мальчишек, с выгоревшими добела волосами и бровями, уже спрыгнул с плотины и теперь, открыв рот, смотрел на Семена. — Так там же смерть бродит!
— Какая смерть? — улыбнулся Семен.
— Не смерть, — первый пацан махнул рукой. — Это они городят вовсю. Нет там никакой смерти, россказни.
— Я тоже так считаю. — Семен подумал, что и в деревне встречаются рациональные ребята, но радость его была недолгой.
— Дьявол там бродит — это да, — продолжил говорить пацан. — А смерти нет никакой.
— Ого. А дьявол этот как выглядит?
— А не знает никто. Кто видел — тот уже не расскажет. Но хватает он людей — и затаскивает в ад. В прошлом году человека одного утащил. Он тоже на болото пошел. Только не за грибами, а так — по дурости.
— Нет там Дьявола, — внезапным тонким голосом заговорил еще один «пацан», и Семен, присмотревшись, понял, что это совсем еще маленькая девчонка, в одних трусах — и такая же загорелая, как и остальные. Смутившись, он отвел взгляд, а девчонка продолжала: — Там ведьмы живут, целых шестьсот шестьдесят шесть. Они друг друга за волосы хватают, и в круг становятся, и бегают так друг за другом, а как разгонятся — взмывают к луне и алкают там крови.
— Не неси, Машка, без тебе нанесут, — поморщился чернявый. — Ведьм не существует, а Дьявол существует. В книгах почитай.
— В книгах и про вампиров пишут тоже, и в кино я их глядела. А где эти вампиры? Нету их нигде, они только в Америке в школу ходят, у нас не дождешься, — недовольно сказала девчонка.
— В общем, не волнуйтесь, — сказал чернявый пацан уверенно. — Никаких ведьм тама нету. И смерти. Только Дьявол.
— А что, Дьявол вас уже не пугает? — рассмеялся Семен. — Или средство какое знаете? Подéлитесь?
— А средство-то простое. — Пацан сложил руки на груди, как и Марина совсем недавно. — Дьявол — он только грешников мучает да в болото утягивает. Вот Пашка Румянцев, который в прошлом году пропал, — тот пьяница был и самодур. Корову убил на Паску, прямо в пузо ей влетел на мотоцикле своем. И мотоцикл сломал, и корову. Вот Дьявол его и утащил. Мы — дети, мы безгрешные совсем, он на нас и не посмотрит. А взрослым — тем только светлым можно на болота ходить. Если какой грех за душой есть — не отвертится никак, точно сгинет!
— Это откуда у тебя такие познания? — удивился Семен.
— Я книжки читаю, — сурово ответил пацан, но сзади раздались смешки.
— Бабка у него в церкви в Ярцево свечками торгует, вот оттудова и знает все! — закричала девчонка. — А дьявола никакого нет. Иначе бы он Вольку не тронул.
— Волька сам дурак, — махнул рукой первый пацан, который, видимо, не хотел уступать место лидера какой-то девчонке. — Он из дому сбежал, а это грех.
— И ничего не грех, если потом возвращаешься, — сказал осторожно пацан с выгоревшими бровями и сплюнул на гальку. — Не должен за такое дьявол ребятенка хватать.
— А кто такой Волька? — заинтересованно спросил Семен.
— Да это наша звезда местная, — крикнула девчонка и, рассмеявшись, обернулась куда-то за дамбу. — Волька! Иди сюда скорее, тут тебя ищут! Хватит там каменюки перебирать!
От дамбы отделилась незаметная раньше фигура мальчишки и двинулась к ним. Семен, прищурившись, наблюдал за нелепой походкой, рыхлым лицом с отсутствующим взглядом и свалявшимися от пота и грязи волосами. Мальчик был явно не в порядке.
— Привет, Волька! — сказал Семен, когда мальчик остановился рядом с другими ребятами.
Мальчик не посмотрел ему в лицо, ничего не ответил, а остался стоять за спинами товарищей. Те, улыбаясь, поглядывали то на него, то на Семена.
— Он обычно поразговорчивее будет, — сказал выгоревший. — Только, видать, стесняется чего-то… Ну-ка, Володька, расскажи, кто тебя в болото увел?
— Цапа, — пробормотал Волька, а затем поднял пухлую ладошку, всю в маленьких бородавках, и несколько раз схватил воздух перед своим лицом.
— Вот и все, что говорит об этом. Только цапу какую-то помнит, — сказала девчонка.
— А он что, на болоте потерялся?
— А то ж! Два дня искали! Это в позапрошлом году было, в июне. Ему мама крапивой наподдала за то, что коров не встретил, — а он в лес бросился. А там уже темнеет. Собак привозили вынюхивать, да только не нашли.
— Потому что Дьявол следы путает, — сказал чернявый пацан.
— Или потому, что ведьмы по воздуху летают. — Девчонка показала ему язык. — Или потому, что смерть следов не оставляет.
— Так что же? — спросил Семен, не отрывая взгляда от Вольки. — Как же ты вышел?
— Цапа… — сказал он опять. Ладошка опять сжала воздух перед лицом, а потом медленно раскрылась в ладонь. — Отпустила…
— Мама его пошла в лес да душу Дьяволу продала, — просто сказал чернявый. — Так и спасся.
— Не говори глупостей. — Девчонка вдруг стала очень серьезной. — Не говори, чего не знаешь. Никакую душу она не продавала.
— Погодите. — Семен понял, что запутался. — Мама его тоже пропала?
— На второй день, как Волька пропал, мама его тоже в лес ушла, — кивнул выгоревший. — Одна совсем. Вечером, поздно, когда эмчеэсовцы с собаками вернулись уже. Никому ничего не сказала — а просто в лес пошла, к болоту. А утром Волька вышел. Вот такой вот. Ниче никому не рассказал, только повторяет, что его кто-то сцапал. Я так думаю — смерть его сцапала, а потом сжалилась и отпустила…
— Какая печальная история, — сказал Семен. Мальчика и вправду было жалко. Он стоял, поминутно теребя свой покрасневший нос пальчиками с россыпью бородавок, и, казалось, вообще не интересовался происходящим вокруг него. — А что, его не определили никуда?
— Куда? — не понял чернявый.
— Ну — в интернат какой…
— Куда там, — махнул рукой мальчишка. — Отец у него пьет с тех пор, а Волька у бабки живет своей. В интернат ярцевский его возили, да он там ссаться и кусаться начал, его обратно бабке привезли. Здесь ему хорошо, бегает с нами везде, камнями в воду кидается да сопли на кулаки наматывает. Только у него после болота бородавки начались, йодом лечили — не проходят. Поэтому он вроде как на карантине немного. Хотя они не передаются, даже если расчешешь. Мы пробовали.
— Понятно, — сказал Семен. — Так все же — где мне лучше в лес войти, чтобы к болоту выйти?
Ребята переглянулись друг с другом, девчонка закатила глаза.
— Да зачем вам туда идти? Грибов и на трассе купить можно.
— Лисичек? — улыбнулся Семен. — Червивых?
— Ну хоть и их. — Пацан вздохнул и обернулся лицом в сторону леса. — Короче, если по вот этой дороге, то это в сад колхозный бывший выйдете. Там грибов нет, там только яблоки, но они сейчас кислые. Вам надо двинуть вверх, по склону, там сначала по полю, но потом на колею выйдете. Направо дойдете к асфальту, и по нему можно будет обратно в Жданово прийти, только это долго. А если налево двинете — то там к просеке выйдете, по которой провода идут. На ту сторону перейдете — там бор уже будет, там малина даже есть. Можно по просеке этот бор обойти, а можно прямо через него пролезть, там километр где-то, а прямо уже за этим бором, там уже…
— Цапа, — сказал Волька, и все повернулись к нему.
— Болото? — уточнил Семен.
Ребята кивнули.
— Ну да, там уже болото начинается.
— А откуда вы знаете это, если туда не ходите? — спросил Семен.
— Так мы ходим, — сказала девчонка, и остальные закивали. — Только с народом ходим, человек по восемь, когда голубика пойдет или черника. Когда много народу — не заблудишься ведь.
— Ну понятно. — Семен поднял ведро, накинул дужку на руку и двинулся в сторону леса. — Спасибо, ребят! Пойду и я погляжу на вашего Дьявола, или там смерть, или, если повезет, — на ведьмочек…
— Цапа. — Волька вдруг поднял голову и посмотрел прямо на него. — Цап-цап. — Его ладошка вытянулась в сторону лица Семена, пальцы зашлепали друг по другу. — Цап-цап!
— Ого! — Девчонка подошла к Вольке, но тот уже вновь опустил глаза. — Эк его на жаре двигать начало! Волька! Ау! Ты бошку окунуть в воду не хочешь, а то напекло небось!
— Не-е-е, — твердо сказал Волька и замотал головой. — Не надо в воду. Не пойду.
— Брось, гиблое дело, его в воду силком не затянешь. — Чернявый полез обратно на дамбу. — Прощевай, дядька! Берегись дьяволов!
И они втроем, хохоча и толкаясь, побежали к краю дамбы и бухнулись в темную парную воду.
Семен, сбивая дыхание, тяжело шагал вверх по склону, переступая через кротовьи рытвины и улыбаясь звучащим позади него ребячьим выкрикам. Остановившись на самом верху, он кинул взгляд на плотину — и вздрогнул.
Волька стоял, подняв голову в его сторону, — и смотрел прямо на Семена. Его поднятая рука шевелилась в воздухе, раз за разом сжимаясь в пустоте; губы дурачка шевелились.
Семен был слишком далеко, чтобы разобрать слова, но он и так догадался, что именно говорил ему вслед Волька.
— Цап-цап, — пробормотал Семен и снова вздрогнул. Слова эти показались теперь угрожающими. Семен помотал головой, отвернулся от плотины и быстрым шагом направился по указанному ребятами пути.
За его спиной Волька опустил руки, сел на землю и, обхватив колени руками в бородавках, стал смотреть в сторону леса.
Евгений Шиков. Продолжение в комментах
Дела семейные
Отец не любил рассказывать, что случилось с его вторым братом. Но еще в детстве из разговоров взрослых Николай узнал, что Гриша («другой папин брат») пропал без вести.
«Второй, другой» – так говорилось, потому что было их трое мальчишек-близнецов, не было среди них младших и старших. В объемистом семейном архиве обкомовца Язова почему-то сохранилась лишь пара фотографий, где все его три сына были вместе: будто клонированные в фоторедакторе, которого ждать еще полвека. Одинаковые улыбки, одинаковые проборы, даже складки на мешковатых шортах по моде пятидесятых – и то одинаковые. Надо было как следует присмотреться, чтобы заметить разницу между мальчиками. Гриша был самым тощеньким и на обеих фотографиях стоял несколько на отшибе.
Снимки Николай обнаружил, когда занялся расхламлением квартиры. Квартира ему досталась в наследство – бабушка, перед смертью в свои девяносто с лишним лет, оставаясь, впрочем, до самых последних дней в сознании до жути ясном, записала квартиру на единственного внука. Не на отца, так и жившего с матерью в однушке-малометражке, которую им когда-то сообща организовала материна родня и где прошло Николаево детство. Не на дядю Глеба, мотавшегося по общежитиям, а может, в очередной раз «присевшего». Именно на Николая.
На своей памяти Николай был вообще единственным, кого бабушка признавала из всей малочисленной родни. Николашечка – эту карамельную вариацию собственного имени он не выносил до сих пор. Лет аж до двадцати, хочешь не хочешь, Николай в обязательном порядке должен был провести у бабушки выходные. Он, вроде важной посылки, доставлялся отцом до порога (мать к бабушке не ходила никогда) и всю бесконечно длинную субботу и такое же длинное и тоскливое воскресенье обретался в громадной, как череда залов правительственных заседаний, и загроможденной, как мебельный склад, четырехкомнатной квартире на последнем, двенадцатом, этаже неприступной, похожей на донжон, серой «сталинки» с могучим черным цоколем, не растерявшей своей внушительности даже на фоне новых многоэтажек по соседству.
Дом был архитектурным памятником федерального значения и композиционным центром «жилкомбината», комплекса жилых зданий, построенных в тридцатые специально для чиновников областного правительства. При взгляде на чугунные ворота, перегородившие по-царски монументальную арку, легко можно было представить выезжающие со двора зловещие «воронки». А они-то сюда точно приезжали, причем именно за арестованными: комплект здешних советских царей не раз менялся и вычищался самыми радикальными мерами. Деду Николая, Климу Язову, второму секретарю обкома КПСС, невероятно повезло: его не коснулись никакие чистки.
Бабушка (судя по фотографиям, в молодости очень красивая – яркой, но несколько тяжеловесной, бровастой казацкой красотой) была младше мужа лет на двадцать. Тем не менее в семье заправляла именно она. Сыновья перед ней трепетали. Отец, передавая Николая бабушке, ни разу не переступил порог квартиры. Дело было в том, что отец находился у бабушки в немилости с тех пор, как женился «на этой лахудре драной, твоей, Николашечка, матери». А женился он очень поздно, ему уж за сорок было. До того тихо жил в угловой комнате наверху сталинского донжона, бывшей своей детской, писал научные статьи про советских литературных классиков, получил кандидата, потом доктора филологических наук и был «хорошим мальчиком», покуда не влюбился в одну свою студентку – мать Николая. Брат отца, Глеб, к тому времени из семьи выбыл давным-давно, вроде как сам сбежал еще в студенчестве, бросив заодно с родными пенатами и вуз, в котором тогда учился. Бабушка про дядю Глеба вовсе не хотела слышать, только плевалась.
У бабушки маленький Николай изнемогал от скуки: дома был видеомагнитофон, игривый рыжий кот, музыкальный CD-проигрыватель и нормальные книги, а в бабушкиных хоромах имелась лишь радиоточка, иногда вещающая насморочным голосом что-то неразборчивое, напоминавшее отголоски заблудившихся передач полувековой давности, со снотворными радиоспектаклями и унылым бренчанием рояля, да черно-белый телевизор, показывавший лишь два канала с новостями, перемежающимися рекламой. Был еще никогда не включавшийся проигрыватель грампластинок, у которого Николай иногда тайком от бабушки вращал пальцем диск, приподнимая тяжелую прозрачную крышку.
И, конечно, всюду, даже в коридоре и на кухне, стояли громадные шкафы с центнерами книг. Книги эти были нечитабельны. Недаром на корешках многих из них, в черных липких обложках, было написано лаконичное предупреждение: «Горький». Было еще много чахоточно-зеленых книг с кашляющей надписью «Чехов», толстенные серые тома закономерно назывались «Толстой», полно было разнокалиберного «Пушкина» – в общем, профессору литературы, автору многих монографий Людмиле Язовой так и не удалось привить внуку любовь к классике, а отец, тоже литературовед и профессор, даже не пытался.
Самым интересным для маленького Николая оказались многочисленные шкафы с одеждой. Все они были заперты, и открывать их строго-настрого запрещалось, но однажды Николай подсмотрел, в каком ящике комода бабушка держит ключи, принес из дома игрушечный фонарик на слабенькой батарейке и стал играть в исследователя пещер, он даже знал, как эта профессия называется: спелеолог. Под коленками хрустели и проминались залежи картонных коробок с обувью, что не носилась уже десятки лет, лицо шершаво трогали полы тесно развешенных пальто. В шкафах было таинственно и чуть страшновато.
Наиболее привлекательным для игры был встроенный, выкрашенный масляной краской в тон серым косякам шкаф в конце коридора, трехстворчатый и высоченный, переходивший в недосягаемые антресоли. Николай долго не мог подобрать к нему ключ, а когда наконец удалось, перед ним открылась почти настоящая пещера, глубокая, с тремя рядами многослойной одежды на плечиках и какими-то дремучими сундуками внизу. Николай шагнул внутрь и прикрыл за собой дверцу, чтобы бабушка ничего не заметила. Замок тихо щелкнул, но Николай не обратил на это внимания – ключ-то был у него – и полез в недра шкафа. Фонарик светил очень тускло: садилась батарейка. Казалось, прошло много времени, прежде чем Николай добрался до задней стенки. Воняло здесь так, что слезы на глаза наворачивались: вездесущим нафталином от моли. У бабушки никогда не водилось ни моли, ни тараканов, ни клопов, любая живность избегала этой сумрачной, невзирая на огромные окна, квартиры, но бабушка все равно регулярно раскладывала свежие нафталиновые брикеты из своих запасов и ловушки для тараканов, брызгала дихлофосом в вентиляцию, забираясь по стремянке, так что в ванную и на кухню потом невозможно было зайти. Николай расчихался от шкафной вони, и тут фонарик погас: батарейка окончательно издохла.
В кромешной темноте, путаясь в свисающей одежде, оступаясь на коробках, Николай полез в сторону выхода. Стукнулся об окованный угол сундука, заскулил: очень больно. К тому же захотелось в туалет. А дверь шкафа все не находилась. Кругом лишь топорщились жесткие полы старого шмотья, припасенного будто на целую роту, да ноги путались в сваленных как попало заскорузлых сапогах и калошах. Хныкая, Николай рванулся вперед и уперся в стену. Пошел вдоль нее, чудовищно долго перелезая через коробки и сундуки (мочевой пузырь уже едва не лопался), и тут выяснилось, что дверь шкафа заперта и ключ не вставляется: с обратной стороны скважины в замке не было. Наказывала бабушка сурово – могла и в угол поставить, и обеда лишить, и дедовым офицерским ремнем всыпать, но делать-то нечего. Николай стал со всей силы колотить в дверцы шкафа и кричать. Никто не отзывался. Время шло. Сначала он отбил кулаки и пятки, затем охрип от воплей и плача и в конце концов обмочился.
Сколько он тогда просидел в шкафу, осталось неясным. От духоты и вони начала кружиться голова. Именно тогда Николаю почудилось, будто он тут не один – тьма словно зашевелилась, повеяло затхлостью и плесенью, что-то отчетливо зашуршало в глубине, закачались, задевая макушку, бесчисленные пальто, хотя Николай давно сидел замерев, сжавшись в комок, привалившись плечом к злополучной двери. Кажется, что-то прохладное дотронулось до его лодыжки. Николай почти потерял сознание от страха. Таким его и обнаружила бабушка, когда отперла шкаф. Грубо выволокла за шиворот и коротко, как взрослого, ударила кулаком в лицо, аж зубы лязгнули. Она была бледно-серой, с дикими глазами.
– Ты что, совсем сдурел?!
А затем в первый и последний раз Николай услышал от нее, филологини, мат.
С тех пор к шкафам в бабушкиной квартире Николай не подходил. И отчаянно протестовал каждое субботнее утро – ненавистное утро очередной «ссылки». «Я туда не хочу! Сам туда иди!» Отец вздыхал: «Семейные дела – это долг. Твой долг – навещать бабушку. Ее сердить нельзя». Мать не вмешивалась.
Николай часами сидел в углу дивана, на равном удалении от всех шкафов в гостиной, и пытался читать иллюстрированную энциклопедию про космос, но книга, такая увлекательная дома, здесь не затягивала. Подходил к окну, смотрел поверх высокого подоконника на улицу – в основном там было видно лишь небо, забранное решеткой. Решетки на окна бабушка заказала еще в самом начале девяностых – тогда ограбили соседей со второго этажа, залезли через окно, вынесли золото и документы. Едва ли какой-то сумасшедший акробат проник бы в квартиру через окна на двенадцатом этаже, но бабушка с тех пор боялась грабителей. Так появились эти толстые, частые, под стать тюремным, решетки и в придачу относительно новая входная дверь, тяжеленная, сварная, хоть на сейф ставь, запиравшаяся на три хитрых замка длинными ключами.
В этом жилище, способном выдержать осаду, Николаю всегда очень плохо спалось. До происшествия со шкафом его лишь донимала бессонница, а темнота, такая простая и уютная дома, здесь казалась враждебной, с непонятными поскрипываниями паркета и мебели. Ну а после происшествия ночь с субботы на воскресенье вовсе превратилась в пытку. Постоянно мерещились шорохи. Оба окна (спал Николай в бывшей отцовской комнате) не были зашторены: когда бабушка уходила, он тут же отдергивал портьеры. С озаряющим потолок йодисто-рыжим светом близкого проспекта темнота не была настолько нестерпимой. Но все равно в углах – особенно заметно было боковым зрением – что-то явственно шевелилось. Николай пялился туда до сухости в глазах, почему-то уверенный: пока смотришь, то, что там копошится, не нападет. Засыпал он под утро, когда с проспекта доносились трамвайные трели, а тьма в окнах истончалась до предрассветного сумрака. И каждое воскресенье проходило в отупении от недосыпа.
В первые недели после случая со шкафом Николай умолял бабушку, чтобы та завела котенка или щенка, да хоть морскую свинку – отчего-то казалось, будто в присутствии беззаботного пушистого существа ночи перестанут быть такими тягостными. Однако бабушка терпеть не могла животных. «Ни за что! Грязи от них! Мебель попортят! Не вздумай притащить кого – в окно выброшу!» С неясным, но очень взрослым чувством, в котором восьмилетке не под силу было распознать раздражение напополам с ненавистью, Николай оставил эту тему. Но однажды принес из дома отводок фикуса в горшке: бабушкины необитаемые подоконники с некрополями из громоздких статуэток, стопок пропылившихся «Октябрей» и мертвых настольных ламп нагоняли тоску. Через неделю Николай обнаружил растение засохшим и почерневшим, будто его специально выставили на мороз. Возможно, бабушка просто не закрыла на ночь окно, а к выходным здорово похолодало.
– Ты вообще что-нибудь любишь, кроме вещей? – спросил тогда Николай.
– Какой же ты неблагодарный! – оскорбилась бабушка. – В точности как твой отец! Я же все, все для тебя делаю!
Для единственного наследника семьи Язовых она делала и впрямь немало: поспособствовала тому, чтобы троечника Николая перевели из затрапезной школы в элитную гимназию, к старшим классам нашла отличных репетиторов для поступления в вуз.
Во времена студенчества стало проще: днем Николай учился, вечерами подрабатывал и на выходные приходил к бабушке отсыпаться. Детские страхи теперь казались глупостью. Впрочем, бабушкины шкафы Николай по-прежнему трогать остерегался. Он притаскивал ноутбук с играми и наушники – с таким оснащением «ссылка» сделалась вполне терпимой. Бабушка со своими причудами и горами старого барахла теперь выглядела скорее смешной, чем грозной. Ночами Николай спал и не видел никаких снов. До поры до времени.
– Может, тебе разменять этот ангар на что-нибудь более компактное? – как-то раз вечером сказал он бабушке, сетовавшей на пенсию и дороговизну лекарств. – Тут же одна коммуналка жрет прорву денег. А еще гнилые трубы. И потолок вон сыпется. Купили бы две нормальные двухкомнатные квартиры, одну тебе, другую родителям, а я б в однушке остался – пока самое то.
– Да ты сдурел?! – вскинулась бабушка. – Никогда я не продам эту квартиру, никогда! И ты не вздумай продавать! Это же наш дом! А дома, как говорится, и стены помогают…
Той ночью Николаю приснился жуткий многослойный сон. Будто кто-то тянет его за руку с кровати, он открывает глаза и видит: его кисть обхватывают две маленькие ладошки. Детские руки. С косо отрубленными запястьями, сросшимися местами срезов. Николай судорожно стряхивает пакость, резко просыпается, садится на кровати. И слышит дробный мелкий топот, будто по коридору бежит что-то маленькое и многоногое. Появляются на пороге эти сросшиеся детские ручки, шустро перебирают по паркету бескровными пальчиками… Николай вздрагивает, мучительно просыпается, потирает глаза. И снова слышит в коридоре легкий проворный топоток. Он вскакивает, матерясь, выбегает в коридор – совсем рядом дверь кладовки, а в ней, помимо прочего хлама, есть большой строительный лом, валяется возле самого порога. Тяжелым стальным прутом с загнутым наконечником Николай что было силы бьет мелкую нечисть, отчетливо слышит хруст тонких пястных косточек – а что потом, выбросить в мусорку?! Однако дрянь не хочет умирать и вдруг прыгает ему на грудь. Николай просыпается в липком холоднющем поту, от ужаса и омерзения его подташнивает.
Тем утром он сразу запихал ноутбук в сумку, вежливо сказал ошарашенной бабушке «до свидания» («Да ты что, Николашечка, да ты куда?!») и вышел из квартиры. И не появлялся в ней больше десятка лет. Почему ему раньше не пришло в голову просто взять и уйти? Почему у него так поздно дало трещину это чертово гипнотическое повиновение взрослым? Конечно, отец негодовал, а бабушка без конца названивала по городскому телефону. Мать молчала. Двадцатилетний Николай усмехался, поводил раздавшимися плечами: «С меня хватит этих ваших семейных игр. Сами играйте. А у меня других дел полно».
На этом все вроде бы закончилось. Скоро Николай съехал в съемную квартиру, в которой не было городского телефона, из родни общался только с родителями и полагал, что тоже, как отец, попал у бабушки в немилость (ну и наплевать, детских ночных бдений во имя родственной любви ему хватило на всю жизнь вперед). Годы шли, здоровье бабушки ухудшалось. Отец неоднократно передавал Николаю ее просьбу навестить. «Бабушка хочет сказать тебе что-то очень важное». Николай вежливо уверял, что непременно навестит, но даже не думал выполнять обещание. Объявился пропадавший где-то много лет дядя Глеб, принялся обхаживать отца на случай, если бабушка завещает тому свою огромную квартиру (у обоих братьев были подозрения, что их непримиримая мать отпишет квартиру государству). Николай во все это не вникал и даже на бабушкины похороны не пришел: как раз тогда, по счастью, улетел в длительную командировку.
Тем удивительнее было, что по бабушкиному завещанию квартира со всем добром отошла именно Николаю. Сначала он предложил родителям переехать из однушки, пожить, наконец, с размахом, но те, вполне ожидаемо, отказались наотрез. Не отцу же с матерью горбатиться, делая в этой дыре ремонт, рассудил Николай, и выставил квартиру на продажу. Прошла уже пара лет, но, удивительное дело, охотников на жилье в самом центре не находилось – ни покупать, ни снимать. Возможно, потенциальных покупателей или съемщиков приводил в ужас потолок, с которого отваливались глыбины штукатурки. Возможно, пугал статус памятника архитектуры, из-за чего, даже чтобы поменять старые окна на современные пластиковые, нужно было пройти череду сложных согласований.
В квартиру Николай пришел перекантоваться, когда крупно поссорился со своей женой Иркой. Они долго жили вместе, мирно и вполне счастливо, и тут Ирку угораздило начать пилить его на тему «давай родим ребенка». Никаких детей Николай не хотел.
– Слушай, ну тебе действительно так охота этот гемор? Двух котов недостаточно?
– Не то чтобы охота… но пора ведь. Время-то идет.
– И что?
– В старости жалеть будем.
– Да прямо уж. Тебе вот в самом деле хочется всей этой возни, таскать его в садик, в школу, воспитывать?
– А что такого?
– Ну вот он скажет: «Я не хочу в садик, там игры дурацкие. И в школу не хочу, сидеть пять уроков, свихнуться можно». А я ему скажу: «Ну и не ходи – ни в садик, ни в школу. Я и сам в детстве от всего этого говна чуть не спятил». И кто из него вырастет? Чтобы воспитывать, надо заставлять, понимаешь? А я даже котов заставить обрабатывать когтеточку вместо дивана не могу. Вопли, наказания. Не для меня вся эта тряхомудина.
– Не думала, что ты такой инфантил.
В общем, поссорились они всерьез. Ирка сказала, что пока хочет пожить одна, подумать, что делать дальше. Николай оставил ее в их съемной квартире, а сам пошел пожить в бабушкиной – может, хоть порядок там наведет, косметический ремонт сделает, глядишь, и найдутся на чертовы монументальные хоромы охотники.
Не то чтобы он совсем не переносил детей, просто действительно терпеть не мог на кого-то давить. А еще при одном слове «детство» в его сознании раскрывалась череда загроможденных мебелью сумрачных помещений, и вонь нафталина с дихлофосом, и бесконечные ночи с вглядыванием в шевелящуюся тьму.
Первым делом Николай потратил несколько вечеров на то, чтобы вынести на помойку фантастическое количество старой одежды и обуви. Рассортировал книги, статуэтки и прочее барахло – что-то пойдет в антиквариат и букинистику, что-то на свалку. Вооружившись тем самым ломом из сна, с мстительным удовольствием разнес выгоревшие на солнце, просевшие шкафы во всех комнатах и отнес доски к мусорным бакам. Встроенный шкаф в коридоре пока оставил – на десерт. Расправляясь с жупелами своего детства, он, изумляясь самому себе, ощущал некое освобождение.
Вот тогда-то к нему и пришел дядя Глеб. Видимо, узнал от родителей, что Николай сейчас живет в бабушкиной квартире. Телефон в хоромах давным-давно был отключен, как и домофон, даже дверной звонок Николай не включал в розетку (на площадке, кроме бабушкиной, было только две квартиры, и обе необитаемые: жильцы-старики давно умерли, наследников не объявилось, а кровля там была в аварийном состоянии и все не решался вопрос с реставрацией).
Так что Николай очень удивился, когда кто-то принялся барабанить в дверь. Дядя Глеб в свои семьдесят с лишним выглядел куда хуже отца – тощий, весь какой-то желтый. Хотя до сих пор они были похожи. Оба смахивали на актера Тихонова. Потому-то мать в отца когда-то и влюбилась: по стародевическим коридорам филфака курсировали лишь тетки, а тут вдруг такой Штирлиц. Тихоновская внешность досталась и Николаю.
– Хлам выкидываешь? – первым делом кивнул дядя Глеб на сваленные у порога туго набитые мусорные мешки. – Поверь, все дерьмо из этой квартиры вовек не выгребешь.
– Зачем пришел? – не слишком дружелюбно спросил Николай.
Дядю Глеба он видел редко и знал плохо. Судя по скупым рассказам родителей, тот время от времени сидел за что-то в тюрьме. Видимо, в тюрьме же его ударили в горло заточкой: в артерию не попали, но повредили голосовые связки, из-за чего дядя Глеб не столько говорил, сколько сипел. Если честно, Николаю хотелось просто вытолкать его за порог.
– По делам семейным пришел, – ответил дядя Глеб, щербато улыбаясь. – Нехорошо, видишь, получилось. Тебе целая квартира досталась…
– Деньги, что ли, нужны? – скучно спросил Николай. – Вот продам я эту долбаную квартиру, отсчитаю тебе треть. Треть будет родителям, треть мне. Все честно.
– С ума сошел – продавать?
– Ну а чего тебе еще надо-то?
– Отпиши мне квартиру, а? Все равно тебе эти деньги счастья не принесут.
Вот теперь желание вытолкать наглого родственничка прочь подавить было очень трудно. Николай рефлекторно сжал кулаки.
– Прям всю квартиру тебе одному? Рожа-то не треснет? С какой радости вообще?
– Я хочу умереть здесь.
– Так я тебе и поверил. Давай-ка уходи по-хорошему, а то выпровожу.
Конечно, Николай был выше и сильнее тощего старика, но на миг у него мелькнуло опасение, что, может, дядя Глеб в тюрьме тоже навострился пользоваться заточкой и выхватит ее откуда-нибудь из-за пояса в нужный момент. Бред, конечно…
– Давай-ка я тебе кое-что расскажу. – Дядя Глеб тем временем стащил башмаки и, скрипя паркетом, направился в сторону кухни. – Сам поймешь, нельзя продавать эту квартиру.
– Расскажи хоть, за что тебя бабушка так ненавидела. – Николай пошел следом. – За то, что из дому сбежал? И учти, халабудину эту я все равно продам. Соглашайся на треть, пока предлагаю. Потом вообще хер получишь.
Кухню Николай разобрать еще не успел. Дядя Глеб открыл угловую тумбочку возле отключенного допотопного холодильника «ЗИЛ Москва», безошибочно выудил из глубины бутылку водки с пожелтевшей от времени этикеткой. Николай заглянул внутрь и присвистнул: в тумбочке стоял солидный запас спиртного еще с советских времен.
– И ты это будешь пить? Она ж древняя как говно мамонта.
– А чего ей сделается? – хмыкнул дядя Глеб. – Ты садись и слушай.
Рассказ Оксаны Витловской. Продолжение в комментах
Спускаясь и поднимаясь
— Вот эта — моя любимая, — Тася пододвинула ко мне альбом репродукций, расталкивая им чайные чашки, — Она называется “Спускаясь и поднимаясь”. Думаю по ней курсовую писать.Я с сомнением покачала головой.
— Петрович любит, чтоб по русским художникам. Я б не стала. Ты же знаешь, как он…
— Вася, — тихо перебила меня подруга, — Это все не важно. Это не просто курсач будет. Это будет исследование. Такого никто раньше не делал.
— В смысле?
— В прямом. В этой картине… — она немного задохнулась, как бывало всегда, когда ее обуревали эмоции, — В ней есть такое двойное дно, что всем этим вашим Смирновым и Власовым даже не снилось.
— Ты это... Смирнова-то не трогай, — сказала я, — Давай на личности не переходить, да?
Но Тася даже не улыбнулась. Она задумчиво смотрела на репродукцию в окошке своих аккуратно сложенных рук, словно забыв о моем присутствии. Будто что-то высчитывала. Впрочем, нет. Для этого она выглядела слишком отстраненной. Ее сосредоточенные и при этом немного пустые глаза внимательно изучали каждую фигурку, которая поднималась по невозможной лестнице на самом верху башни.
Здание будто бы висело посреди пустоты — неудивительно, ведь художник сосредоточился на невозможной геометрии. Окружающая обстановка его не интересовала. Из-за этого белого листа и резкости теней мне пришло в голову, что на рисунке должен быть зимний полдень. Или полночь? Отсутствие цвета здорово мешало определиться. Перспектива, взятая сверху, заставляла думать, что я смотрю на ненастоящий домик, склеенный из белого картона. Если бы не эти фигурки…
Они шествовали по лестнице, кружась странным, обреченным образом на открытой площадке. Ходоки были одеты в какие-то средневековые капюшоны, которые закрывали им лица. Сразу возникала ассоциация не то со стражниками, не то с палачами. Все они были очень похожи друг на друга — одеждой, походкой, манерой держать голову и устало сутулиться.
На картине присутствовало еще двое людей, но их я заметила далеко не сразу. Эти занимались кое-чем другим.
Первого я обнаружила на открытом балкончике. Он нашел отличную обзорную точку, и теперь, вальяжно облокотившись на перила, изучал товарищей. Наверное, он пытался понять, для чего они все это делают. А может, просто надеялся, что они перестанут.
Второй человек, кажется, устал ждать. Ему удалось спуститься вниз и найти себе место на парадной лестнице. А может, он и не поднимался вовсе? Человек сидел спиной к главному входу, из которого робко таращилась ему в затылок карандашная темнота. Его руки были сложены на коленях. Я спросила себя, почему же он не уходит. Наверное, потому что уходить было некуда: он смотрел на край пустого листа.
Эта фигура вызывала неприятный диссонанс. Эшер нарисовал свою картину, потому что был увлечен невозможностями, и сосредоточился на чистой геометрии. Он убрал цвет и окружающий мир, чтобы зрители не отвлекались, и нарисовал одинаковых болванчиков, чтобы мы тоже могли насладиться его рукотворным парадоксом. Но этот человек, обреченно сидящий на лестнице… Я не могла понять, зачем художник его добавил. Одна-единственная фигурка меняла весь смысл. Она делала картину какой-то жестокой.
— Почему вот этот вот сидит и не ходит с остальными? — спросила я Тасю.
Та меня будто не услышала. Я заметила, что она приоткрыла рот, глядя на башенку, и почувствовала легкое раздражение.
— Вот этот, — попробовала я снова и ткнула пальцем прямо в беднягу на лестнице.
От этого вторжения физической реальности в ее поле зрения Тася очнулась. Взяла мой палец, корректно отодвинула его с изображения и зачем-то протерла страничку рукавом свитера. Потом посмотрела на меня своими кошачьими глазами.
— Потому что он пришел отдельно от того, кто на лестнице.
— От кого из них?
Тася неопределенно зажмурилась.
— Он там всего один.
Вы должны меня понять. Я тогда не удивилась, потому что Тася всегда была немножко странной. Она верила в ангелов, но никогда не ходила в церковь. У нее была одержимость белым цветом и цифрой восемь. Она всерьез считала, что запах ладана прогоняет тех, кто притворяется людьми. Таким уж она была человеком.
Но, черт возьми, видели бы вы других студентов! Мою лучшую подругу тех лет, синеволосую Дашу, которая делала расклады на Таро и зачем-то собирала куриные кости. Моего одногруппника Волгу, который считал себя вторым воплощением Фриды Кало и царапал руки скрепками. Это правда, что все художники странные. Наш учебный корпус был настоящим балаганом, и порой было трудно понять, кто действительно безумен, а кто просто притворяется. Безумствовать и притворяться было для нас хорошим тоном. Мы соответствовали своим образам трагических художников. И все это как-то… снижало градус критики, понимаете? Все это было очень глупо.
Той зимой Тася влюбилась в Морица Эшера, вернее, в его поздние работы. Сидя на общей кухне, она подолгу рассматривала цикл “невозможных” литографий — все эти имп-артовские кошмары бесконечных лестниц, ломаных многогранников и отсутствующих перспектив.
Помню это так, будто видела только вчера: общажные соседки толкутся вокруг плиты, жаря пельмени, кухню заполняет вонь масла и сигарет, Ленка в канареечных клёшах выпрямляет волосы у единственной рабочей розетки, дредастая Женя играет на укулеле, а Тася тихо сидит посреди этого бедлама, склонив голову над книгой. Умирающий зимний свет крадет очертания ее любимых лестниц, но она ничего не замечает, пока кто-то из нас, наконец, не включает свет…
В начале ноября она стала реже появляться на парах. Но и в комнате она не отсиживалась. Поначалу я заходила к ней в перерывах — от общаги до учебного корпуса было рукой подать. Я надеялась, что она просто хандрит в постели, но ее кровать всегда была аккуратно заправлена. Облупившуюся белую стенку над изголовьем покрывала мозаика плакатов с муми-троллями, учебных рисунков и распечатанных на полосящем принтере иконок.
Я не помню, в какой момент их начали вытеснять Эшеровские картины. По-моему, к началу декабря она сняла все свои иконы и большую часть плакатов. Остались лестницы. На прикроватном столике копились грязные чашки, и в них я находила простые карандаши и светлые Тасины волосы.
В один из дней, сидя рядом с подругой на паре по истории, я заметила, что она носит один и тот же оранжевый свитер. От него немного пахло. И тогда я вспомнила, что под Тасиной кроватью видела вещи. Она, кажется, ленилась стирать: просто носила одежду, пока та не становилась совсем грязной, а потом закидывала ее под кровать и доставала из шкафа новую.
Однажды я наткнулась на нее в курилке за учебным корпусом. Она стояла в утоптанном сугробе, обняв себя руками — одна-одинешенька, без куртки и без сигарет. Сначала я не поняла, что она делает. Тася покачивалась на месте, задрав голову к небу, и что-то бормотала. Я подошла и осторожно позвала ее по имени. Она вздрогнула и быстро посмотрела на меня своими покрасневшими от холода глазами.
— Тасенька, где твоя куртка? — тихо спросила я. Она не ответила и опять подняла лицо вверх. Стыдно сказать, но я только тогда начала догадываться, что с ней не все в порядке.
— Кольцевидная интрига, — спокойно заявила она мне, — Как Эшер и говорил. Взгляни.
Я запрокинула голову к небу и увидела, на что она смотрит.
Над корпусом кружила стая птиц.
Орнитологи называют это мурмурацией — такое пушистое, кошачье слово. Это когда птицы выстраиваются в какие-нибудь геометрические фигуры во время полета. Та стая по какой-то причине создала неровное кольцо, перевитое с одного края. Не знаю, как вам объяснить… Вы когда-нибудь видели ленту Мёбиуса? Вот так они и выглядели.
Очень высоко, кажется, в сотне метров над нами, маленькие птицы упрямо кружились в черном хороводе.
Мы с Тасей долго стояли на морозе, задрав головы, и я постепенно пропитывалась ее безумным откровением Эшера. Ее одиночеством.
Смотреть на то, как она сходит с ума, было увлекательно. Это звучит жестоко, но только так я могу объяснить свое полное бездействие в ту зиму. Не знаю, что еще я могла бы сделать. Мы с Тасей никогда не были близки. Так что я просто наблюдала за ней — в плохо протопленных аудиториях, где пахло бумагой и мокрой шерстью, в коридорах, в курилке с пестрыми от бычков сугробами — и не могла остановиться. С каждой новой встречей она будто плотнее укутывалась в невидимую шаль, прячась от реального мира и уходя в свои мысли все дальше.
В конце концов Тася перестала посещать занятия. Тогда я решила проследить за ней.
Эта история была написана участником Мракопедии в рамках литературного турнира. Продолжение в комментах
Полнолуние
Я никогда не мог спать в полнолуние.
Когда луна, будто желтая поганка, заглядывает в окно, разбрасывая по потолку синеватые тени, минуты превращаются в часы, а те – в тягучую бесконечность. От желтого лика не спрятаться в комнате или гостиной, только на кухне – разложиться на узком диванчике, от которого наутро нещадно болит спина. Я редко так делал, обычно просто не спал. Раз за разом вставал, кипятил чайник, много курил, посиживая на балконе. Тогда-то я впервые заметил его.
Костер на вершине лысеющей сопки.
Просто на «лысой» или «проплешине» – ее у нас по-разному называли. До нее было далеко, и я, честно признаться, никогда там и не был, хотя прожил всю жизнь на окраине, в этой многоэтажке, выходящей окнами на лес, чахлую речку, невысокий зеленый хребет. В разлитом луной синеватом свечении я видел его удивительно четко – красный трепещущий огонек. Мне некуда было спешить, и я курил, внимательно вглядываясь в него, пока ветер пытался вырвать из рук сигарету. Оттуда, с вершины холма, доносились еле слышные обрывки каких-то песен.
Студенты, наверное. Повеяло тихим и простым счастьем, и я невольно улыбнулся. Захотелось тоже оказаться там: немного дальше отсюда и немного моложе. Вдыхать запах костра и хвои, жарить сосиски, петь под гитару и не думать о завтрашнем дне, о заботах, бессоннице - вообще ни о чем. Выдохнув горький дым, я задумчиво прикинул расстояние и примерный маршрут. Стал перебирать в уме друзей и знакомых, еще не отрастивших пивных животов и не до конца променявших авантюризм на паломничества в «Икею».
Что ж это я? Совсем не старый еще. И куда я подевал походные берцы?
∗ ∗ ∗
От двух часов сна в голове было, как в накуренной комнате. Кофе горчил. Пятнадцать минут в пробке на светофоре. Какая-то планерка. Какое-то совещание. Поездка в центр по каким-то делам. В машине заскрипели колодки, требуя срочной замены. Вспомнил, что дома на кухне потек кран. Дела возникали будто из ниоткуда, важные и не очень, разрастались, как снежный ком. Мне с сожалением пришлось признать, что ни в какие походы, по крайней мере, в ближайшее время, уже не выбраться.
Однако стоило выйти на балкон ночью, меня будто окатили холодной водой. Не знаю, виной ли тому усталость и недосып, или действительно что-то по особенному сложилось в окружавшем пейзаже, но вид, который я видел бессчетное количество раз, открылся мне будто впервые. Куда же я раньше смотрел? Темные громады холмов под усыпанными звездами небом. Настолько глубоким, что в нем можно было тонуть. Посеребренная луной речка. Колышущееся море из сосен, уходящее за горизонт, к вершине, к холму, на котором все также горел одинокий костер.
Я стоял, будто завороженный и мне потребовалось меньше минуты, чтобы лишиться сомнений. Оттуда должен быть вид еще лучше – подумал я. Правда эти студенты, но они ведь рано или поздно уйдут.
∗ ∗ ∗
В субботу, проснувшись рано, я побросал в рюкзак термос с чаем, бутылку с водой, моток веревки, охотничий нож, наспех нарезанные бутерброды и, перейдя по шаткому мостику речку, вошел в лес.
Вернулся лишь к вечеру – злой, исцарапанный и уставший.
От давно непривычной нагрузки ломило все тело. Лес, в который когда-то я каждый день убегал после школы, чтобы пинать пеньки и ловить лягушек, сейчас показался мне совершенно чужим. Знакомые тропинки давно заросли, а новые – двоились, троились и уводили незнамо куда. Я несколько раз терялся среди бесчисленных перекрестков, и стоило выбрать утоптанную дорожку, что по моим представлениям должна привести меня к месту, она непременно уводила в сторону или же просто растворялось в лесу. Я сделал попытку пройти напрямик, но быстро уткнулся в заросли стланика и непроходимый бамбук. К обеду полил дождь, и я, ко всему прочему, еще и промок. При мысли о пикнике осталось лишь выругаться и сплюнуть на землю. Дороги я так и не нашел, если только на пару чахлых, загаженных биваков, которые походили на искомое место также, как ночной горшок походит на античную вазу.
Раздраженный и злой я бросил вещи в стирку и начал подсчитывать, сколько бы дел успел переделать, пусть скучных, но важных, если бы так бездарно не провел день. Чтобы не было обидно совсем, сходил в магазин и вернулся с бутылкой коньяка. Какого-то обычного и не слишком хорошего. Из тех, что не закрываются в шкафчик за стеклянную дверцу, а стоят на отшибе, где-нибудь рядышком с водкой «Нацпроект», бутылкой «Рябчика» и прочей бормотухой за два рубля. Сейчас мне искренне жаль, что я не удосужился запомнить даже его названия. Ведь этому мерзкому, но убойному пойлу я, собственно, и обязан всем, что произошло дальше, ибо делать такое на трезвую голову едва бы решился.
Луна начинала идти на убыль, но пока выглядела цельной, как разбитый на небе желток. Я стоял на балконе, прикладываясь к бутылке, и костерок на холме уже не вызывал во мне теплых умиротворяющих чувств. Я начал подмечать странности, над которыми первоначально как-то и не задумывался.
Во-первых, поплутав по лесам, я обоснованно заключил, что дороги на «лысую» с моей стороны попросту нет. Логично предположить, что ее нет вообще. Собственно поэтому я там и не был, хотя по молодости истоптал чуть ли не все известные в округе туристические маршруты. Конечно, подъем мог быть где-то с другой стороны: востока и севера, но там совсем глушь – одни буреломы, куда добропорядочные туристы не забредают.
Во-вторых, крохотная проплешина, что виднелась отсюда, на самом деле не крохотная – наверняка с добрую половину футбольного поля. Следовательно, и костерок на вершине – не походный бивак, а какое-то погребальное кострище.
В-третьих, горит он там уже третий день.
Я порядочно так поднабрался и поначалу не заметил, как чья-то невысокая тонкая фигура осторожно вышагивает по камням у реки. Пару мгновений и она перескочила поток по поваленной ветке, не пожелав почему-то воспользоваться мостом. Я перевел затуманенный взгляд с костра на незнакомца, идущего в лес, и мой пьяный мозг принялся строить логическую цепочку, упуская, впрочем, некоторые очевидные несостыковки.
Это же тип из этих «костровиков». Вот так мы все и узнаем.
– Эй! – прокричал я в темноту, воодушевленный тем, что ответы сами идут ко мне в руки, однако фигура уже скрылась за темной листвой. Вот блядь.
Пришлось напялить ботинки, выходить из дома и спускаться к реке. Дары отечественного алкопрома наделили меня какой-то нечеловеческой силой: я сунулся прямо в воду, перейдя вброд, умудрился не поскользнуться и не свалиться, хотя меня шатало из стороны в сторону. А потом закричал прямо в распахнутую хвойную пасть:
– Эй, мужик! Стой, спросить хочу!
Свет луны едва пробивался сквозь кроны, перед глазами плыло. Я поддался вперед, пробираясь почти наощупь, стукнулся о дерево. Услышал хруст веток – рванулся туда и неожиданно налетел на кого-то. Раздался женский крик, а следом и мой, когда я отдёрнул ладонь и отшатнулся. На землю брызнуло горячим и темным.
Тогда, в тусклом сиреневом свете я и увидел ее.
Она была на пол головы ниже, в какой-то темной толстовке и держала в вытянутых руках складной нож. Я опешил. Попятился, начал бормотать что-то невнятное, пытаясь извиниться. Зажал второй рукой порезанную ладонь. Не скрою – испугался. Однако быстро сумел взять себя в руки. Незнакомка медленно отходила назад, пока беспомощно не уперлась в древесный ствол. Руки ее ощутимо дрожали, и напугана она была явно больше меня. Капюшон отбрасывал тень на половину лица, и я видел только сверлящий меня со страхом и недоверием глаз.
– М-может это, уберешь нож? – я попытался сказать это как можно более миролюбиво, но заплетающийся по пьяни язык едва ли внушал доверие.
– Я просто живу тут недалеко…
– Честно, не хотел ничего плохого…
– Я думал ты из этих…
– Ну, которые у костра…
При последней фразе она вздрогнула, и взгляд ее как-то переменился. Незнакомка опустила оружие и даже сделала шаг вперед. Лунный свет скользнул по ней на какую-то долю секунды и тут уже вздрогнул я – мне показалось, что у девушки нет второй половины лица.
– Ты видел костер? – раздался голос, приятный и тихий, будто шелест листвы.
– Горит уже третий день. Странно, правда? Вот я и подумал, что…
– Пошел вон отсюда! – она резко меня перебила. – И ничего не смей спрашивать. Прямо сейчас разворачивайся и уходи. Даже смотреть на костер не стоит, не то, что идти к нему. Просто проваливай!
Я совершенно ничего не понимал.
– Подожди, давай сначала. Как хоть тебя зовут?
Я отвернулся лишь на мгновение, но его хватило, чтобы незнакомки и след простыл. Только качались ветки, и едва слышный шум раздавался из тьмы. Догнать ее я, естественно, не пытался.
∗ ∗ ∗
Наутро было стыдно настолько, насколько вообще могло быть. Не знаю, по поводу чего я переживал больше: того, что меня могли ненароком зарезать или того, что и правда приняли за маньяка. А еще, как ни старался, так и не смог вспомнить ее лица. Очень надеялся, что она мое – тоже. Ведь это, скорее всего, какая-то местная девчушка, с которой я могу жить на одной улице, ходить в один магазин, а может, даже и жить в одном доме. Если мы случайно столкнемся в очереди на кассу, как я буду выглядеть?
Я провалялся в постели достаточно долго, борясь с нахлынувшей на меня апатией. Днем поехал по делам в город и ожидаемо застрял в пробке. Похоже, что в этот раз на дороге произошло что-то серьезное, потому как затор растянулся почти на всю улицу. Впереди отчаянно сигналили и ругались. Я тоже нервно крутился на месте и барабанил пальцами по рулю, но затем смирился и стоически откинулся на сиденье, безучастно пялясь в окно: на прохожих, витрины, мамашей с колясками. Возле супермаркета замигал красками рекламный монитор. Изображение на нем показалось мне несколько странным.
Это была какая-то реклама детского питания. Там женщина кормила с ложки деревянную куклу, сидевшую на детском стульчике. На кукле был белый чепчик и белый фартучек; наверно она должна была изображать Буратино или Пиноккио или что-то в этом роде, вот только выглядела она, мягко говоря, странно. Не знаю, о чем думали создатели ролика, но «это» и близко не походило на белобрысого жизнерадостного мальчишку, из всем известного советского фильма или на улыбчивого Пиноккио из мультфильмов «Дисней».
На стульчике сидело какое-то карикатурно обтесанное полено, темное, цвета мореного дуба. К бугристой голове, под чепчиком, были прилеплены голубые пуговичные глаза, а вместо рта зияла овальная дырка. Кукла вращала глазами, тянулась к женщине и перебирала сучковатыми руками-отростками.
Полная к обеду ложка!
Для вашего крошки!
Не содержит консервантов.
Ну и реклама. Ахуеть просто.
Женщина, все время находящаяся за кадром, под нехитрую детскую песенку, сопровождавшуюся такой же заурядной мелодией, отправляла полную ложку чучелу в рот. Оно же переводило взгляд то на кормилицу, то прямо на зрителя.
Пока я наблюдал эту картину, камера зачем-то стала приближать «лицо» куклы, отсекая от зрителя убранство кухни, женскую руку, и вскоре на экране осталась только темная морда и бегающие туда-сюда голубые пуговичные глаза.
Не содержит консервантов….
Я был искренне рад, что в этот момент мой ряд таки тронулся, и мне не пришлось досматривать этот пиздец.
∗ ∗ ∗
Вечером я как обычно вышел курить на балкон и с неудовольствием уставился на лысую сопку. Костер на вершине никуда не исчез. В этот раз я поежился. Странно, но от теплых ностальгических чувств, с которыми я рассматривал его три дня назад, не осталось даже следа – они сменились неясной тревогой, причину которой я не мог себе объяснить. Но еще более я помрачнел, стоило разглядеть фигуру в капюшоне на берегу.
Я тяжело вздохнул. Конечно, можно было незаметно юркнуть обратно в квартиру, вот только она меня уже видела – я был в этом уверен, хоть сейчас незнакомка и отвернулась, всматриваясь в чернеющие надгробия сопок. Я неуверенно помахал ей – реакции не последовало.
После некоторых внутренних колебаний я все же решил, что мне стоило бы объясниться из-за вчерашнего, ну или хотя бы попытаться это сделать. Нехотя одевшись, я вышел на улицу.
Она стояла все там же, едва ли отреагировав на мое появление.
– Привет, – честно сказать это все, на что хватило моей оригинальности.
Девушка слегка обернулась, но не ответила, а я плохо, но смог ее разглядеть: резкие, угловатые черты лица, острый подбородок, немного неправильный, но вполне симпатичный профиль носа, темные волосы; обычная одежда – толстовка и джинсы, на плечо накинут рюкзак. С рюкзака свисала металлическая цепочка, на которой болтался посеребрённый брелок, в виде головы оленя с широкими ветвистыми рогами, наверняка бутафорский. Я не мог назвать ее очень красивой, но холодный свет луны придавал лицу какую-то особую бледность, тонкость, которая, признаюсь, меня очаровала. Впрочем, капюшон все равно скрывал половину лица.
– Ты постоянно тут по ночам бродишь? – я набрался немного смелости.
– А ты, что, меня сталкеришь?
Стало обидно. Никого я не сталкерил и даже слова такого не знал. Я попытался извиниться за вчерашнее недоразумение и все объяснить, но она дала понять, что ей это совершенно неинтересно. Некоторое время мы просто стояли, глядя на терявшийся среди звезд огонек костра. Повисло неловкое молчание. Я рассматривал ее с интересом, пытаясь выловить какие-нибудь детали, которые могли бы сказать хоть что-то об этой странной девице, что ночью шатается по лесам, но кроме цепочки на рюкзаке, ничего не бросалось в глаза. Обычная одежда, обычная внешность. Я даже не мог сказать примерно, сколько ей лет. Наверное, чуть моложе меня, но не намного.
– Как твоя рука? – наконец спросила она слегка виновато.
Я ободряюще повертел забинтованной кистью.
– Не страшно. Лучше расскажи, что там, с этим твоим костром?
– Как будто ты мне так возьмешь и поверишь.
Я ответил, что находятся в мире вещи и более безумные и зачем-то начал рассказывать о виденной рекламе про кормление чучела. Это произвело неожиданный для меня эффект. Она резко повернулась и уставилась на меня, как будто увидела только сейчас. Потом сцепила пальцы в замок (в дальнейшем я заметил, что это ее привычка) и стала нервно прохаживаться по берегу. Внутри у меня похолодело – мне, как и вчера, показалось, что за скрывающем часть лица капюшоном нет ничего, просто чернильная тьма.
– Оно начинается так, ты скоро и сам все увидишь. Вот зачем ты за мной пошел? Если бы ты … хотя, с другой стороны, я же не виновата. Это ты сам. Ты, что думаешь это смешно?
Мне и правда было немного смешно. Я попытался ее убедить, что это была всего лишь реклама, а тупых реклам сейчас – лопатой греби. Просто жизнь у меня вполне заурядна и я подчас подмечаю такие вот необычные штуки, чтобы потом рассказать в компании друзей, например. Ну, необычные по моим меркам, конечно. Она лишь снисходительно хмыкнула с выражением, дескать «думай, как хочешь» и отвернулась.
Я уже понял, что мадам была немного «с приветом», и мне следует осторожней подбирать выражения, а еще лучше просто тихонько отстать от нее. С сумасшедшими девками вообще не стоит водиться – ничем хорошим это все не кончается. Уж я-то знаю. Тут не отделаешься обычным порезом ладони. Нет, будь мне лет двадцать – тогда окей, но я уже не в том возрасте, чтоб радостно визжать от этих полунамеков и перебирать винегрет в чужой голове.
В то же время во мне впервые за долгое время проснулось что-то похожее на интерес. Возможно, причиной тому была невыразимая скука, в состоянии которой я пребывал последнее время, возможно и то, что эта сумасшедшая мне и правда понравилась (на самом деле чуть-чуть), но я не мог прямо сейчас взять и уйти. Даже несмотря на четкое осознание, что вот она, здесь и сейчас, та тонкая черта, перейдя которую я уже не смогу вернуться. Если разворачиваться и уходить, то самое время. Я понимал это на удивление ясно, но почему-то остался.
– Расскажи про костер. Что с ним не так?
Она снова сцепила пальцы в замок, кинув на меня задумчивый взгляд.
– Для начала то, что видим его, похоже, одни только мы.
– Да ну.
– Можешь проверить, – девушка безразлично пожала плечами. – Только не забудь, что костер загорается лишь в полнолуние.
– Меня больше волнует вопрос: кто наверху? Туда же нет дороги.
– Если ты видишь костер, то найдешь и дорогу. Она там, – девушка кивнула в сторону тропинки, уходящий в чернеющий хвойник. – Но все не так просто. Костер, он манит. Заставляет пуститься на поиски. Открывает дорогу, но одновременно мешает, сбивает с пути. Там можно встретить пугающие и странные вещи, так что до конца можно и не дойти…
– И что там, в конце?
– Никто не знает, – ответила она с улыбкой. – Мы ведь с тобой здесь, а не там. Но это неправильный вопрос. Правильный вопрос: для чего вообще зажигают костер?
– Ну и для чего же? – честно сказать, я чувствовал себя все глупее и глупее.
– Я думаю, это что-то вроде маяка. Для таких как… мы, получается. Для тех, кто отчаялся. Это второй шанс, перерождение. Не знаю, как еще назвать.
И она стала рассказывать какую-то толи сказку толи легенду, которая, честно признаться, меня не впечатлила, и я ее плохо запомнил. Про мифические горы и богов либо каких-то существ, спускающихся туда. Тот, кто сможет найти дорогу к богам – останется с ними.
Она приводила в пример ветхозаветный Синай и горы в восточной традиции, по преданиям соединяющие земной и божественные миры или являющиеся осью мироздания. Было занятно, да я и сам кое-что знал, хоть мне и было неведомо, что это боги могли забыть в нашей с ней Мухосрани.
Едва ли я верил в то, что слышал, но в тот момент мне было плевать. Мне хотелось, чтобы она говорила и говорила, не умолкая. Стояла вот так, полуобернувшись к реке, а я бы просто слушал и смотрел на тонкие пальцы, нервно теребившие рукава кофты. Чтобы наверху звезды, и луна серебрила поверхность воды. Чтобы солнце где-то там, на другой стороне, зацепилось за волшебную магнитную ниткуи уже не вставало, а мы бы остались здесь, застывшие в мареве ночи, как в янтаре.
Будто издеваясь над моими мыслями, небо над горизонтом начинает светлеть. Я сбрасываю оцепенение, и вижу, как незнакомка плотнее кутается в кофту и спешно уходит.
– Погоди, – кричу я, но та даже не оборачивается, будто это и не она проболтала со мной всю ночь напролет. Я злюсь, но в целом не удивляюсь.
– Даже не попрощаешься?
– Ты завтра тоже придешь?..
– Может, хоть скажешь, как тебя зовут?
Она идет, не сбавляя шагу, и только в последний момент оборачивается. Лица больше не разглядеть – оно скрыто причудливым переплетением теней.
– Диана. А ты больше не приходи сюда, пожалуйста. И на костер не смотри.
От этого «пожалуйста» чувствую приятное покалывание, хоть и не желаю себе в этом признаться. Я хочу возразить, но она уже далеко, а бежать за ней я не собираюсь.
∗ ∗ ∗
На следующий вечер Диана не приходила, но не было и костра – небо заволокло тяжелыми тучами. Я знал, что дело не в этом, а в том, что от небесного сыра отделили кусок – луна шла на убыль и вернется лишь через месяц. У меня, впрочем, и без этого забот хватало. Жизнь стала возвращаться в привычное русло, и времени на размышления особо не оставалось. Детали ночных похождений начали забываться, и даже лицо Дианы ускользало из памяти: размылось, стало подрагивающим бледным пятном, будто я видел его во сне.
Я с легким сожалением решил, что вот мое маленькое приключение и окончено, когда поздним вечером пошел выносить мусор (что само по себе плохая примета).
В окнах пятиэтажки скромно горели огни, освещая детские качели, скамейки и беседку с пятнистым грибом. Фонарь бросал столп света на парковку, но другой, у мусорных баков, чернел потухшим глазком. Там вообще творился какой-то беспорядок. Один из контейнеров был опрокинут и лежал на земле, в двух других рылся широкий, дурнопахнущий бомж. Мне оставался последний, четвертый.
Я медленно обошел по дуге, брезгливо отвернув голову в сторону – воняло рыбой и грязной псиной. Пожалуй, только мерзкий запах и чувство глубокого отвращения не дало мне раскрыть рта, чтобы прижечь бомжа крепким словцом. Тот был закутан в ворох какого-то тряпья, одно поверх другого, что и придавало фигуре «разбухший» неправильный вид. Бомж был всецело поглощен мусоркой, перебирая и бесцеремонно разбрасывая вокруг ее содержимое.
Я бросил на него быстрый взгляд и тут же отвернулся – что-то в его виде сильно мне не понравилось. Я решил торопиться. Кинул пакет с мусором в бак, но промахнулся, и тот повис на выступающем металлическом уголке. Сука. Скорее по привычке, чем осознано я попытался исправить оплошность, когда что-то стукнулось об асфальт и ударило мне по ботинку. Этого уже терпеть было нельзя.
– Слушай, ты… – я повернулся к бомжу, а он ко мне, и я потерял дар речи.
Из-под грязных засаленных тряпок, облепивших голову наподобие тюрбана, на меня смотрело бугристое белое нечто. Я поначалу решил, что бродяга болен чем-то запущенным и жутким, но тут, перекрывая даже смрад отходов, на меня дохнуло влажным терпким запахом, который ни с чем не спутать – запахом грибов. Бугры, морщины и складки, огромные шишки, выступающие на лбу, уходящие лесенкой подбородки и даже вздувшиеся губы – все это были наслоения бледных шляпок, бесчисленные и переплетающиеся. Белые шляпки со светлыми желтоватыми пластинами. Оно дышало медленно и тяжело, правда, непонятно чем. Два темно-синих глаза, похожих на спелую смородину, уставились на меня.
– Не спится, браток? Почему ты не дома? – спросило оно, прервав свое занятие.
Из мусорного бака, в котором то рылось, донеслось какое-то шебуршание. Правда, меня это уже не волновало.
– Может, хочешь в загадки сыграть? Любишь загадки?
Не хотел я, блять, никаких загадок.
Я начал медленно отступать, стараясь не сводить с него глаз, пока грибочеловек выпрямился, отойдя от контейнера. Движения его были медленными и тяжелыми, зато кулаки – с двухпудовые гири.
– У зверушки три ноги, да стальные сапоги. Что это? Ну?
В этот момент я с воинственно-испуганным криком метаю в него пакет с мусором и, не оглядываясь, бегу.
С трудом справляюсь с домофоном, распахиваю дверь и погружаюсь в темноту коридора. Скорее, в квартиру – и закрыть дверь. Взлетаю по лестнице на пару пролетов, останавливаюсь, судорожно вцепившись в перила. Это не мой дом. В стене справа зияет огромная трещина, из которой со свистом вырывается ветер. Поросль желто-коричневых длинных грибов ветвится на ее стенках и уходит выше, на потолок. Ветер затихает, потом возвращается, с резким звуком вновь пробиваясь через разбитый бетон. Тянет не прохладой, а влажностью. Угадывается ритмичность.
Я разворачиваюсь и бегу обратно, когда понимаю, что то не ветер, а чье-то дыхание с другой стороны.
С разбега вышибаю дверь подъезда и, теряя равновесие, падаю на асфальт. Колено разодрано, в плече что-то мерзко хрустит, дыхание перехватывает. Я затравленно озираюсь, но жуткий бродяга исчез, лишь мусорный бак сиротливо лежит на боку. Оглядываюсь на подъезд: мой подъезд, моя дверь, знакомые надписи, листки объявлений...
Престарелый собачник, с мопсом на поводке, глядит на меня с тревогой и любопытством.
∗ ∗ ∗
Еще никогда в жизни я не считал дни до нового полнолуния.
Диана знает, что происходит, и она придет, должна прийти. Я еще не был готов поверить в историю о волшебном костре, но что-то плохое однозначно происходило, и мне нужен был кто-то: собеседник, советчик, хоть кто-нибудь. Я ждал нашу встречу, но теперь ждал со страхом, ведь точно помнил, как за тенью капюшона мне померещился чернильный провал. Однако она единственная, с кем я могу поговорить. Возможно, единственная, кто знает, что делать. Конечно, грибной бомж тоже был говорящим, но отгадывать его загадки мне как-то не хотелось.
Когда я различаю у речки фигуру в капюшоне, то не могу сдержать вздох облегчения.
Мы встречаемся молча, она лишь искоса смотрит на меня и сдержанно улыбается. Я снова не могу разглядеть ее лица, вижу только белый острый подбородок и тонкую линию губ, изгибающуюся в кривоватой усмешке. Невольно ловлю себя на мысли, что хотел бы провести пальцами по этим губам, но тут же отдергиваю себя – обычные бабские штуки, не нужно на это вестись.
– Я ведь просила тебя не приходить.
– Просила, но я тебе ничего и не обещал.
Она демонстративно сердится, но ровно настолько, насколько того требуют неписанные правила их непонятного женского мира. На самом деле Диана рада, что я пришел. Я это чувствую, хоть и не знаю истиной причины. Это меня тревожит. Как и мне, ей может быть одиноко, страшно, а может она сродни тому бродяге, и я для нее тоже объект для загадывания загадок. Я не знаю.
Особо не таясь, рассказываю ей о встрече с грибным человеком. Она хмурится, но, кажется, не удивляется. Жестом предлагает мне пройтись. Мы переходим по мостику реку и идем вдоль, не углубляясь в лес, по какой-то тропинке.
– Я точно не знаю, как это работает, но если ты видишь костер, а тем более, если хоть раз ступил на тропу, то ты должен идти по ней. У тебя просто нет выбора. Иначе лес сам приходит. И это будет уже не так, как если бы ты шел к нему. Все эти штуки, которые ты уже видел, их будет больше и больше. Они будут подбираться и окружать, пока не проглотят. И чем дольше ты медлишь, тем хуже. Остается одно – идти к костру.
– Этот костер, он как бы… исполняет желания?
– Бред, хотя некоторые так думают. Но исполнение желаний – детская чушь. Ничто в мире не создано для исполнения наших желаний. Кто мы такие? Просто там все становится по-другому, перерождается. Это место, где ты становишься новым собой, не знаю, как объяснить иначе. Я часто вижу сны о костре, и там я… неважно.
Я поглядываю на нее исподтишка, пытаясь понять, лжет она или говорит правду; пытается ли запутать, усыпить бдительность, сбить с толку? Однако я никогда не был особо проницательным. Диана идет чуть поодаль, время от времени поправляя капюшон, и я уже не сомневаюсь, что она прячет от меня правую часть лица. В момент, когда она останавливается вполоборота, и свет луны снова скользит по ней, падает на алую полоску губ, у меня возникает непреодолимое желание коснуться ее подбородка и развернуть к себе. Движение рефлекторное, почти неосознанное, но девушка замечает его.
– Не нужно. Не нужно на меня пялиться. Ты не будешь этому рад.
Я чувствую, что стою на пороге: или сейчас или случая не представится. Не уверен, хочу ли я этого, однако осторожно прошу ее снять капюшон. Она замолкает, оторопев от моей наглости, и испытующе смотрит на меня. Мне тут же становится не по себе – вспоминаю, что в лесу я-то один и до дома не близко, однако стараюсь выдержать ее взгляд. Мы стоим в матовой тишине, которую нарушает только плеск воды и далекое уханье филина. Когда я уже решаю, что окончательно все испортил, Диана неожиданно откидывает темную ткань и полностью поворачивается ко мне.
Я был готов ко всему: к лавкрафтовским щупальцам и чему-топодобному, вот только их нет. Просто плотная черная повязка, закрывающая правый глаз и почти половину лица. Из-под нее, через щеку и до самой шеи тянется красноватый раздвоенный шрам. Теперь я вижу ее хорошо, настолько, насколько вообще могу видеть при таком освещении и понимаю, что кривоватая усмешка, до этого казавшаяся мне недоброй и едкой, на самом деле просто нарушение мимики. Слова застревают у меня в горле.
– Авария, – говорит она тихо, – на трассе вылетели с дороги. Скользко было – первые заморозки. Все бы и закончилось хорошо, никто даже не пострадал, вот только ветка пробила лобовое стекло. Я сама была за рулем, сама виновата, больше никто.
Она печально улыбается, а я все еще не могу подобрать слов. Понимаю, все, что могу сейчас сказать, будет банально, много раз слышано и не нужно.
– А ты думал, что я тоже поганками обросла? – Диана смотрит на меня внимательно, с вызовом. – Доволен теперь? Все еще хочешь гулять тут со мной под луной?
На последних словах ее голос чуть вздрагивает, а меня передергивает от потока хлынувших чувств: облегчения, жалости, нежности.
Я молча приближаюсь и целую ее.
Мир останавливается и истлевает. Все исчезает, кроме журчащей реки, шепчущих лиственниц и желтого ока над головой. Я сжимаю хрупкие плечи, провожу пальцами по прядям темных волос. От нее пахнет пихтой и ландышем. Когда она отстраняется, потупив взгляд, я замечаю, что глаза… глаз ее изумрудно-зеленый, как у кошки.
Мы гуляем по берегу, и я хочу, чтобы ночь не кончалась. Тяжелые мысли тают, как первый снег, и я с облегчением могу забыть о костре и о том, что возможно, меня ожидает. И хоть Диана снова набросила капюшон, я все еще мельком поглядываю на нее. Мне нравится ее бледная кожа, эта смешная привычка сцеплять пальцы в замок и даже брякающий на цепочке серебристый олень – какой-то «бунтарский», подростковый, немного нелепый. Мы идем и болтаем о всякой ерунде, как обычные люди, и осознание этого наполняет меня чем-то похожим на счастье.
∗ ∗ ∗
Эта история была написана участником Мракопедии Sallivan
Продолжение в комментах
Не выключай телевизор
Квартиры такого типа риелтеры между собой называют «карцер». Знаю, потому что обошла не одно агентство в поисках того жилья, что будет мне по карману в моей нынешней ситуации, но даже эти «карцеры», которые мне предлагались со слегка скривленными в насмешке губами, были слишком дороги. Вариантом было снять комнату, но жить с кем-то, делить быт, вытаскивать чужие волосы из слива… сейчас у меня на это просто не было моральных сил, особенно после месяца проживания с подругой. Разумеется, я была очень благодарна ей за приют, но, но…
Вариант нашелся тогда, когда я уже была уверена, что придется согласиться на коммунальное проживание с черт знает кем. На вокзале в тот день я оказалась случайно — подруга, у которой я временно жила после развода, попросила выкупить для нее зарезервированный на вечер билет в соседний город, куда она регулярно ездила к своему парню. Выкупив билет, я вышла на площадь перед вокзалом и пошла на мостик над неким подобием ручья, протекающим возле площади. На ручей смотреть было неприятно — все его русло было густо усеяно бычками, поэтому я повернулась спиной к перилам и начала разглядывать людей, которыми кишел утренний вокзал. Тогда я ее и увидела.
Бабулька, абсолютно обычная на вид — бежевый весенний плащ 70-х годов, старомодная косынка и современные угги. Эклектика поколений. Отличала ее лишь картонная табличка, висящая на груди, по которой я скользнула равнодушным взглядом и уже собиралась отвести глаза, как вдруг увидела слово, зацепившее мое внимание. Гостинка. Именно гостинками называются эти крошечные квартиры-гробики, где кухня и жилая комната объединены вместе, санузел представляет собой крошечный закуток, а холодильник гудит прямо у тебя над головой. Гостинка, дешевое жилье. Я выбросила бычок в сторону ручья, пополнив их береговую колонию, и медленно двинулась в сторону бабульки. Через пару метров я различила цену, написанную на картонке, и ускорила шаг. Это было почти в два раза дешевле, чем просили в агентстве, да и на риелтера, которому нужно платить комиссию, бабулька не тянула.
Я неуверенно подошла и улыбнулась.
- Здравствуйте, вы сдаете квартиру?
Бабулька, задумчиво смотревшая в сторону, встрепенулась и повернулась ко мне. Выражение неясной тревоги на ее лице сменилось радушной улыбкой.
- Да, милая, сдаю. Ты хочешь снять?
- Смотря что за квартира и где находится. Если совсем в глухом районе, то…
- Нет-нет! Почти в центре, тут недалеко. Хочешь, сходим посмотрим прямо сейчас?
Старушка так активничала, что я слегка занервничала. Стоит ли идти одной? Можно было бы пойти с подругой, но она на работе, именно поэтому она попросила меня съездить за билетом. Больше друзей, которых можно оперативно вызвонить, у меня нет, да и, честно говоря, я бы постеснялась демонстративно делать это при старушке.
- Идем, идем, милая, - старушка потянула меня за рукав, и я автоматически двинулась следом. Ей-богу, я идеальная жертва маньяка. И как я умудрилась дожить до двадцати шести лет?
По пути в квартиру я вспоминала случаи из криминальной хроники про подставные квартиры, про людей, которых заманивали в логово бандитов, про проданных в секс-рабство женщин и милую питерскую бабульку, что травила и расчленяла своих квартирантов. Остановилась ли я? Нет. Я послушно шла за старушкой, даже с некоторым интересом ожидая, что будет дальше. В последнее время я стала фаталисткой.
Когда мы оказались перед ветхой сталинкой в старом центре города, я испытала странные эмоции. С одной стороны, дом выглядел жутковато, с другой — на логово мафии он не слишком походил. Мысленно перекрестившись, я ступила за моей проводницей в темный, пропахший мышами и мокрыми тряпками подъезд.
- Тут невысоко, третий этаж, - пропыхтела бабулька, с трудом преодолевая лестницу. Мне бегать по этажам было не привыкать, поэтому я терпеливо ждала ее на каждом пролете. У высокой, под потолок, массивной дверью старушка остановилась. Отперев ее большим старомодным ключом, поманила меня внутрь.
За дверью тянулся длинный коридор с выходящими в него дверями. Я насчитала по три двери с каждой стороны и одну в торце. Старушка прошла в конец и отперла третью дверь слева.
- Проходи! Не разувайся.
Я тщательно вытерла ноги о дырявую серую тряпку и ступила на скрипучий паркетный пол. Наверное, раньше это была коммуналка, которую позже поделили на квартиры. Внутри меня встретило именно то, что я ожидала увидеть.
Крошечный закуток, служащий прихожей, не имел двери, и темнота, царившая там, заставила меня как можно скорее пересечь его и войти в комнату. Она действительно оказалась крошечной — метров десять, не больше. Длинная, как трамвай, комната тянулась к рассохшему окну, которой венчало торец комнаты и напоминало отверстие на конце подзорной трубы. Квадратный выступ с дверью, который и образовывал прихожую, действительно оказался санузлом, напротив него вдоль стены тянулось подобие кухни — тумба, раковина, подвесной шкафчик, гудящий старый холодильник.
За выступом располагался старый красный диван, напротив которого расположилась тумба с телевизором. Хозяйка, которая смущенно поглядывала на меня, быстрым шагом пересекла комнату и быстро клацнула пультом, что лежал на тумбе.
- Ну, вот, - она развела руки, обводя окружающую обстановку. В ее голосе не было никакой надежды, только смущение, и это кольнуло меня. Наверное, не я первая, оказавшись тут, демонстрировала такое выражение лица, которое сейчас наверняка образовала моя мимика. Мне стало жаль старушку, но я фрилансер, жить и работать в этом гробу… Я смущенно улыбнулась и попятилась к выходу.
- Очень мило, но мне, к сожалению, не подходит.
- Да-да, я уже поняла, детка. Ну, вот мой номер, если передумаешь, звони, - бабулька вытащила из кармана и протянула мне самодельную «визитку» - аккуратно вырезанный кусочек тетрадного листа в клетку, на котором старательным старческим почерком был написан номер телефона. Сердце сжалось, и я взяла бумажку, уверенная, что мне никогда не придется звонить по этому номеру, но судьба распорядилась иначе.
Я выходила из квартиры под приглушенное бормотание телевизора, и еще не знала, что уже завтра окажусь тут снова. Уже вечером, когда моя подруга пришла с работы и начала поспешно собираться на автобус, она объявила мне, что возвращается вместе с парнем, который будет искать работу в нашем городе, и мне, увы, придется съезжать. Она вернется через три дня, и надеется, что к этому времени я уже что-то подыщу.
Она ушла, а я весь вечер прорыдала, лежа в ванне, и напиваясь вином, которое осталось у нас с недавней посиделки. Я понимала, что обвинять ее в чем-то несправедливо, она имеет полное право вить гнездышко со своим возлюбленным в своей собственной квартире, а меня она и так приютила после того, как муж объявил, что больше не видит меня рядом с собой, и вообще, пора уже двигаться дальше. Он двинулся, а мне идти было некуда, поэтому, выползя из ванны, я нашла в кармане бумажку с номером сегодняшей бабульки, и позвонила ей.
Радость в голосе женщины была настолько неподдельная, что мне даже стало слегка неудобно. Ведь это не я оказываю ей услугу, а она сдает мне жилье, пусть и довольно стремное, за сущие копейки. Мы договорились, что завтра я приеду с вещами, и я начала собираться.
Следующим утром, волнуясь, бабулька мялась возле подъезда. Когда я приехала на такси, она улыбнулась, мелко закивала, и повела меня в мой новый дом. Квартира выглядела ничуть не лучше, чем вчера, но я решила не падать духом. Мое покрывало на диван, мои занавески, пара репродукций — и тут станет гораздо уютнее. Я с трудом втащила чемодан в комнату и уже не удивилась, когда услышала, как за моей спиной бабулька щелкнула пультом, включив телевизор. Некоторые люди не переносят тишины, но я никогда не была из их числа.
Мы наконец-то познакомились. Бабулька, назвавшаяся Анастасией Павловной, села за узенький столик, расположившийся возле тумбы с телевизором, и дрожащей рукой переписывала мои данные из паспорта в договор о найме, пока я задумчиво ходила по моему новому жилью, трогала мебель и стены. Включила роутер, который, как оказалось, висел в «прихожей». Заглянула, наконец, в санузел. Он оказался чуть лучше, чем я представляла, и даже имел узкую стиральную машину, зато не имел умывальника. Душ представлял собой вымощенную плиткой угловую площадку с бортиком, закрытую занавеской.
Проверив, работает ли душ и есть ли горячая вода, я вернулась в комнату. Бормотание телевизора слегка начинало раздражать. Я подписала документы, и хозяйка начала поспешно собираться. Я подошла к окну, отодвинула плотную штору, наполовину закрывающую окно, и удивленно отпрянула. За тюлевой занавеской я увидела рассохшееся деревянное окно, забранное снаружи решеткой. Я обернулась.
- Зачем тут решетка? Это же не первый этаж.
Анастасия Павловна нервно улыбнулась.
- Я не знаю. Это квартира моей покойной сестры, я тут ничего не меняла.
Я почувствовала, как по позвоночнику пробежала легкая дрожь. Мне стало тревожно.
- А от чего она умерла?
Не глядя на меня, хозяйка обувалась.
- Она не здесь умерла, не переживай. Живи спокойно.
От ее тона мне наоборот стало совсем неспокойно, и я нервно сглотнула. Но беспокойство достигло апогея, когда Анастасия Павловна, уже стоя у двери, обернулась.
- Ты только телевизор не выключай, пусть работает. Тут счета небольшие, за это не переживай.
Я переживала совсем не за это.
- Что? Зачем?
Старушка упрямо помотала головой.
- Не выключай, и все. Даже ночью, просто звук убавь.
Волосы на моей голове зашевелились.
- Вы серьезно? А что будет, если выключу?
Хозяйка посмотрела на меня хмуро и без улыбки.
- Да ничего не будет, но лучше не выключать. Место тут не самое приятное, иначе не сдавала бы так дешево.
- А если свет выключат?
- Тогда лучшей уйди куда-нибудь, пока не включат.
Пока я обдумывала, что я должна ответить на этот абсурд, входная дверь закрылась со звуком захлопнувшейся мышеловки, и я осталась в одиночестве.
- Спокойно, спокойно.
Почувствовав, как нарастает паника, я повернулась и подошла к кухонному шкафчику, в котором во время «осмотра» я увидела старые чашки, вытащила одну, и пошла к дивану, где валялась моя куртка. Достав из кармана сигареты, я щелкнула зажигалкой, затянулась, окинула взглядом мой новый дом, и расплакалась.
Это еще не было полным дном, но я была уже близко.
Наревевшись и нажалевшись себя, я встала, с трудом открыла окно, впустив в комнату свежий воздух. Хватит, наревелась. Надо учиться жить по-новому, и находить плюсы. Вот только телевизор очень раздражал. Выключив его, я поняла, что больше не могу игнорировать угнездившийся в желудке голод, и, накинув куртку, двинулась на улицу — искать продуктовый магазин.
Супермаркет нашелся по гугл-карте, в трех кварталах от моего нового дома. Гуляя между стеллажами с тележкой, я даже начала получать удовольствие от своего одиночества и свободы. Деньги у меня пока были, но скоро нужно брать новый заказ.
Когда я вернулась с набитыми пакетами в квартиру, меня встретила звенящая, натянутая как струна тишина. Разбирая пакеты и включая противно загудевший холодильник, я все сильнее чувствовала это натяжение пространства, которое будто образовывало вакуум у меня за спиной. Чувство было настолько неприятное, что я повела лопатками, будто пытаясь сбросить с плеч покрывало, и резко обернулась. Комната выглядела по-прежнему уныло и убого, но ничего страшного в ней не было.
Наскоро пожарив яйца на старой индукционной плитке, я вытащила из сумки ноутбук и растянулась на диване. Работу никто не отменял, и ее нужно было делать, но минут через пятнадцать я поняла, что работать не могу. Гудение холодильника давило на барабанные перепонки, стены, обклеенные выцветшими желтыми обоями, будто нависали надо мной, в грудь начал заползать страх. Поежившись, я потянулась за пультом и клацнула кнопкой. Комнату заполнила мелодия заставки какого-то телешоу, и напряжение отпустило меня.
Может, хозяйка имела ввиду именно это, когда советовала включать телевизор?
Раньше я всегда работала в тишине, но теперь мне пришлось делать это под приглушенные голоса из телеящика. Телевизор раздражал, но без него было еще хуже, и постепенно я так увлеклась работой, что совершенно забыла про него.
Когда я, наконец, отложила ноутбук, в комнате уже практически стемнело. Встав, я потянулась, клацнула выключателем, и комнату залил неприятный тусклый желтый свет от старомодного стеклянного абажура на одну лампочку. От долгой работы и фоновой говорильни голова стала квадратной, и я выключила телевизор, с блаженством слушая наступившую тишину. Вытащив из пачки сигарету, я распахнула окно и оперлась на подоконник, глядя на тихий зеленый двор, залитый оранжевым светом фонаря на углу.
Сигарета догорела до половины, когда я вдруг снова ощутила спиной напряжение воздуха. На меня будто навалилось тяжелое ватное одеяло, и я покрутила головой. Обернувшись, я увидела лишь пустую комнату, но, стоило повернуться к окну, как ощущение вернулось. Мне казалось, что за моей спиной кто-то стоит, я кожей чувствовала чужой взгляд, сверлящий меня, и руку, что вот-вот коснется волос на моем затылке. Колени дрожали, сигарета давно догорела, но я продолжала пялится в окно, боясь обернуться. Лишь когда я совсем замерзла, медленно, на ватных ногах, я повернулась, и, конечно же, ничего не увидела. В один прыжок я преодолела расстояние до тумбочки, хватила пульт и включила телевизор. Голоса, зазвучавшие из динамика, развеили иллюзию чужого присутствия, и я выдохнула.
Заснуть в первую ночь я так и не смогла. Привыкла спать в темноте и тишине, а телевизор ужасно мешал, но о том, чтобы выключить его, не было и речи. Когда я попыталась это сделать, тьма в комнате сгустилась и придавила меня подобно плите, стены сжались, а воздух зазвенел, поэтому мне пришлось тут же снова включить его. Я промаялась до самого утра, и лишь когда солнце встало, и освещение от телевизора перестало быть настолько контрастным, я, наконец, задремала.
Будильник, который я поставила на десять, вырвал меня из сна через четыре часа, и я села на кровати с чугунной головой. Покурив, сходила в душ, и поняла, что не могу провести тут больше не минуты. Поэтому, наскоро позавтракав, я оделась, упаковала ноутбук и пошла искать поблизости дешевое кафе с вай фаем, где я смогу поработать.
Так началось мое хождение по всем кофейням и общепитам района. Денег у меня было катастрофически мало, и максимум, что я могла себе позволить — это цедить по две чашки кофе в день, иногда воровато поедая купленный на углу пирожок, спрятавшись за ноутбуком. Официанты смотрели на меня с презрением, но о том, чтобы вернуться в мою «студию», не было и речи. Находиться там с каждым днем было все сложнее.
Выцветшие желтые стены с волнистым узором, идущий трещинами желтоватый потолок. Скрипучий дощатый пол, который оставался грязным, сколько его не мети и не мой, пыльный диван-книжка, в щель по центру которого я постоянно сползала ночью. Гудящий старый холодильник, потрескивающая электрическая плитка, окно, роняющее хлопья краски каждый раз, когда я бралась за раму. Все это было мне настолько ненавистно, что хотелось плакать, но хуже всего была атмосфера в квартире и то ощущение присутствия, что мучило меня с самого момента переезда. А еще — постоянная духота и нехватка воздуха, который, несмотря на открытое окно, почти не циркулировал в этом вытянутом гробу.
Спать там, слава богу, я научилась — пришлось купить беруши и маску для сна. С ними я высыпалась более-менее нормально и уже почти перестала бояться по ночам, пока однажды ночью я не проснулась в туалет.
Стянув с глаз маску, я уткнулась взглядом в телевизор, и спросонья чуть не умерла от ужаса, увидев на экране жуткое, изуродованное мертвое лицо. Я бы закричала, если бы могла, но из моей груди вырвалось лишь подобие протяжного хриплого карканья. Я зажмурилась. Сердце бешено колотилось, от прилива адреналина затряслись руки, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы снова открыть глаза и взглянуть на экран. Это оказалась всего-навсего криминальная передача про преступления прошлого, но прежде, чем сердце унялось, и руки перестали дрожать, прошло немало времени.
Когда я была маленькой, мне дважды или трижды снился один и тот же кошмар. Я была пугливым ребенком, боялась фильмов ужасов и книжек со страшными обложками, и сон, который я видела несколько раз, был таков. Мне снилось, что я нахожусь в комнате — либо в смежной с гостиной, либо в самой гостиной, где был включен телевизор, к которому я стояла спиной. Я знала, что по нему показывают что-то невыносимо, тошнотворно страшное, настолько страшное, что одна мысль о том, чтобы взглянуть на экран, наполняла меня ужасом. Родители во сне спокойно смотрели эту жуть и не реагировали на мои просьбы выключить, а я никак не могла выйти из комнаты, не повернувшись лицом к телевизору и не увидев то, что он транслировал.
«Мраморные шарики». Голос по телевизору во сне говорил: «Мраморные шарики». Что это значит? Словосочетание вселяло в меня такую сильную жуть, что увидеть это казалось равносильно смерти. Я просыпалась в холодном поту, и несколько дней после этого сна проходила мимо телевизора с внутренним напряжением.
То, что случилось, странно перекликалось с моим детским кошмаром, и я дрожала от страха, когда мыла руки после туалета. Я уже давно решила, что съеду отсюда сразу же, как найду хоть что-то, но вариантов по-прежнему не было, даже нормальных комнат не попадалось, а идти мне было некуда.
Наутро я позвонила хозяйке, не знаю зачем, просто хотелось поговорить с ней про квартиру, но она не взяла трубку. Почему-то я этому не удивилась.
А через несколько дней случилось то, о чем я спрашивала тогда, в самый первый день. Что будет, если свет отключат? Вечером я вернулась из очередного кафе голодная и продрогшая, поставила воду, чтобы закипятить макароны. Телевизор я включала практически с порога, завела привычку не расставаться с пультом. Я уже знала все вечерние телепрограммы, сериалы и шоу на всех каналах, что ловила антенна, провод от которой уходил в отверстие в стене наружу.
Макароны уже начинали закипать, когда лампочка (уже более яркая, замененная мной), вспыхнула еще ярче, и погасла. Телевизор с холодильником, разумеется, тоже потухли, и я на миг застыла, как статуя, слушая затихающее бульканье в кастрюльке. Когда вода стала неподвижной, меня придавила такая тишина, что я автоматически коснулась ушей, проверяя, нет ли в них беруш. В сердце узким ужиком мгновенно заполз ужас, все ширясь и разрастаясь, подобно опухоли. На ватных ногах я подошла к смутно светящемуся в темноте окну и выглянула наружу. Соседние дома, двор — все было залито чернильной темнотой. Блэкаут на весь наш маленький район.
Затылком я почувствовала уже знакомый взгляд, а моей шеи будто коснулись невесомые пальцы. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха, но обернуться было гораздо страшнее. Я судорожно пыталась дышать и собиралась с силами, чтобы повернуться, схватить куртку, которую я кинула на диван, когда пришла, и в три прыжка оказаться у двери. Но внезапно за моей спиной послышалось шипение и громкий щелчок, который выбил остаток дыхания из моей груди коротким вскриком. Я обернулась и увидела, что телевизор включился.
Зрелище было настолько абсурдным, что какое-то время я стояла, открыв рот. Света не было во всем районе, а телевизор каким-то образом работал. Я бы ничуть не удивилась в ту секунду, если бы на экране показалась мертвая девочка из фильма «Звонок», но экран показывал другое. Сначала я не поняла, что я вижу, но, разглядев, увидела длинный коридор, с дверями по обе стороны и одной в торце. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я поняла, что это напоминает тот коридор, что я прохожу ежедневно перед тем, как зайти в свою квартиру. Двери на экране были закрыты, но вдруг та, что в торце, приоткрылась, и я отпрянула от экрана.
Ощущение, которое преследовало меня в детском кошмаре, накрыло меня ужасом с головой. От картинки на экране веяло потусторонней жутью, да и неудивительно, учитывая, что телевизор работал вопреки всем законам физики. Дрожащей рукой я потянулась к шнуру и изо всех сил дернула его, но картинка на экране даже не мигнула.
Мои ноги подкосились, и я ползком отодвинулась подальше от экрана, уперевшись спиной в диван. Во рту пересохло, сердце колотилось в глотке. Не в силах оторвать взгляд от телевизора, я наблюдала, как в открывшейся на экране двери появился силуэт, который странными маленькими шажками двинулся в сторону камеры. Сначала я не поняла, что с ним не так, но потом до меня дошло, что силуэт двигается спиной вперед.
Нельзя, чтобы оно обернулось. Нельзя смотреть.
Ужас подкинул меня пружиной. Я вскочила на ноги, схватила куртку и кинулась к двери. В закутке-прихожей царил кромешный мрак, и я на ощупь ткнулась туда, где была дверная ручка. Ручки не было, и двери не было. Трясущимися руками я достала из кармана зажигалку, с третьего раза зажгла огонек, и задохнулась.
Двери не было. На ее месте была все та же оклеенная желтыми обоями стена. Я попятилась и принялась водить зажигалкой вдоль стен, пока она не обожгла мне пальцы, и я не выронила ее. Двери не было, ни единого следа. Более того, дверь в санузел тоже пропала. Я бросила беспомощный взгляд на телевизор и торопливо отвернулась, видя, что существо на экране все приближается, постепенно заполняя собой все пространство. Если оно обернется… если оно обернется…
Паника подхлестнула меня, и, не думая ни о чем, я кинулась к окну. Дернула оконнную раму, вдохнула ледяной воздух, вскочила на подоконник, и… решетка. Чертова решетка! Вот она здесь зачем!
Я беспомощно вцепилась в прутья, понимая, что не смогу протиснуться сквозь нее. То, что живет в телевизоре, то, что отгоняют глупые телешоу и мыльные оперы, было все ближе, я чувствовала его за спиной. Не дыхание, потому что оно не дышит, и не прикосновение, потому что оно не может коснуться. Я чувствовала лишь ужас, который заставил меня сжаться в комок и упереться лицом в прутья решетки.
Может, если я навалюсь на нее, она выпадет? Что будет со мной, думать не хотелось. Тьма расступалась за моей спиной, я видела отблески экрана, я знала, что если обернусь… мраморные шарики, мраморные…
- Эй, что с тобой? Помощь нужна?
Голос ворвался в мой мозг так внезапно, что я на секунду даже не поняла, что услышала. Разлепив зажмуренные глаза, я посмотрела вниз. Под моим окном стоял мужчина, одетый в куртку с капюшоном, которого я, вроде бы, несколько раз видела во дворе из своего окна. В его руке тлела сигарета.
Я судорожно всхлипнула и полезла в карман куртки, нащупала ключи, разжала пальцы, и они упали на асфальт под окном.
- Пожалуйста, 33 квартира… у меня что-то с дверью… - Мой голос прерывали вслипы, но, когда мужчина поднял ключи и задрал голову, меня будто прорвало.
- Вытащи меня отсюда, вытащи, прошу! Только не смотри на телевизор! - закричала я, и, закрыв глаза, разрыдалась. Сияние экрана за моей спиной стало таким ярким, что я буквально чувствовала его затылком. Быстрее, быстрее…
Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала удар за моей спиной, и через минуту сильные руки сдернули меня с подоконника. Что-то пробормотав, сосед сгреб меня в охапку и потащил прочь из квартиры, как пожарные выносят людей из огня. Я зажмурилась, но когда мы были в прихожей, все же приоткрыла глаза, как Лотова жена, и краем глаза увидела комнату. На моё счастье, холодильник с этого ракурса закрывал телевизор, и прежде, чем я увидела экран, я снова закрыла глаза.
Второй раз я открыла их только тогда, когда запах подъезда остался позади, и я почувствовала свежесть осенней ночи.
- Ты как, все нормально? - сосед подвел меня к лавке и усадил за нее. Я по-прежнему держала куртку, вцепившись в нее омертвевшими пальцами, но, посмотрев на его силуэт в темноте, заливавшей двор, немного пришла в себя и разжала руки. Осторожно натянув куртку, я достала из кармана сигареты. Не говоря ни слова, сосед чиркнул зажигалкой.
Какое-то время мы молча курили. Я не знала этого человека, но он только что спас меня… от чего? Что вообще произошло там? Это было сумасшествие? Галлюцинации? Как объяснить это ему? Я заерзала, и сосед протянул мне руку.
- Кстати, я Владислав.
- Карина.
Я пожала его ладонь, и мы снова замолчали. Наконец, я собралась с силами.
- Владислав, спасибо вам. Я не знаю, что сказать. Там произошло нечто странное, не знаю, как объяснить. Я не наркоманка, не подумайте только…
- Я и не думаю. Об этой квартире все соседи знают, - Владислав щелчком пальцев отправил бычок в кусты. Я повернулась к нему.
- Что знают?
- Ну, тут женщина одна жила несколько лет, в возрасте, одинокая. Сестра той, что теперь квартирантов вроде тебя приводит. Однажды она выпала в окно и сломала шею.
«Она не здесь умерла, не переживай». Вспомнив слова хозяйки, я невольно усмехнулась. Да, она умерла не в квартире, тут ничего не скажешь. Не солгала.
- А потом?
- А потом въехал ее сын, который, оказывается, у нее был, и через три месяца тоже самое. Тоже выпал из окна, выжил, но вроде позвоночник сломал, инвалидом стал. Вроде как тетка за ним и ухаживает теперь, я подробностей не знаю, то у наших бабулек местных спросить надо.
- Решетку вставила Анастасия Павловна, да?
- Это хозяйка нынешняя? Да, она. Сдавать начала эту конуру, но все квартиранты больше месяца не задерживаются. Уж не знаю, что с этой квартирой, но что-то там творится явно, все сбегают сами не свои. Вот и ты…
Холод пробирался под куртку, и я зябко поежилась.
- Там что-то с телевизором. Ты видел, что…
Я обернулась, чтобы посмотреть на окно своей квартиры, но не нашла его. Телевизор больше не работал. Темнота, накрывающая двор, стала еще гуще.
Я повернулась к молчащему Владу, и увидела, что он сидит ко мне спиной. В горле моментально пересохло.
Мне не хотелось, чтобы он оборачивался.
Эта история была написана участником Мракопедии Musteline в рамках литературного турнира.