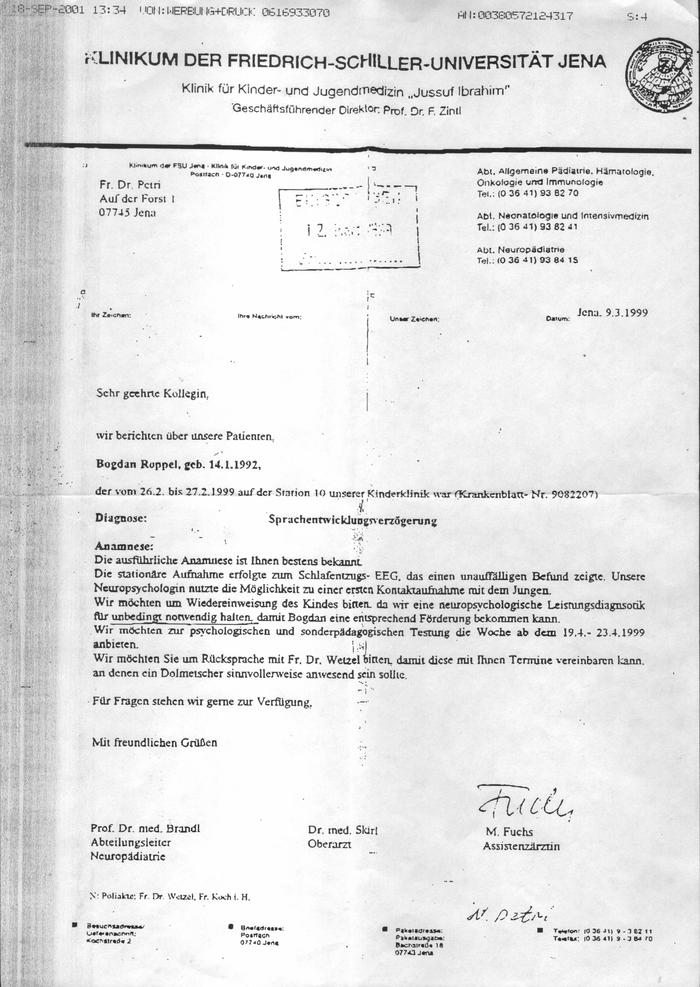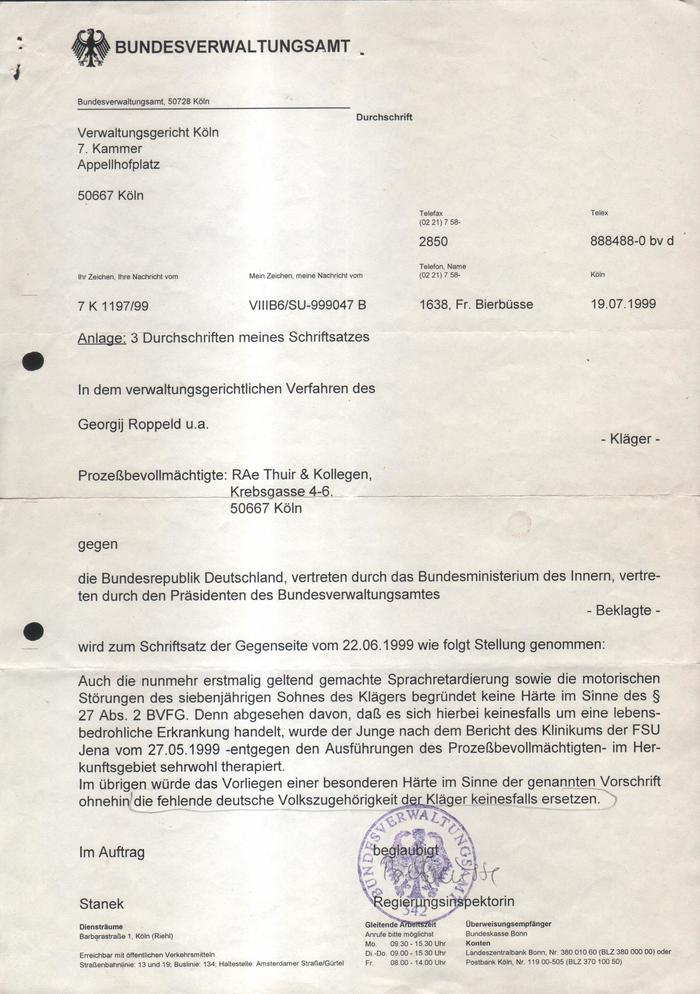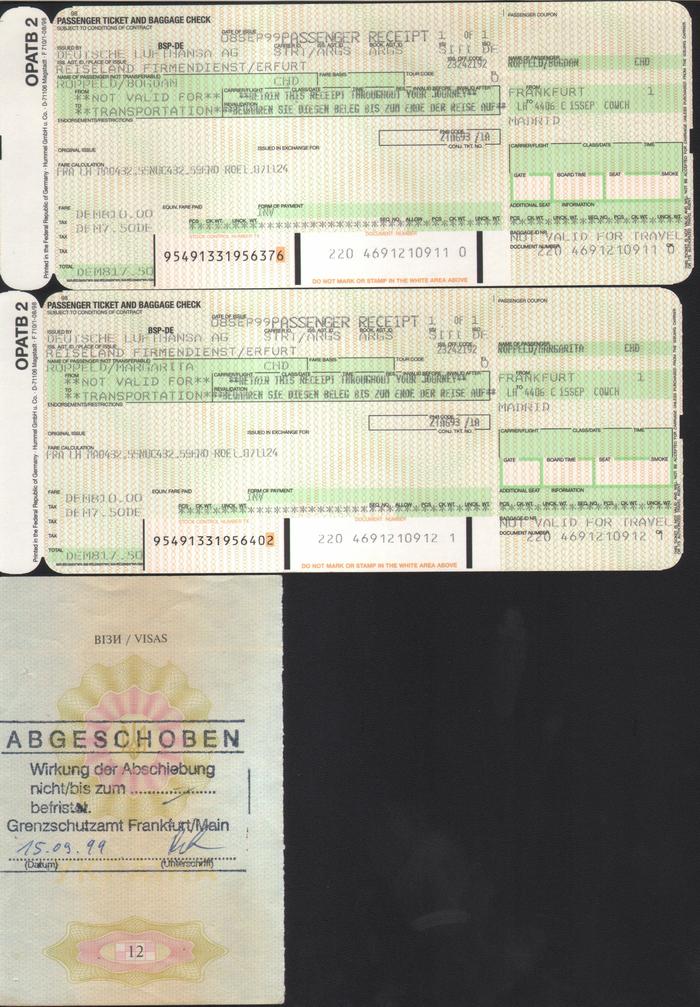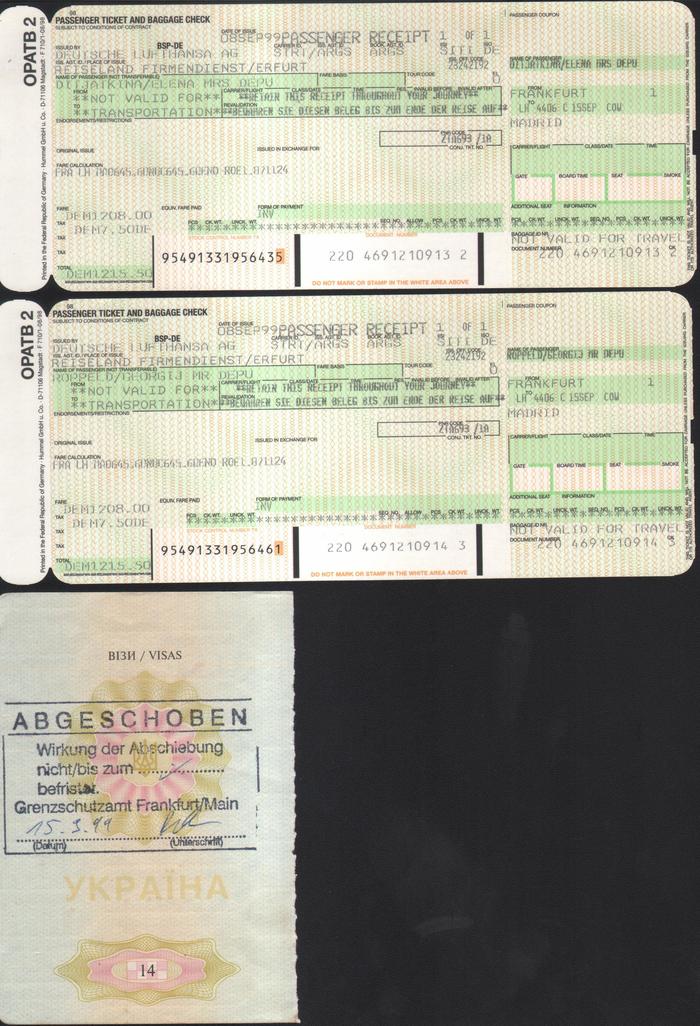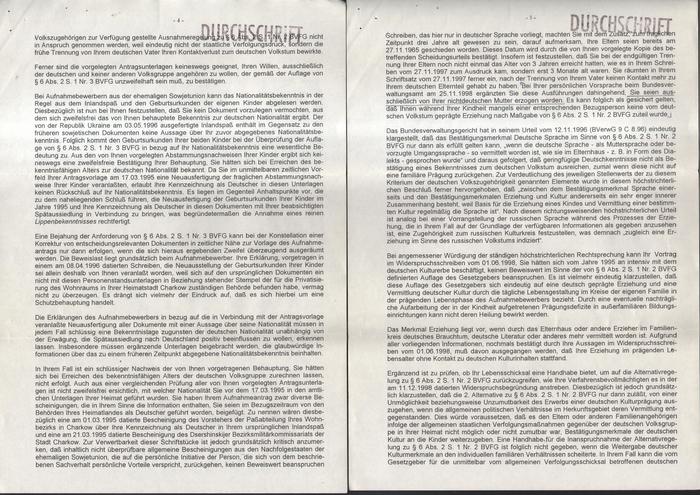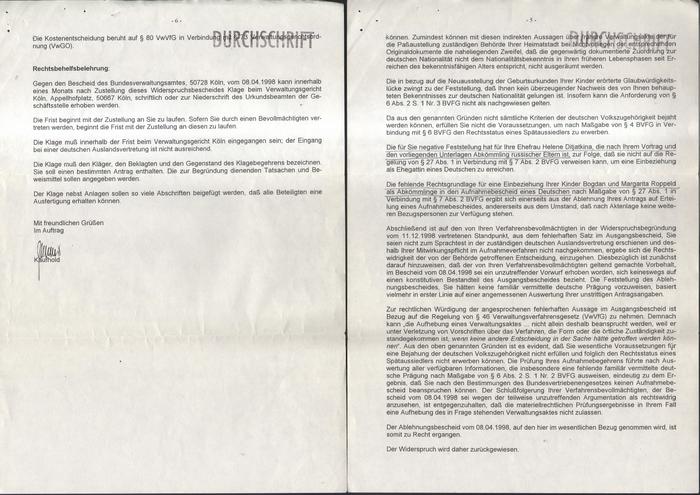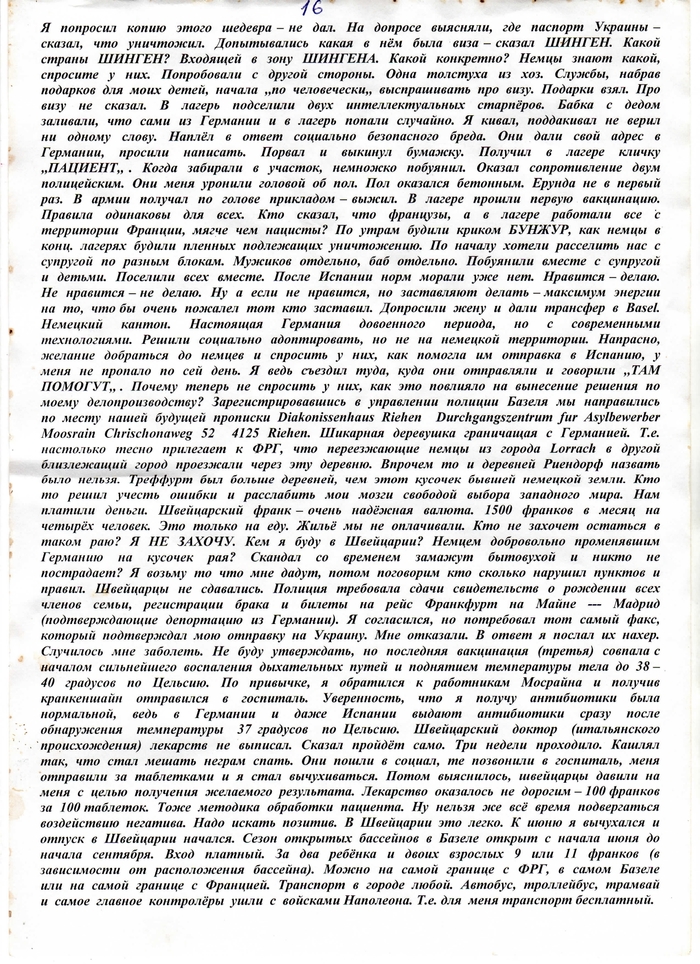История торфодобычи, взгляд с другово ракурса. Часть 2
В середине 1900х годов промышленность Богородского уезда начинает расти не по дням, а по часам - появляются и растут мануфактуры, фабрики, заводы. Естественно мимо такого успеха наших людей не смог спокойно пройти немец Классон, который уже с 1886 года продавал русским электричество в Петербурге. Здесь, в Богородском уезде, он решил совместить приятное с полезным - жечь в печах землю русскую, вырубать русскую природу и зарабатывать на русских, да причем так чтоб эти русские на него же еще и работали. Естественно что для этих целей он собрал подходящий коллектив: Кржижановский, Винтер, Радченко. Как вы поняли по фамилиям - все они достойные сыны Богородского уезда Московской губернии. Или нет?
В июне 1912 Классон приказывает вырубить вереск вокруг домов и строящейся станции. А в июле того же года случается большой пожар. При этом пожар нанёс незначительный ущерб строительству станции, но совершенно изменил картину местности: вместо непроходимой чащи получилось около 2000 га выгоревшего места. Само болото от пожара не пострадало, так как оно было совершенно сырое — сгорел только верхний моховой покров и лес на болоте. И к осени на месте пожара появляется посёлок для рабочих, а так же площадь для первых торфяных разработок.
Вот это повезло так повезло, вместо того чтобы несколько месяцев вырубать непроходимую чащу, пожар очистил место за неделю. При этом постройки не сгорели, потому что вокруг них предусмотрительно все расчистили, а торф не загорелся, потому что был мокрый. Но, как мы знаем, застройщикам часто так везет - то сгорит дом того, кто не захотел переезжать или заломил цену за свой участок, то загорится памятник архитектуры, который нельзя было сносить. Обычное везение застройщика. А может это было на руку классовому врагу?
Кстати, единственным населённым пунктом на территории нынешнего Электрогорска было урочище Белый мох, крестьяне из которого стройкой и торфодобычей не соблазнились, а продолжали работать на земле. Что очень показательно - вот тебе в пешей доступности хорошо оплачиваемая работа, но они продолжают работать как работали. Видимо уже знали что такое работа на торфах.
Для тех, кто не читал первую серию, напомню. Добыча торфа в те времена была просто каторжным трудом. Люди рыли яму, лили в нее ведрами болотную воду, распускали торф в черную липкую грязь, потом раздевались и лезли в эту яму, вытаскивали пни и корневища, разбивали комья, готовили торфяное тесто. Мириады комаров и слепней тучами поднимались над их головами. Когда тесто было готово, его выгребали наверх и тачками свозили на поля, где сушились торфяные кирпичи
Классон электрифицировал торфодобычу, но условия труда горняков все равно оставались просто нечеловеческими. Добыча торфа в первые годы велась так называемым элеваторным способом, в котором были механизированы только подъем торфа из карьера, перерезание волокон и частично формование в кирпичи. Стоя на ступенях разрабатываемого откоса торфяного карьера, рабочие-ямщики вырезали лопатами из массива куски торфа и бросали их в желоб скребкового элеватора. В торфяной залежи было много пней, и загрузка элеватора сменялась их корчеванием: топорами обрубали корни, артель тащила крепко сидящий большой пень веревкой.
Из элеватора торфяная масса выходила в виде непрерывного бруса на подкладываемые под него на ролики доски, на которых он вручную рассекался ножами на отдельные кирпичи. Доски с торфом весом по 32 кг вручную брались с роликов и перекладывались на этажерочные вагонетки, которые рабочие-вагонщики отвозили по узкоколейным железнодорожным путям на примыкающие к карьеру поля сушки, где вагонщики расстилали торф, а пустые доски складывали обратно на вагонетки. По мере разработки карьера элеваторная машина передвигалась по рельсам , звенья узкоколейных путей переносили вперед.
Однако так называемый «прямой элеватор» не облегчал работу «ямщиков». Они стояли по колено в холодной черной жиже и выбрасывали лопатами за двенадцатичасовой рабочий день тысячу с лишним пудов сырого торфяного теста. Женщины — штабельщицы и подносчицы — перетаскивали тысячи пудов торфа за один «урок».
Еще один факт, раскрывающий нам добродетель Классона: в 1912 с просьбой о строительстве церкви в пос.Электропередача к Классону и Радченко обратились первые строители и добытчики торфа в 1912 году. Им , конечно, обещали. Но руководители проекта Электропередача были латентными революционерами и дружили с большевиками, оформляя их на работу и тем самым пряча от сыскной полиции. Обещание , конечно, не выполнили - церковь появилась только во времена современной России.
А вот начальником электростанции, что при царе, что при Совочке (зайчики мои милые, чтож вас так колбасит то от Совка? Уменьшительно-ласкательно лучше?) была в руках Классона. Естественно потому, что он незаменимый специалист. Но подробнее об этом в следующей серии