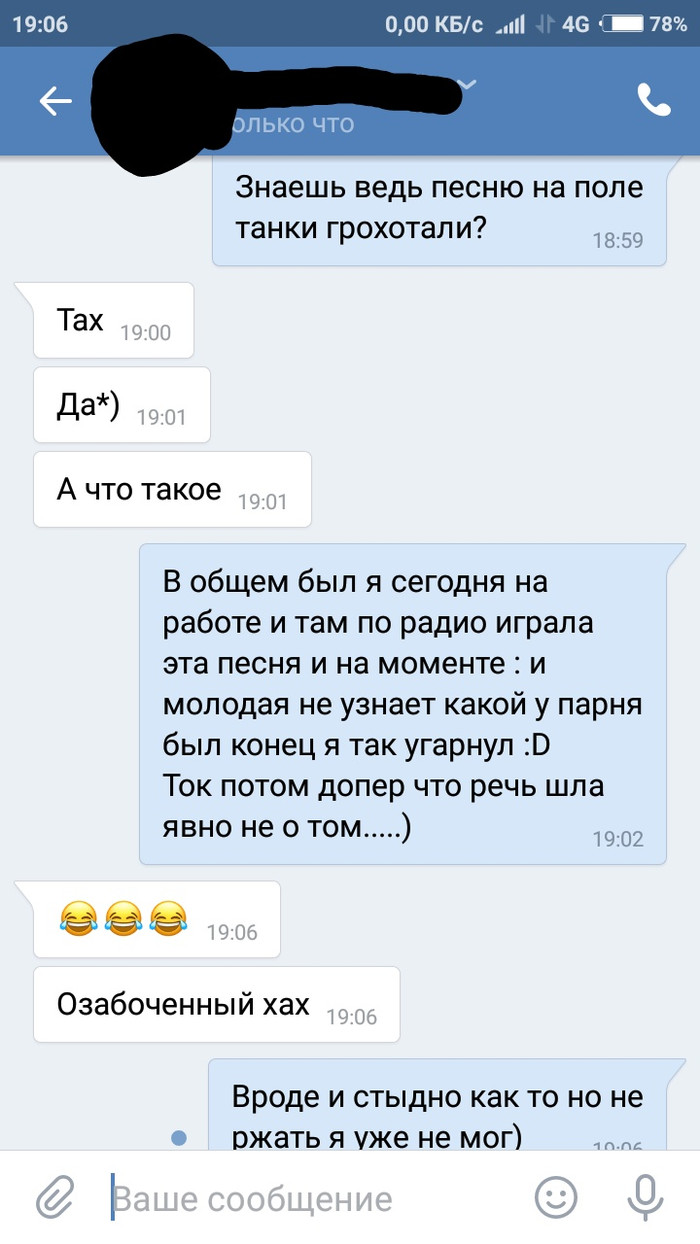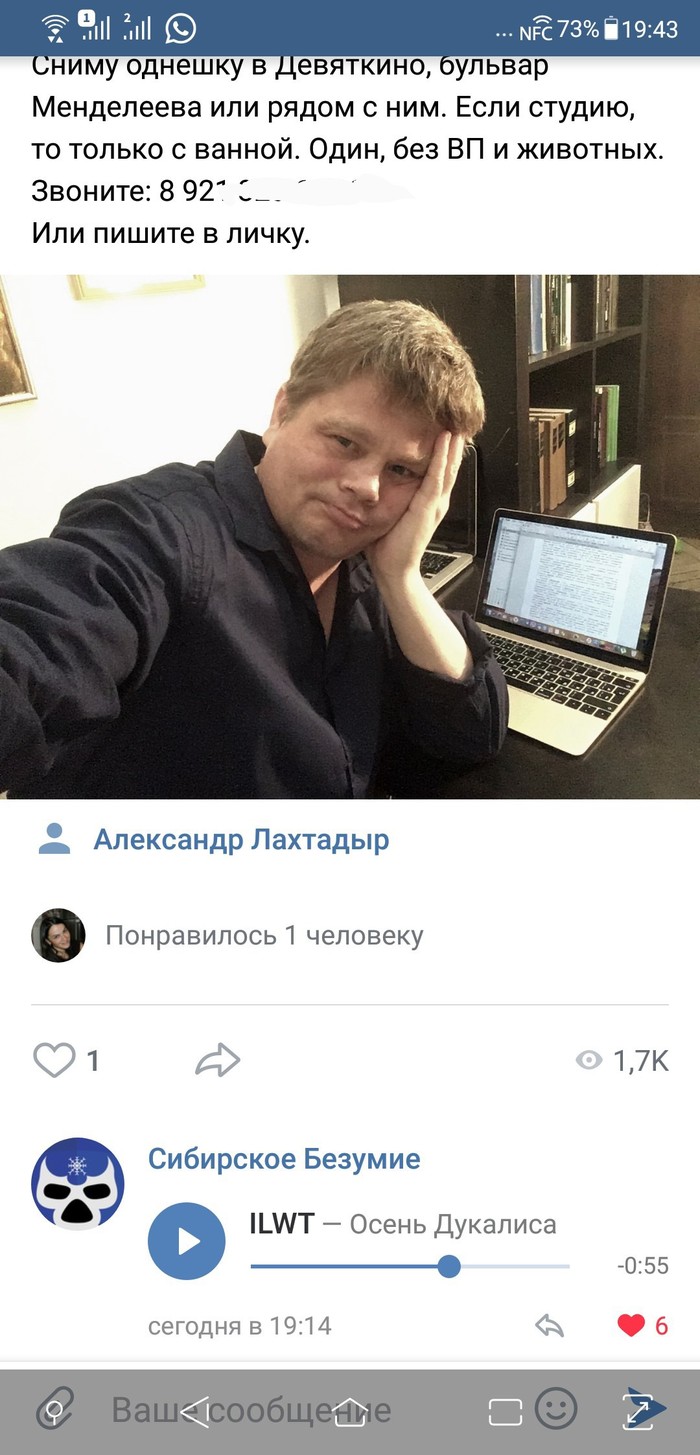Для начала определимся с понятием счастья. Счастье бывает двух типов: чувство, возникающее после удовлетворения каких-либо потребностей и более глубокое чувство удовлетворенности жизнью.
Так вот, в первом случае механизм действия довольно прост. Съел вкусняшку, занялся сексом - получил свою дозу гормона. Ударился мизинцем об угол тумбочки, промок и замерз, дали в глаз - получай совершенно другой набор химических элементов в кровь. Казалось бы, что может быть проще, создавать для себя одни условия, и избегать другие. Как можно меньше боли и как можно больше удовольствия, и все, дело в шляпе, Вы самый счастливый человек на свете. Но нет. Это так не работает. К счастью.
А как же это работает? Почему в наш век изобилия в развитых и развивающихся странах, когда все физиологические потребности, казалось бы, удовлетворены, мы все равно чувствуем, что чего-то не хватает? Вроде бы все есть, и деньги, и друзья, и статус, и семья с детками, но все равно что-то не то. Я могу лишь предположить, что не то. Человек по своей природе существо любознательное, и наделенное потребностью созидать. Так вот, эти две штуки у большинства людей современного мира и не удовлетворяются в полной мере. У все, потому что, чтобы созидать и проявлять любознательность нужна определенная степень свободы. А мы с вами рабы системы, причем рабство у нас в головах. Ребенок до определенного возраста свободен. Но общество стремится к тому, чтобы он стал полноправным его членом, что в общем-то верно. Ребенок должен усвоить правила игры, чтобы иметь возможность взаимодействовать с другими людьми. Но ведь этим не ограничивается. В школе ему насильно, через клизму, пытаются влить культуру и знания. Его психика, естественно, защищается от любого насилия, и вот учеба становится уже не потребностью, а неприятной необходимостью, навязанной извне. Многих это насилие настолько травмирует, что они на всю жизнь становятся интеллектуальными импотентами, неспособными к сознательной умственной работе. Другим везет больше, и им все же удается сохранить тот детский интерес к миру, хотя бы в какой-то мере. Другой аспект социальных институтов состоит в том, что человека с детства приучают подчиняться. Есть даже специальная система школьных оценок, как механизм воздействия. Человек привыкает, что что бы он ни делал над ним все время кто-то стоит и говорит, что именно он должен делать, пиная в случае непослушания. В институте и на работе механизм примерно такой же. В итоге, у человека формируется одна потребность: избежать наказания и получить поощрение. В итоге, желания работать и учиться самостоятельно у него нет. Вся ответственность за собственное образование человек перекладывает сначала на школьного учителя, потом на преподавателя в университете. В итоге, мы получаем абсолютно пассивную марионетку, которой нужен вечный пинок под зад, которая, придя домой с работы в состоянии только потреблять, но не может создавать, у которой все стремления помимо базовых атрофированы. В итоге, мы получаем общество, в котором единицы знают удовольствие от созидания и познания, знают, что такое настоящая свобода.