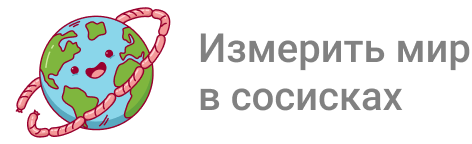ОДА БЕССОННИЦЕ ч.2 (финал)
Когда Сипулин убежал, на месте трагедии стало твориться нечто непонятное. Из ниоткуда тихо появился не первой молодости горняк с лицом, изуродованным синими шрамами во всю его правую половину. Росту он был чуть ниже среднего и одет в обычную, насквозь пропыленную спецовку; каска его, от времени порыжевшая, была с переломленным козырьком, лампу цеплять было не за что. На ногах были чуни, а не боты и не сапоги. Лицо хоть и изуродовано, но не лишено мужской привлекательности, волосы каштановые (как и глаза) с редкой проседью. Он слегка прихрамывал при ходьбе, когда куртка распахивалась, под ней просматривалась какая-то синяя майка и ужасающий шрам на горле.
Незнакомец уселся на буфер забуренного вагона, наступивши при этом на рукав шереметовской куртки, вынул из кармана папиросы «Прибой». Не спеша размял папироску, сплющил мундштук и прикурил.
А прикуривал он классно! Поднял глаза, остекленевшие на миг, устремил их взор на троллею, и контактный провод оглушительно стрельнул голубой искрой. В воздухе запахло озоном. Кусок угля возле ног незнакомца в своём центре раскалился докрасна. Машина, оставленная Сипулиным, умолкла: перестал тарахтеть компрессор, потухли фары. Похоже, выбило фидерный автомат.
Шахтёр неспешно поднял уголину, прикурил от неё и бросил её в канавку. Там зашипело. Курильщик глубоко затянулся, выпустил дым из ноздрей и негромко окликнул:
— Виталик! А, Виталик! Чё молчишь, обиделся што ль? Обижаться тут нечего, сынок: я сработал точно, как часы, ты и нявкнуть не успел. Высший пилотаж, Виталя! Не знаю, как начальство моё, а Бог меня похвалит наверняка. Слышишь, ай нет?
— Слышу! — прошелестело откуда-то сверху.
— Да ты приземляйся, сынок, приземляйся! Садись рядышком, ещё успеешь налетаться. Вот хоть на руку свою присядь, она ещё тёплая! Я вообще-то хотел тебя под электровоз бросить поначалу, да Сипулина жалко стало, он бы этого не пережил, он парень добрый. Всю жись потом казнился бы. Вот и пришлось тебя вагонами давить, штоб Юрка не видел.
— А вы кто будете? — послышался слабенький, как дуновение ветерка, голосок из вагона с углём.
— Кто, кто!.. Друг в кожаном пальто! Не догадываеси, што ль? Чему токо вас в УКК учат? И как вы сами учитесь..? А разговор же ж про меня там был, я точно знаю, Митрофановна вам всем рассказывала. Да вам, особенно образованным, тот рассказ до Фени.
— Шубин, что ли? — ахнуло из вагона.
— Он самый и есть, а ты думал! Вообще-то я в миру Мишкой Хряпиным был, а теперь вот Шубин. Хожу по шахте, горняков шугаю, чтоб не забывали про опасность.
— А почему ж Вы без шубы, дядь Миша? Сгорела?
— Зачем сгорела? У меня её и не было, шубы-то. Это всё устаревшие данные, как щас говорят. То ещё при царе Горохе отчаюги метан поджигали. А я от взрыва погиб, аккурат когда котлован делали под опрокид, где ваша мандолина, Ленка Сизякина, щас помочиться уселася. М-да. Так я тогда запальщиком работал. Вот послали меня котлован тот палить, я и распалил сам себя. С той поры и блукаю по шахте.
— Так получается, Вы самоубийца, дядь Миш?
— Да Господь с тобою, сынок, што такое гутаришь! Я по нечаянности. Если б сам себя порешал, то гореть мне щас в адовом огне, тут не чикаются с теми, кто сам на себя руки наложил. А я по нечаянности, по неопытности, запальщик-то я был деревянный! Образование — шесть классов всего. Всю жизнь на лопате, а как на пенсию вышел, тогда и курсы взрывников посещать начал. Всё одно если б не магарыч, не видать бы мне тех корочек.
— Так я не пойму: Вы чёрт или кто? Ну, нечистая сила, или как?
— Скорей всего, «или как». Ни то, ни сё, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Ты думаешь, Шубины только зло творят? Как же! Вот, к примеру, кто тебя сегодня шуганул, когда ты вагоны расцеплял и головой своей дурой промеж вагонов залез? Я и сыпанул тебе штыбу за шиворот, штоб ты скорей оттуда выскочил! А ты ж видел, што потом получилось? Сипулин сдуру вагоны толканул, подсобить тебе хотел, да усилие не рассчитал. Буфера вагонов от толчка того друг на дружку и заскочили. И промеж вагонов теперя просунуть руку-то можно, а вот попробуй там дулю свернуть! Не получится, потому, как расстояния мало. Если б не я, что с твоей головешкой было бы, кумекаешь? То-то же!
— Оно, конечно, спасибо Вам, товарищ Шубин, да только недолго я после этого прожил!
— А-а-а, вона как! — глаза у Шубина потемнели, брови нахмурились. — Так может, переиграем всё по новой, а? Давай мы тебя с раздавленной головой отправим на-гора, по больницам-госпиталям тебя помурыжим, кошелёк мамкин отощавший совсем опорожним! А ты всё равно гавкать на луну будешь... Нд-ра-вит-ца?
И насупился, обиженный:
— Вот и делай после этого добро людям!
— Ладно, дядь Миша, извините дурака. Я как-то не подумавши...
— Да чё там, Виталик, я и сам понимаю, что ты не со зла ляпнул, — примирительно сказал незадачливый запальщик, а по лицу было видно, что от души отлегло, ублажил его хитренький Шеремет.
— Ить я вижу, Виталя, человека, наскрозь вижу! И мне жалко было тебя давить, гадом буду! Но приказы хозяина небесного, да и земного тоже, не обсуждаются. Воля Божья — всему закон. Всему своё место и всему своё время. И — точка! Нигде такой дисциплины нету, как на этом свете. Это у вас только, парниша, в вашем надземном балагане может случиться, што Адам с Евой самого Господа Бога не послушали, а в нашем комунхозе спробуй только!
— А что будет?
— А ничего не будет. Ты и сам не захочешь самовольничать, когда увидишь, как тут грешникам непрощённым живётся.
— А как им живётся?
— А так и живётся, што ни за што не захочешь так... Да ты, Виталик, не гони лошадей, скоро сам всё увидишь. Зачем-то ж понадобилось Господу меня по твою душу послать. Вот я и сполнил его поручение. Мне тут большой воли не дано: я могу только одно решать сам — как, каким способом тебя, твою земную оболочку ликвидировать. Если б ты мне был ненавистен, я б тебя, конешно, заставил бы помучиться от души. Но... Опять же... Если б я шибко тебя истерзал, если б я сам при этом садюгой оказался, если б поручение кровавое с большой радостью исполнил — худо б мне пришлось тогда. Тут за это наказывают, причём сразу. Это в вашем мире всё делается нога за ногу, вразвалочку; это на вашей грешной земле нагрешишь — а наказание может через десяток лет получить, вам даётся возможность опомниться и покаяться, то у нас этот номер не пройдёт. У нас получаешь свою пайку сполна и сразу.
Ну, за тебя мне ничего плохого не будет: я тебя укокошил легко и быстро, совесть моя чиста. Я тебя, можно сказать, под белы рученьки взял и подсадил на небеса. А дальше твоей персоной другие займутся.
— Ну, и где ж те небеса? Почему я в шахте до сих пор? Где ваше неземное «сполна и сразу»?
— И-эх-х, комсомолия моя недоразвитая! — с язвительным сожалением сплюнул бывший взрывник, — Всё-то вы знаете, во всём разбираетесь, а тёмные до невозможности! Хуторская бабка-самогонщица, неграмотная совсем, и то соображает, а вы, молодёжь, ни капельки. Последний баран знает, что душа человеческая в голове размещается. В шахте ты потому, что голова твоя, да и всё тело твоё не похоронено по-христиански, вот и душа твоя беспризорная. Как только тело в могилу уляжется, так и душа твоя ко Господу отойдёт. Не сразу токо, а на сороковые сутки. Ужели не слыхал? Если, скажем, не похоронют тебя, то и душа твоя навечно будет на шахте скитаться, с моею напару. Токо зачем же людям с тобою так поступать, как со мною когда-то? Зачем тебе такую каку делать? Тебя похоронют! И хозяйка ваша, Полина Феоктистовна, громче всех будет над гробом твоим голосить. А через сорок дней и вознесёсси, куда положено.
— А что же за гадость Вам сделали, дядь Миша? И кто? И зачем?
— А это всё главный инженер устроил, ты его не знаешь. Когда меня аммонитом по штреку раскидало, голову мою породой сильно присыпало, не нашли её. И выдали на-гора всю мою плоть, окромя головы. Похоронить-то похоронили, а толку! Мне и доси жалко вдову мою: столько денег на поминки истратила, а всё попусту. Хорошо, хоть не знает, что похороны фальшивые.
А тот, Севрюков долбаный, ну, инженер главный, распрекрасно знал, какой порядок надо соблюсти над шахтёром погибшим. Но ему, суке, поездка в Англию, на чемпионат мира по футболу, покоя не давала — вот он, скотина, и улетел в тот Лондон, рукой на всё махнувши, а душа моя беспризорной оказалась. Ну, я его отблагодарил потом. Я его, безбожника, самым первым убил потом в шахте. Ты, небось, уже слыхал, как это было?
— Нет, не слыхал!
— Ну, не слыхал, и не надо. Не для слабонервных эта история, и я рассказывать её не буду: душа твоя, Виталик, ещё детская, незакалённая. Одно токо скажу: я ему, подлецу, в разгар футбола пламенный привет от себя послал, прямо в Лондон.
— Это какой же привет?
— А я ему копию головы своей с неба бросил, прямо на футбольное поле. Он чуть в штаны не напорол, он всё понял, но промолчал. А все газеты и журналы английские тот случай во всех красках обрисовали. Про оторванную голову, упавшую с неба на футбольное поле. Только им никто не поверил — подумали, что журналист какой-то лишнего выпил, да и набуровил по пьяни, а другие с него ту сенсацию выудили и по всему свету разнесли. Там, за бугром, это «жёлтой прессой» называют, ну, и не берут в голову. Один только Севрюков правильно всё понял, да куда ему деться! Он уже тогда был приговорён мною к высшей мере.
В это время загорелись фары у электровоза и заурчал компрессор. Шубин встал с буфера и доложил:
— Ромка Галимуллин дошёл до подстанции и фидер включил!
Потом достал папироску и прикурил, но на сей раз по-другому, как прикуривают все горняки, когда нет спичек. Он просто подобрал с земли кусок магистрального провода, острыми ногтями содрал изоляцию с его концов; затем на одном конце сделал крючок и накинул на него троллею, а другим прикоснулся к валявшемуся возле вагона куску угля. Уголь с лёгким шипением раскалился докрасна в месте соприкосновения с проводом. Остальное — точь-в-точь как с первой «Прибоиной».
— Ну, вот Сипулин и добежал до диспетчера, запалился весь, бедолага. О твоей, Виталик, погибели докладывает. У второго горного глаза на лоб вылазят и челюсть отвисла. Ага, дурно сделалось, флягу из кармана достаёт...
Молча, словно отдыхая после долгой говорильни, хозяин недр прошёлся по штреку, вернулся к забуренному вагону и вдруг спросил:
— А знаешь, Виталик, за что я тому Сипулину такую нервотрёпку сегодня устроил?
Вагон промолчал.
— Так не догадываешься, кто сапоги твои новенькие у тебя стырил?
— Н-н-е-е-е! — послышалось из вагона озадаченно.
Шубин хохотнул:
— Ну дитё ж ты ещё, Виталик! Неиспорченный ты, ну точь-в-точь как я в твои годы! Может, потому и приглянулся ты мне, похож ты очень на меня в молодости. Так вот, дитятко моё неразумное! Сей момент сапожки новенькие перед диспетчером стоят, и колени над ними дрожат от пережитого. Получай, хвашист, гранату! Получай, Сипулин, нервный шок и мандраж по всей программе! Чтоб неповадно было новичков обворовывать. Справедливо?
Виталькина душа подавленно молчала.
— Ништяк, Виталя! Всё тут делается по справедливости — и на том свете, и на энтом. Кажный получает то, что заработал. Из чьих рук получает — не так важно. Важно то, что на другом конце цепочки — Он, Спаситель наш.
Помолчали. Шубин вдруг улыбнулся и спросил:
— А хошь со мной остаться? Это дело нехитрое: припрячу твою головешку — и дело в шляпе. Мне веселей будет, всё не один, будем напару в шахте шухер учинять. Ну, как, хочешь?
— Не знаю, дядь Миша, чего я хочу! — каким-то замученным голосом ответила Шереметова душа, — к маме хочу, жалко её очень!
— К мамке нельзя ишо, — со вздохом ответил Михаил, — Она ещё спит, ей как раз вещий сон про тебя снится, мучается она, вскрикивает. Проснётся минут через пятнадцать.
— А сколько время? Без пятнадцати шесть, выходит?
— Да ничего там не выходит, до шести ещё далеко. Интересно, что и Полина точно такой же сон про тебя видит, тоже в тревоге, и всё думает, как бы ей поскорей к матери твоей кинуться, тревогой своей поделиться, а проснуться никак не получается.
— Полина Феоктистовна? Она тут с какого боку? Век бы эту коросту не видел.
— И не увидишь, — ухмыльнулся Шубин, — только зря ты про неё так. Мать же учила тебя прощать, вот и прости. Полина — она баба ничего, не такая уж и пакостная. Мужика ей надо, вот она и бесится. Болеет она без мужика, понимаешь ли. А над тобой она будет убиваться без притворства, натурально.
— Тю! Родня я ей, что ли!
— Не тюкай. А и родня почти что, а ты думал! Чем-то сына покойного ты ей напомнил, да и привыкла она к тебе, сама не заметила, как. А ты рожу воротишь. Нельзя так с людьми, Виталя. Правда, совет мой уже запоздалый. Да и сон свой Полина правильно поймёт.
— А мать свой сон правильно поняла?
— Я ж сказал, скоро проснётся, вскочит, как ошпаренная, по хате метаться будет. Да она всё уже поняла, просто проснуться никак не может — силится, а не может. Материнское сердце — вещун, его не обдуришь.
— Ей очень больно будет?
— Сколько положено, столько и будет... Она закалённая уже, не то, что в молодости, когда судьба её впервой ударила. Почти два года в тюрьме отсидеть, да ни за что ни про что — это не подарочек.
— В какой тюрьме?! — ахнул Виталий. — Да она ж не судимая!
— Судимая, Витёк, судимая! Все твои братья и сестра про то знают, да им велела мать помалкивать, пока не подрастёшь.
— И за что ж её так?
— Я ж сказал, ни за что. По ошибке. Хотя, конешно, Бог ни за что не наказывает. Да и не наказывает он, а наставляет. Всех — и грешников, и праведников.
— Так она, значит, два года отсидела?
— Без малого. Вернулась домой, вещи свои цивильные перебирать стала. Полезла в свой ридикюль, пудры-помады проверить. Видит — подкладка в одном уголочке самую малость оторвана. Она в ту дырку руку запустила — а там накладная. Та самая, из-за которой её и посадили.
— Ни-и фи-га себе! В гробу б я видел такие шуточки, воспитание такое!
— Не богохульствуй, Виталий! — строго сказал Шубин. — Грех это великий!
— Не, ну, как же так можно с живым человеком! Ведь это ж издевательство, а не воспитание, зачем же...
— Не богохульствуй! — ещё строже прикрикнул хозяин недр, — Не нашего ума это дело!
Помолчал, потом продолжил:
— Там ещё следователь говнистый попался. За то, что на все его намёки не отреагировала, он и раскрутил на всю катушку. Она ж молодая была, красивая, следователь слюни пустил.
— Ну?
— Ну, вот тебе и «гну». Была б она Полинкой, сразу б смикитила, да тут же перед ним и разлеглась...
— А мать не понимала, чего он хочет?
— Э-э, дотошный ты какой! Ну, как там не поймёшь, когда он коленку шшупает! Так не Полинка же, а мать она твоя! Не в её характере такие торги. Да ты, Витёк, не мучайся, того следователя давным-давно «хока» съела, утонул он в том же году. И не только ж ему Господь мозги вправил. Бухгалтер, что мать твою подвёл под монастырь, тоже своё получил: вскорости спился совсем, жена и дети от него отвернулись. Теперь поумнел. Понял: не протягивай, хамлюга, руки до жены красноармейца, что далеко от дома служит, у тебя своя жена есть! Так что каждому, сынок, по заслугам его, а ты говоришь...
Шубин, кряхтя, подтянулся к лужице крови, не успевшей впитаться в почву, зачерпнул её в ладонь, внимательно посмотрел, потом понюхал.
— Хороша кровушка твоя, Виталий, чистая. Вот только сладкого поменьше исть надо было. Ну, да теперь это неважно.
Ещё раз посмотрел на стекающий по руке ручеёк, потом, кряхтя, встал и ополоснул руку в канавке. Снова сел и улыбнулся:
— Дворянских кровей малая толика мною замечена. Из благородиев ты, парниша, не то, что я.
— Каких благородиев? — изумился Виталий. — Мой дед батраком был!
— Не был он батраком! Бедным был, это да, а батрачить не приходилось. На что ему это грязное дело, если плотник он первоклассный!
— Ну, плотник — это ещё не благородие!
— А ты вспомни название села, где твои прадеды жили, и с фамилией своей сопоставь. Опять же, у Пушкина: «... и Шереметьев благородный...». Ну, да это ещё вопрос дохлый, в Полтавской битве предков твоих не замечено. А вот у лихих отчаюг — запорожцев — там да, там были. Был у запорожцев полковник Шеремет. Это прапрадед твой. Если хочешь знать, то Тарас Бульба, ты его ишо в пятом классе изучал, это и есть полковник Шеремет. Николай Васильевич Гоголь того Тараса аккурат с твоего прапрадеда срисовал, один к одному.
— Да что вы говорите! — польщённо ахнул вагон с углём, забуренный «с двух».
— Точно тебе говорю! Сам-то Гоголь неподалёку от вашей вотчины проживал, километров тридцать всего. И про лихого Шеремета смаличку наслушался, вот и написал «Тараса Бульбу». Ну, наврал там с три короба, не без этого. Все писатели такие.
— Что ж там не так?
— Да много кой-чего приукрашено. Ну, как он сына своего расстрелял — это всё враки. Никакого сына Шеремет не убивал, а их у него трое было — это Гоголь маленечко палку перегнул. Ну и по мелочам. Начинается книжка с чего? Как Бульба со старшим сыном на кулачки бьётся. Так вот, старшего сына Омельком звали, а не Остапом, а главное — в семье Шеремета один только мордобой случился. Это когда старый полковник по пьяни жену свою волтузить начал. А подросшие сыновья увидели, да батяньку своего так отмудохали, что после Шеремет свою старуху пальцем тронуть боялся.
Виталий прошебуршал что-то невнятное, а Шубин продолжал:
— А что? Я, когда на лопате работал, тоже выпимши бывал свинья свиньёй. Бывало, приду с работы «под мухой», детвора под ноги кидается: «Папка, кети принёс?». А я на них: «Кыш, голодранцы! Видите — лава не циклует, какие могут быть кети!». А сам на ногах еле держусь. М-да-а! На водяру деньги всегда находились, а вот ребяткам на конфекты... Может, за те грехи и слоняюсь теперь по шахте неприкаянным?
Шубин затих и горестно уставился в темноту штрека, пока вдали не замелькали огоньки приближающихся людей. Шубин встрепенулся, встал и буднично как-то произнёс:
— Ну, Виталик, пора мне растворяться. Вон уже целая орава едет за твоими останками. А я ж должен блюсти традицию: будучи во плоти, ни на кого понапрасну глаз не положи, а то на-гора никогда не выедет. Так што раз... мат... материя... лизаться я должен. Значит, не хочешь со мной в компанию? Ну, и правильно! Не такое уж весёлое это дело — к высшей мере кто-то приговаривает, а ты приводи в исполнение. Душа всё никак не зачерствеет, никак не привыкну. Да, если честно, и прав у меня таких нет — напарника себе назначать. Для этого есть кто-то повыше...
— Всё, Виталий, исчез я! — донеслось уже метров с семидесяти, приглушённо.
По штреку во весь опор неслась машина с лежащими на ней людьми. Второй горный диспетчер сидел в кондукторке, ещё трое, включая Сипулина, лежали «покотом» под пантографом. Сипулину не доверили «штурвал»: уж слишком много ему довелось пережить за эту смену, и за его нервную систему опасались. Рукояткой контроллера завладел Роман Галимуллин.
***
Хоронили Виталия пасмурным оттепельным днём. Убитая горем, но не проронившая ни слезинки, мать выставила землекопам — присланным Маркеловым четырём рабочим — два литра государственной водки, чтоб тем было веселее долбить мёрзлую землю на кладбище.
Дети — два брата и сестра — окончательно съехались только к полудню, к самым похоронам. Полина пустила процессию в свой просторный дом, гроб с телом Виталия второй день стоял у неё в центре «залы», вокруг него сгрудилась родня, притихшие сотрудники разместились вдоль стен. Был и сам Маркелов, насупленный, решительный и властный, как всегда.
Над гробом всплескивала руками причитающая по-казачьи Полина Феоктистовна, её горючие слёзы орошали восковое лицо погибшего. Когда гроб подняли, чтобы вынести на улицу, к грузовику с опущенными бортами Полина заголосила отчаянно.
— Кто это так убивается? — недоуменно перешёптывались рабочие шахты.
— Да это хозяйка того флигеля, где Витька с матерью своей жил! — пояснил кто-то всезнающий.
— Хо-ро-шая хозяйка! — как-то задумчиво и со значением произнес Владимир Сосковец, машинист, человек необычной судьбы. Он недавно пришёл из тюрьмы, где отсидел пять лет за убийство любовника своей жены. Собственно, был то не любовник, а любвеобильный начальник. Пять лет назад Сосковец, трезвый и работящий мужик, заметил, что его красавица-жена, работавшая на обогатительной фабрике, стала приходить с работы какая-то взвинченная, с подозрительными синяками на груди. Выяснилось, что на неё позарился десятник фабрики, мордатый, краснощёкий Коровин. Жена Сосковца была не первым его увлечением — на вверенном ему участке Коровин чувствовал себя петухом в курятнике. Встревоженный Сосковец, горячо любящий жену, кинулся было набить морду сопернику, но жена повисла на руках и уговорила мужа пойти «законным путём», т. е. обратиться в партком с жалобой. Что законопослушный и верящий в родную партию машинист и сделал. Но вскоре заметил свежие засосы на шее супруги. Ни слова никому не сказав, Василий средь бела дня пошёл на шахту, искать своего обидчика. Нашёл. Коровин, уже слегка «вмазанный», вышел из шахтной столовой и вальяжной походкой направился к мотоциклу «Днепр». Закидывая ногу и натягивая кожаные перчатки, собрался завести двигатель, но чья-то рука легла на левую перчатку сверху. Коровин оглянулся — его розовая ряшка побледнела. Блеснуло лезвие топора. Голова, не прикрытая мотоциклетным шлемом — они ещё не успели войти в моду — раскололась надвое. «Серое вещество» разлетелось по всей коляске и бензобаку. Бросив топор и ссутулившись, Сосковец зашагал в партком.
И теперь этот сорокалетний немногословный, с поседевшей уже головой, человек как-то странно смотрел на Полину Феоктистовну. И каждый, кто не ленился проследить за тем взглядом, начинал понимать, что какая-то думка засела в голове у Сосковца основательно и надолго.
Причудливы бывают судьбы человеческие! Сосковец наблюдал за Полиной, а за Василием наблюдал Николай Гальченко, бывший фронтовик, тоже вкусивший прелестей лесоповала. В конце войны, солнечным майским днём лихой разведчик-лейтенант возвращался с фронта. В теплушке он крепко выпил с товарищами-фронтовиками, был весел и беззаботен. Всеобщее внимание привлёк шум на одном из соседних полустанков. Воины-освободители вмешались в конфликт между милиционером и группой разновозрастных женщин сельского обличья. Милиционер не уважил фронтовиков, пожелавших узнать причину конфликта. Он просто отмахнулся от них. Обидчивый Гальченко выхватил из кобуры свой ТТ и порешал наглеца на месте. Через пятнадцать лет он вернулся на родную шахту матёрым, прошедшим огонь и воду мужичиной, любимцем солагерников.
Теперь он внимательно проследил за взглядом Сосковца и всё понял. Шахтёры вообще умеют понимать друг друга с полувзгляда.
***
… Похоронили Виталия на городском кладбище, возле железной дороги. Неподалёку от его могилы высится обелиск, под которым нашли последнее пристанище горняки шахты «Нежданная», сгоревшие заживо ещё в 30-е годы.
Тогдашнее кладбище было довольно компактным — «прирост мёртвого населения», если можно так выразиться, был незначительным. Соображения престижа не успели коснуться мест захоронения горожан. Ни гранита, ни мрамора, ни литых решёток вокруг могил. Всеобщее равенство — вот что приходило на ум каждому, кто посещал этот город мёртвых. И это можно считать приметой того времени.
На могилах лётчиков принято устанавливать пропеллер, у шофёров — рулевое колесо.
Шахтёрские могилы лишены какой бы то ни было символики, но человек проницательный легко их распознает.
Надгробие, сваренное из рештака, вот их отличительный признак.
Шахта накладывает властную руку на могилу погибшего, прикрывая её своей железной ладонью и тем самым оставляя свою посмертную метку...
25 декабря 2001 г.