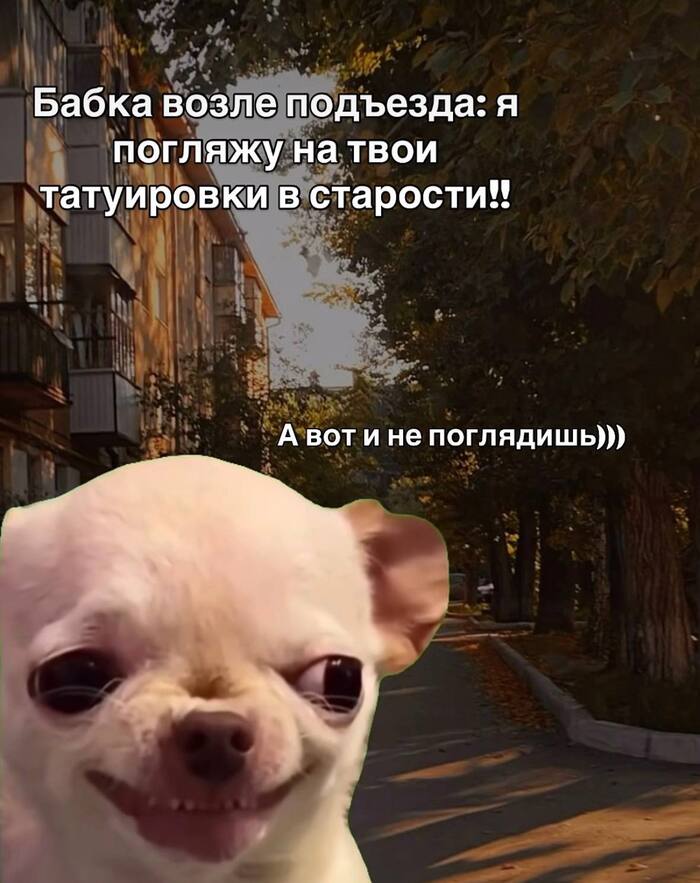Записка в лифте изменила мою жизнь
– Опять ты тут грохочешь!
Голос из-за двери раздался ровно в ту секунду, когда я поставила пакет с продуктами на пол. Обычный пакет. Обычный вечер четверга. Я даже каблуки сняла в коридоре, потому что уже знала – любой звук будет услышан.
Четыре года назад я купила эту квартиру. Однушку на третьем этаже, в хрущёвке на окраине Воронежа. Четыре миллиона двести – всё, что удалось скопить за восемь лет работы бухгалтером. Вике тогда было пять. Мы переехали из съёмной комнаты, и я думала – вот оно, наконец-то наш дом.
Зинаида Павловна жила этажом выше. Кв. 32. Крупная женщина с широкими плечами, всегда в халате с красными георгинами на синем фоне. Бывший председатель ТСЖ. Бывший – это важно. Но вела она себя так, будто весь дом до сих пор принадлежал лично ей.
Первую неделю после переезда она принесла мне пирожки. Я обрадовалась. Наивная. Пирожки оказались разведкой. Она выяснила, что я одна, без мужа, что работаю бухгалтером, что дочке пять, что родители в Липецке, что помогать некому. А потом началось.
Ремонт я затеяла через месяц после переезда. Стены в комнате были жёлтые от старых обоев, линолеум вздулся пузырями, в ванной текла труба. Наняла рабочих – двух мужиков из объявления. Обговорила время: с девяти утра до шести вечера, как положено. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Я же бухгалтер – привыкла к точности.
На второй день ремонта соседка сверху спустилась.
– У тебя там что, стены ломают? – она стояла в дверях, руки в боки.
– Обои сдирают, – ответила я. – И кладут плитку в ванной.
– Какую плитку? Тут перекрытия деревянные, ты что, дом завалить хочешь?
Перекрытия были бетонные. Я это знала из документов, которые читала перед покупкой. Но спорить не стала. Улыбнулась, предложила чаю. Она чай не взяла. Зато потребовала показать порог.
– Вот здесь подпилить надо, – она ткнула пальцем в новый порожек из алюминия. – Он на два сантиметра выступает в коридор. Общий коридор. Не твой.
Я замерила потом. Порожек выступал на четыре миллиметра. Не сантиметра. Миллиметра. Но она уже ушла наверх. А через час я услышала, как она разговаривает с кем-то на лестничной клетке.
– Понаехала, и давай тут всё крушить, – голос Зинаиды Павловны звенел на весь этаж. – Стены трясутся. У меня люстра качается!
Я стояла за дверью и слушала. Пальцы сжали ручку так, что побелели костяшки. Но вышла и сказала – спокойно, ровно:
– Зинаида Павловна, ремонт идёт в рабочее время. По закону я имею право.
Она посмотрела на меня так, будто я плюнула ей в лицо.
– Имеешь право? Посмотрим.
И ушла. А на следующее утро в лифте появилась записка. Написана от руки, крупным неровным почерком, на листке в клетку из школьной тетради: «Жильцам кв. 28! Шум в квартире нарушает покой дома. Просьба прекратить. Ваши соседи».
Никакие «соседи» эту записку не писали. Почерк Зинаиды Павловны я уже узнавала – она оставляла объявления на доске у входа каждую неделю.
Я сорвала листок. Положила в ящик стола. И завела тетрадку – толстую, в клетку, девяносто шесть листов. Написала на обложке: «Факты». Записала дату, содержание и кто, по моему мнению, автор.
Тогда я ещё не знала, зачем мне этот учёт. Просто показалось правильным – вести хронологию. Бухгалтерская привычка. Дебет-кредит. Только вместо денег – обиды.
Вечером Вика рисовала наш дом. Пятиэтажка, деревья, солнышко. Я заметила, что на четвёртом этаже одно окно закрашено чёрным. Спросила – почему.
– Там злая тётя живёт, – сказала Вика. – У неё окно всегда тёмное.
Я погладила дочку по голове и ничего не ответила. Но в тетрадку записала и это.
Через три месяца после ремонта начались жалобы. Настоящие – на бланках, с печатями. Зинаида Павловна писала в управляющую компанию.
Первая – на шум. Дата: четырнадцатое марта. «Систематическое нарушение тишины в ночное время жильцами кв. 28». Я получила уведомление. Позвонила в УК, объяснила, что ремонт закончился две недели назад. Мне сказали – ладно, разберёмся. Разбираться было не с чем, но я потратила сорок минут на звонки и нервы.
Вторая жалоба – через два месяца. На запахи. «Из квартиры 28 исходят неприятные запахи, предположительно связанные с антисанитарными условиями». Я в тот день варила борщ. Свёклу запекала в духовке, бульон томился три часа. Весь дом, наверное, чувствовал аромат. Но «антисанитарные условия» – это уже не про борщ. Снова звонки, снова объяснения, снова ощущение, что ты оправдываешься за право жить в собственной квартире.
Третья – на Вику. «Ребёнок из кв. 28 бегает по квартире в позднее время, создавая невыносимый шум». Вика ложилась в девять. В девять пятнадцать она уже спала – я проверяла каждый вечер, потому что к тому моменту боялась каждого звука в собственном доме. Мы с дочкой ходили по квартире чуть ли не на цыпочках. Вика перестала прыгать через скакалку в комнате. Перестала танцевать под музыку. Девочке шесть лет, а она ступает как мышка, потому что мама сказала «тише, а то соседка опять напишет».
Разве это нормально? Разве ребёнок должен бояться топнуть ногой в своей квартире?
Четвёртая жалоба – на «подозрительных гостей». Ко мне приходила подруга с работы. Пятая – на «захламление лестничной площадки». Там стояла Викина самокатка. Шестая, седьмая, восьмая – я уже перестала удивляться. Каждые три-четыре месяца, как по расписанию.
Жалоб за всё это время набралось одиннадцать. Я записывала каждую. Дата, содержание, что ответила управляющая компания. Ни одна не подтвердилась. Ни одна. Но каждая стоила нервов – звонки, объяснения, ожидание проверки, которая может прийти, а может и нет. И каждый раз – одинаковое чувство: ты виновата, пока не доказано обратное.
Потом пропал коврик. Я положила его перед дверью – мягкий, с надписью «Welcome», купила за восемьсот рублей. Вика выбирала – долго стояла в магазине, сравнивала, трогала ворс пальцем. Через неделю – нет коврика. Я не стала заявлять в полицию. Из-за коврика за восемьсот рублей? Купила новый. Через десять дней – снова нет.
Третий коврик я уже не покупала. Тысяча шестьсот рублей – вроде мелочь. Но когда ты мать-одиночка с зарплатой тридцать восемь тысяч, каждая мелочь ощутима.
А потом Зинаида Павловна пришла с идеей дежурств. Суббота, десять утра, собрание жильцов на лестничной клетке. Пришло четыре человека из двадцати квартир. Она объявила: каждый жилец должен по очереди мыть лестницу и площадки. Два часа каждую субботу.
– У нас же уборщица есть, – сказала я. – Мы платим за это в квитанции.
– Уборщица моет раз в неделю. Этого мало. Посмотри, что делается!
Лестница была чистой. Я видела, как уборщица приходила каждый вторник. Но кто станет спорить с женщиной, которая тридцать лет живёт в этом доме и говорит так, будто ей все должны?
Зинаида Павловна уже составила график. И мою фамилию поставила первой. Я мыла четыре месяца подряд – каждую субботу, по два часа. Шестнадцать суббот. Тридцать два часа. Потому что другие жильцы тоже мыли, и мне было неловко отказаться, когда все участвуют. Ведро, тряпка, «Белизна». Колени ныли от бетонных ступенек. А Зинаида Павловна ни разу не спустилась со шваброй. Ни разу за четыре месяца. Она «контролировала».
На пятый месяц я подняла квитанцию за ЖКХ. Нашла строку «содержание и уборка мест общего пользования». Тысяча сто рублей в месяц. Посчитала за четыре месяца – четыре тысячи четыреста. Ровно столько я заплатила за услугу, которую ещё и выполняла сама бесплатно.
– Зинаида Павловна, – сказала я на следующем «собрании». – Покажите протокол. Когда было голосование? Где подписи жильцов?
Она побагровела.
– Какой протокол? Я тридцать лет в этом доме!
– Я не буду мыть лестницу. Я плачу за уборку. Если хотите дополнительное дежурство – проведите собрание по правилам. С кворумом.
Трое соседей, стоявших рядом, промолчали. Ни одного слова в мою поддержку. Зинаида Павловна повернулась и ушла наверх. На следующий день в лифте появилась новая записка: «Некоторые жильцы отказываются поддерживать чистоту в доме. Стыдно!»
Я сфотографировала листок. Записала дату и текст. Страниц в тетрадке оставалось всё меньше.
Той ночью я лежала без сна и считала. Одиннадцать ложных обращений в УК. Два украденных коврика – тысяча шестьсот рублей. Тридцать два часа уборки за свой счёт. А ещё – дочь, которая боится бегать в собственной квартире, и я, которая снимает каблуки в коридоре, чтобы не дай бог не стукнуть.
Но я терпела. Потому что мне казалось – если не реагировать, она устанет. Перестанет. Переключится на кого-то другого.
Не перестала.
В августе пропал Викин велосипед. Розовый, с корзинкой впереди и звоночком в виде божьей коровки. Три тысячи сто рублей – я помнила точно, потому что откладывала на него два месяца, убирая по полторы тысячи с каждой зарплаты.
Велосипед стоял на лестничной площадке, у стены, рядом с нашей дверью. Там, где стоял всегда – места в однушке для него не было. Утром Вика уходила в школу, велосипед был на месте. Вечером она вернулась – и на площадке пусто.
– Мам, а где мой велик?
Я вышла на лестницу. Пусто. Спустилась на первый этаж – может, кто-то переставил. Поднялась на пятый. Нигде. Вышла во двор, обошла дом, заглянула за трансформаторную будку. Потом подошла к мусорным бакам. И увидела розовый руль, торчащий из контейнера.
Я вытащила велосипед. Корзинка смята, звоночек оторван и валялся тут же, на дне контейнера. Педаль правая отломана – не открутилась, а именно отломана, с усилием, будто кто-то нарочно выгибал, пока металл не треснул.
– Я видела, – сказала Вика тихо, когда я притащила велосипед домой. – Тётя Зина его выносила. Я в окно смотрела, когда ты на работе была.
Внутри что-то оборвалось. Не злость – что-то тяжелее. Девятилетний ребёнок стоял у окна и смотрел, как взрослая женщина несёт её велосипед к мусорке. И молчал, потому что знал – с этой тётей лучше не связываться.
Что я должна была сделать? Вызвать полицию? Из-за детского велосипеда? Написать заявление «моя дочь видела из окна»? Какие доказательства? Слово девятилетней девочки против слова пенсионерки, которая тридцать лет живёт в доме?
Я поднялась на четвёртый этаж. Позвонила.
Зинаида Павловна открыла через минуту. Халат с георгинами, тапочки, очки на лбу.
– Чего тебе?
– Зинаида Павловна, вы выбросили велосипед моей дочери?
– С чего ты взяла?
– Вика видела в окно.
– Ребёнок выдумывает. Я телевизор смотрела весь день.
Я стояла перед ней и чувствовала, как горло сжимается. Хотелось закричать – но крик бы ничего не изменил. Вместо крика заговорила тихо:
– Вика не выдумывает. Велосипед стоял у нашей двери. Теперь он в мусорке. Со сломанной педалью. Педали сами не ломаются.
– Может, хулиганы утащили, – она пожала плечами. – А мне-то что?
И закрыла дверь.
Ремонт велосипеда обошёлся в тысячу рублей. Новая педаль, выпрямить корзинку. Звоночек-божью коровку починить не удалось – Вика сказала «ладно, мам, и без него поеду». Четыре тысячи сто рублей. Покупка плюс ремонт. Записала в тетрадку.
Через неделю – суббота, два часа дня. Я несла пакет из «Магнита». На площадке второго этажа стояли трое соседей – Артём с первого, Нина Сергеевна со второго и Валентина с пятого. Разговаривали о чём-то. Я хотела пройти мимо, кивнуть и подняться к себе. Но Зинаида Павловна уже спускалась сверху. Увидела меня – и остановилась.
– А вот и она! – Зинаида Павловна ткнула в меня пальцем. – Понаехала из своего Липецка, квартиру купила, и думает, что ей тут всё можно!
Я замерла на ступеньке. Пакет в руке качнулся.
– Зинаида Павловна, при людях-то зачем?
– А что? Пусть люди знают! Хамка! Лестницу мыть не хочет, шум с утра до ночи, ребёнок по потолку скачет! Я одиннадцать жалоб написала – и ещё напишу!
Нина Сергеевна опустила глаза в пол. Артём смотрел в стену, будто обои разглядывал. Валентина перебирала ключи, щёлкая одним о другой.
Я стояла перед тремя взрослыми людьми, которые молчали, пока пожилая женщина при них тыкала в меня пальцем и называла хамкой. Лицо горело – не от стыда, нет. От того, что ни один из них не скажет ни слова.
– Зинаида Павловна, – я поставила пакет на ступеньку. – Вы выбросили велосипед моего ребёнка в мусорный бак. Дочь видела из окна. Велосипед стоил три тысячи сто. Ремонт – ещё тысячу. Если хотите – я вызову участкового прямо сейчас.
Она стояла ступенькой выше и смотрела на меня сверху вниз. Лицо стало красным, потом побледнело, потом пятнами пошло.
– Да я! Тридцать лет! В этом доме!
– Тридцать лет – это не повод ломать чужие вещи, – сказала я.
Подняла пакет. И пошла наверх. Ноги подрагивали на каждой ступеньке, но я не оглянулась. Ни разу.
На площадке третьего этажа остановилась. Привалилась к стене спиной. Сердце стучало в горле. Столько времени я молчала, терпела, записывала в тетрадку и улыбалась. А сейчас сказала при людях – и стало страшно. Не потому, что была неправа. А потому, что знала: она не остановится. Для неё это война, а я – чужая на её территории.
Вечером Вика нарисовала новый рисунок. Дом, деревья, солнышко. На четвёртом этаже – всё то же чёрное окно. Но рядом – маленькая фигурка с поднятой рукой. Вика. Машет.
– Это я ей показываю, что не боюсь, – объяснила дочка.
Я обняла её и подумала: ладно. Ладно, Зинаида Павловна.
Через два дня она пошла к участковому. Написала заявление – «угрозы и оскорбления со стороны жильцов кв. 28». Участковый пришёл ко мне, задал три вопроса, посмотрел квартиру, погладил Вику по голове, выпил чаю. Сказал у двери, негромко:
– Елена, вы нормальная женщина. Она в третий раз за год ко мне приходит. То на соседей снизу, то на собак во дворе. Я обязан отреагировать, но оснований нет. Не переживайте.
Я не переживала. Я записала: обращение номер двенадцать.
Последний листок в лифте появился третьего октября. Пятница, семь утра. Я вела Вику в школу. Зашли в лифт – и я увидела.
Лист А4, приклеенный скотчем к зеркалу. Напечатано на принтере, крупным шрифтом:
«ВНИМАНИЕ ЖИЛЬЦОВ! Квартира 28 – Краснова Л.А. Аморальная мать, не следит за ребёнком. Ребёнок предоставлен сам себе. Шум, грязь, антисанитария. Просим принять меры!»
Моя фамилия. Мои инициалы. И слово «аморальная».
Вика прочитала быстрее меня. Она уже в третьем классе, читает бегло.
– Мам, а что такое «аморальная»?
Я сорвала лист. Руки не дрожали. Удивительно – когда-то, от первой записки, у меня пальцы тряслись. А сейчас – ничего. Тихо внутри. Как выключили звук.
– Это неправда, – сказала я Вике. – Забудь.
Но Вика не забыла. На обратном пути из школы она спросила:
– Мам, а наши соседи это читали?
– Наверное.
– И они поверили?
Я не знала, что ответить. Разве объяснишь девятилетней девочке, что взрослые могут прочитать ложь на стене лифта и просто пожать плечами?
Вечером я достала тетрадку. Девяносто шесть листов – исписано семьдесят три. Даты, факты, суммы. Одиннадцать обращений в управляющую компанию – ноль подтверждённых. Два украденных коврика – тысяча шестьсот рублей. Велосипед – три тысячи сто на покупку и тысяча на ремонт. Тридцать два часа навязанных дежурств. Шесть анонимных объявлений в лифте, последнее – с моей фамилией и словом, которое мой ребёнок попросил объяснить.
Ладони стали горячими. Я прижала их к столу и сидела так, глядя на Викин рисунок, приколотый над монитором. Чёрное окно на четвёртом этаже. Маленькая фигурка, которая машет рукой.
И села за компьютер.
Печатала два часа. Перечитывала, правила, убирала лишнее, добавляла цифры. Проверяла каждую дату по записям. Бухгалтерская точность – ни одной ошибки, ни одного преувеличения. Только факты. Только то, что могу подтвердить.
Утром, в субботу, в шесть тридцать, пока все спали, я спустилась в лифт. Достала из папки три листа А4. Приклеила скотчем к стене – напротив зеркала, на уровне глаз.
«ЗАПИСКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА»
«Уважаемые соседи!
Четыре года я молчала. Пора рассказать правду.
Жилица кв. 32 за это время подала 11 (одиннадцать) жалоб в управляющую компанию на кв. 28. Ни одна не подтвердилась. Ноль.
Из общего коридора пропали два придверных коврика (1 600 руб.). Детский велосипед моей дочери был выброшен в мусорный бак и сломан (ущерб 4 100 руб.). Свидетель – мой ребёнок, 9 лет.
Без решения общего собрания было введено обязательное «дежурство по лестнице» – 4 месяца подряд, каждую субботу по 2 часа. При том что в квитанции мы оплачиваем уборку – 1 100 руб./мес.
Жилица кв. 32 не является председателем ТСЖ уже три года, но продолжает действовать от имени «всех жильцов».
3 октября в этом лифте была размещена листовка, в которой я названа «аморальной матерью» – с указанием моей фамилии и номера квартиры.
Итого за 4 года: имущественный ущерб – 5 700 руб., 32 часа навязанных дежурств, 11 ложных жалоб, публичные оскорбления при соседях.
Все факты с датами и подтверждающими документами готова предоставить.
Краснова Л.А., кв. 28»
Я перечитала трижды. Каждая цифра проверена. Потом вышла из лифта, поднялась на третий этаж и закрыла за собой дверь.
Стояла в коридоре, привалившись спиной к косяку. Тихо. Вика ещё спала. За стеной что-то тикало – то ли часы, то ли кран на кухне. Я посмотрела на свои руки. Ровные. Спокойные. Такие бывают, когда закрываешь годовой баланс и все строки сошлись.
Потом заварила чай. Достала из холодильника масло и хлеб. Намазала бутерброд. Съела, стоя у окна, глядя на двор. Октябрьское утро, серое и тихое. Через полчаса проснётся Вика. Будет мультики смотреть, потом рисовать. Обычная суббота. Только не совсем.
К девяти утра дом проснулся. Я слышала, как хлопали двери, как гудел лифт, как кто-то топал по лестнице. Телефон молчал. Никто не звонил. Никто не стучал в дверь. И это молчание было громче любого крика.
К обеду позвонила мама из Липецка. Долго слушала мой рассказ. Потом тихо сказала:
– Лен, а тебе не кажется, что ты опустилась до её уровня?
Я стояла с трубкой и молчала. Может быть. А может быть, столько лет молчания – это и было ошибкой.
Зинаида Павловна позвонила в мою дверь в три часа дня. Я открыла. Она стояла на пороге – без халата, в обычном платье, тёмно-сером. Без очков. Лицо бледное, губы сжаты в нитку.
– Сними это, – сказала она.
– Нет.
– Я в суд подам.
– Подавайте. У меня семьдесят три страницы с датами. И уведомления из управляющей компании по каждому вашему обращению.
Она открыла рот. Закрыла. Постояла секунду – и я впервые увидела в её глазах не злость, а растерянность. Потом развернулась и ушла наверх.
Дверь на четвёртом этаже хлопнула так, что у нас на кухне звякнула чашка.
Прошло два месяца. Объявления в лифте больше не появляются – ни от неё, ни от меня. Свои листы я сняла через три дня, когда весь дом уже прочитал.
Зинаида Павловна со мной не здоровается. Если мы сталкиваемся на лестнице, она отворачивается к стене и ждёт, пока я пройду. Артём с первого этажа пожал мне руку на следующий день. Нина Сергеевна сказала, что я «смелая женщина». А Валентина с пятого перестала со мной разговаривать – они с Зинаидой Павловной, оказывается, давние подруги. Ходят друг к другу на чай уже лет пятнадцать.
Участковый больше не приходил. Жалоб не было. Коврик у двери лежит уже месяц – никто не трогает.
Вика нарисовала новый дом. Без чёрного окна. Все окна жёлтые, с занавесками. Но фигурка на четвёртом этаже исчезла. Зинаиды Павловны на рисунке больше нет – будто стёрли ластиком.
Мама звонит раз в неделю. Каждый раз спрашивает: «Лен, ну ты же понимаешь, что так не делают?» Я понимаю. И не понимаю одновременно.
Тетрадка лежит в ящике. Семьдесят три исписанные страницы. Я не открывала её с того утра и, наверное, не открою.
Но вопрос остался.
Я перегнула тогда – с листком в лифте? Или после всего, что было, я имела право ответить тем же оружием? А вы бы как поступили на моём месте?