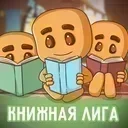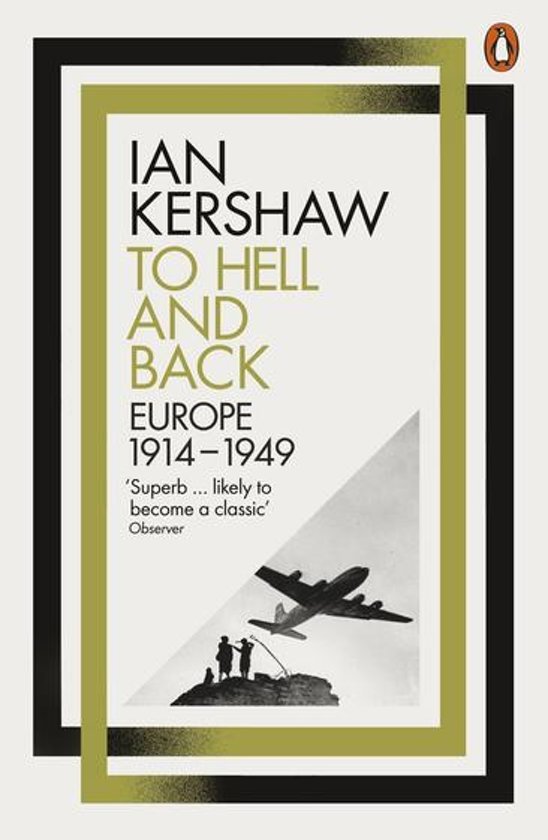В ад и обратно (2)
Продолжаем знакомиться с книгой Яна Кершоу "В ад и обратно".
Ссылка на предыдущую часть (предвоенная ситуация начала XX века).
Увы, ожидания тех, кто шёл на войну, что они встретят Рождество в кругу семьи, оказались иллюзией. Несмотря на внедрение массовых технологий в военное дело ( с такими новшествами, как тяжёлая артиллерия, динамит, пулемёты, миномёты, огнемёты, гранаты и отравляющие вещества), что выразилось в огромном количестве жертв, военные действия затянулись на годы. Немцы не смогли достичь молниеносной победы на Западном фронте, и война приобрела окопный характер. На Восточном у них дела обстояли получше, они смогли занять российскую часть Польши. Зато австрияки терпели на этом фронте чаще неудачи - при одном только Брусиловском прорыве они потеряли 750 тысяч солдат.
В войну вступили новые участники, например, Турция, а позднее - Италия с Румынией, надеявшиеся поживиться за счёт побеждённой Австро-Венгрии. С Россией у турков не очень вышло, но союзный десант в районе Дарданелл они сбросили в море. На фоне войны обострились национальные противоречия в турецком тылу. Армяне подняли восстание, надеясь (тщетно) на скорое наступление российских войск. Тогда турки затеяли переселение полутора миллионов в пустынные районы Сирии, и на этом фоне была развязана резня с количеством жертв до миллиона. В битве на Марне, под Верденом, Соммой счёт жертв (на этот раз среди военных) тоже был на миллионы. Под одной только Соммой британцы с французами потеряли миллион, продвинувшись на 10-20 километров. Зайдя в тупик на Западном фронте, немцы попытались ослабить морскую блокаду действиями своих подводных лодок, чем вывели из себя США, которые вступили в войну в 1917 году. После этого даже выход из войны России после двух революций, явившихся итогом невиданных военных потерь и лишений в тылу, не спас Центральные державы от поражения. Быстро победив Сербию, Румынию и решительно отбросив (на время) Италию на востоке, они вынуждены были 11 ноября 1918 года подписать унизительное Компьенское перемирие, столетие которого будет отмечаться через несколько дней.
Война заставила людей по-новому взглянуть на свою жизнь. Постоянное зрелище смерти на фронте очерствило людей, и к ней просто привыкли. Воюющие в каком-то смысле превращались в животных, с полным отвращением к врагу и отношением к убийству как нормальному каждодневному занятию, не вызывающему отрицательных эмоций. Распространение оружия, которое позволяло отстранённое убийство на расстоянии, когда врага порой не видишь в лицо и не колешь штыком (особенно на Западном фронте) облегчало это. Но всё же радости это не приносило, хотя были и те, кто получал от фронтовой службы удовольствие, а также видел в войне позитивный процесс. Один немецкий солдат (угадайте, кто?) написал в своём письме родным в начале 1915 года, что жертвы будут оправданы, если они сделают страну "чище и отмоют от иностранщины". Но самым распространённым отношением к войне стали безразличие и апатия. В тылу тяжесть непосильного труда несли, в основном, женщины. Разумеется, жизнь была не сахар, с холодом и голодом. О том, что творится с любимыми на фронте, английские гражданские смогли получить представление из первой своего рода официальной кинохроники "Битва на Сомме":
Зрители этого фильма падали в обморок от ужаса. Стало ясно, что население не готово для знакомства со столь суровой реальностью. Неудивительно, что фронтовики, попав снова домой, нередко наталкивались на отчуждение даже со стороны близких.
На Восточном фронте (и в тылу тоже) мораль была не на столь высоком уровне, как на Западном, где с азартом дрались почти до самого конца. Ян обосновывает это тем, что лояльность легче поддерживать при политической системе, при которой более высоко участие населения в управлении страной, сразу оговариваясь, однако, что важным условием является и обеспечение оружием, боеприпасами и людьми. А на востоке легитимность самой войны стояла под вопросом, потому и массовое дезертирство началось уже в 1916 году.
Увы, не могу не согласиться с автором по части позитивного влияния демократического правления на моральный климат. Тезис Кершоу легко опровергается опытом следующей, Второй мировой войны, где, например, демократическая Франция была легко опрокинута тоталитарной Германией. Лучшее средство для поддержания морального климата в частях на высоком уровен - это военные победы, а где их нет - там и появляются проблемы. Когда Ян пишет, что французам было легче драться, потому что они дрались за Родину, хочется улыбнуться - ну да, немцы воевали за кого-то другого, не иначе.
Война явилась проверкой пригодности государственной машины. Во всех странах пришлось ставить экономику на военные рельсы, в том числе мобилизовывать труд и капитал. Англия и Франция занимали на войну у Штатов, Австро-Венгрия - у Германии. А немцам пришлось занимать в основном у собственных граждан. В конце концов многим пришлось тупо печатать деньги (керенки помним?). Лояльность рабочего класса на Западе покупалась ростом зарплат и расширением прав.
В России правящая верхушка не отличалась такой гибкостью, полагаясь, в основном на репрессии и принуждение. В результате Петроград в зиму 1916-17 годов уже голодал (крестьяне не желали задёшево отдавать провиант, на котором ещё потом наживались спекулянты), а части на фронте были на грани разложения. Расстрелы демонстраций рабочих не помогли царскому правительству, в том числе потому, что на сторону рабочих встали солдаты и матросы. Самодержавие пало. Но, как мы знаем, с продолжением войны проблемы не ушли, а только усугубились (от себя замечу, что выборная демократия в войсках вряд ли улучшила боеготовность), и в октябре власть снова поменялась, попав в руки тех, кто ещё год назад не помышлял о ней. Большевики, с их утопическими идеалами общества всеобщего равенства без эксплуатации человека человеком, нашли путь к сердцу россиян не этими идеалами, но главным образом обещанием фабрик - рабочим, земли - крестьянам, а мира - народам. Октябрьская революция с целью построения государства и общества нового типа явилась грандиозным событием мирового масштаба, что сразу стало ясно современникам.
Глядя на Россию, теперь уже в других странах стали винить в военных неудачах систему государственного управления. С последними залпами войны нашли свой конец германская и австро-венгерские монархии, причём с уходом императора на куски развалилась сама Австро-Венгрия как государство. Нашла свой конец и Высокая Порта, но туркам пришлось претерпеть ещё много родовых мук при появлении нового суверенного государства.
В результате гигантского кровопролития с восьмизначным числом жертв (самое обидное по словам Яна - что европейцы так и не смогли понять тогда, во имя чего были принесены такие жертвы) Европа оказалась не только перед грудой развалин, но и с посеянными семенами будущих конфликтов. Кершоу видит в этом вину как Соединённых Штатов, не захотевших "убрать беспорядок", а также главным образом этнические разногласия и классовые конфликты Восточной Европы, отчётливо проступившие в ходе Первой мировой. Уже тогда на евреев охотно показывали пальцем в поисках виноватых в военных неудачах. Уже тогда были массовые погромы и расправы. Ну и Великая Октябрьская тоже подложила дров в огонь. Силы реакции на время затаились, уступив неудержимому напору левых, но это была лишь пауза для того, чтобы выиграть время. И уже через пару лет в казалось бы более-менее благополучной стране-победителе - Италии - дело фашизма дало первые всходы.
Вот такие дела. Виновата оказывается Восточная Европа с Протоколами Сионских мудрецов и большевиками. Ну а английский, французский, немецкий и прочий мировой капитал с его переделом рынков и жаждой прибылей как бы ни при чём оказался. Жаль, что несмотря на здравые мысли и рассуждения в ходе повествования, Ян в конце концов остаётся со столь близоруким взглядом. Войну ещё современники не зря назвали Империалистической. Революция в России помогла раскрыть на это глазам миллионам современников. В завершение я хочу процитировать Владимира Ильича, слова которого как нельзя лучше подходят в качестве эпиграфа.