
Баллада о Дракуле
2 поста

2 поста

1 пост

1 пост
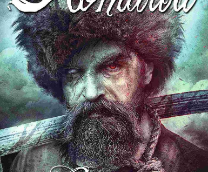
2 поста

2 поста
В один из тех дней 1556 года, когда солнце щедро заливало светом поля Артига, деревушки в графстве Фуа, что в предгорьях Пиренеев, местный крестьянин, возвращаясь с поля, столкнулся с путником. Лицо незнакомца показалось ему смутно знакомым, напомнив Мартена Герра, зажиточного односельчанина, покинувшего родные края лет восемь назад после досадной ссоры с отцом из-за какой-то мелочи – то ли украденного зерна, то ли невозвращенного долга. С тех пор о Мартене не было ни слуху ни духу.
«Уж не ты ли будешь Мартен Герр, муж Бертраны де Рольс?» – полюбопытствовал крестьянин. Путник, помедлив мгновение, словно выныривая из глубоких раздумий, утвердительно кивнул. Новость о возвращении блудного сына мигом облетела Артига.
Прибыв в деревню, «новый» Мартен с охотой рассказывал о восьми годах, проведенных в скитаниях и приключениях, о службе в королевских войсках и о твердом решении наконец-то остепениться и мирно зажить с женой и сыном Санкси. Мальчика, родившегося в 1548 году, аккурат в год исчезновения отца, Мартен, по сути, и не видел. Бертрана де Рольс и Мартен Герр поженились совсем юными, и первенец в их семье появился далеко не сразу, что в те времена считалось дурным знаком и поводом для пересудов. Едва Санкси появился на свет, как его отец, молодой и горячий, решил попытать счастья на чужбине, оставив жену и крохотного сына.
Бертрана, измученная годами одиночества и неопределенности, не скрывала своей радости. Родители тщетно пытались выдать ее замуж снова, но она упорно хранила верность пропавшему супругу, надеясь на его возвращение. И вот, ее надежды сбылись. Семейная жизнь быстро наладилась, и вскоре у пары родились две дочери, наполнив дом детским смехом.
Однако возвращение «блудного сына» пришлось по вкусу далеко не всем в Артига, и уж точно не дяде Мартена, Пьеру Герру. Отец Мартена, Санкси Герр-старший, скончался за время отсутствия сына. Пьер, его родной брат, взял на себя управление имуществом племянника, не забывая при этом и о собственных интересах. Появление «воскресшего» Мартена, требующего не только возврата своих земель и активов, но и подробного отчета о дядином управлении, стало для Пьера Герра крайне неприятным сюрпризом. Он-то уже, поди, считал себя полноправным хозяином.
Дядя, человек крутого нрава и нечистый на руку, затаил злобу. Он не собирался так просто расставаться с нажитым и начал открытую войну против племянника, обвинив его в самозванстве. Пьер громогласно заявлял, что этот человек – обманщик, присвоивший имя Мартена Герра, дабы завладеть его состоянием и уютным семейным очагом. Бертрана горячо защищала мужа, утверждая, что узнала его, несмотря на годы разлуки. Семья Герр, как и вся деревня Артига, раскололась на два враждующих лагеря. Даже родные сестры Мартена, после некоторых колебаний, признали в пришельце своего брата, вспомнив детские приметы и привычки.
Ситуацию усугубляло и то, что за время отсутствия Мартена умер и его тесть. Вдова, мать Бертраны, недолго горюя, вышла замуж за того самого Пьера Герра. Теперь эта новоиспеченная пара оказывала на Бертрану колоссальное давление, требуя, чтобы она отреклась от «мужа». Они и прежде, еще до исчезновения Мартена, нашептывали молодой женщине, что ее брак неудачен, утверждая, будто Мартен «связан» колдовством и оттого бесплоден – до тех пор, пока рождение маленького Санкси не опровергло эти злые наветы.
Пьер Герр, одержимый идеей избавиться от незваного гостя, пускал в ход любые средства. Он распространял слухи, что подрастающий Санкси совершенно не похож на своего «отца». Упрямый дядя повсюду рассказывал, что настоящий Мартен в юности обожал фехтование, а этот, которого Бертрана признала своим мужем, не проявляет к этому искусству ни малейшего интереса. По деревне поползли даже более зловещие сплетни: будто бы Пьер и его новая жена, мать Бертраны, пытались организовать убийство «самозванца», чье возвращение нарушило их спокойное и сытое существование.
Масла в огонь подлил некий путешественник, утверждавший, что хорошо знал Мартена Герра и что тот потерял ногу в битве при Сен-Кантене. Было ли появление этого свидетеля случайностью, или же это Пьер Герр проявил недюжинную смекалку, разыскав человека, чьи показания могли подтвердить его правоту? Загадка, покрытая пылью веков.
Вскоре объявился еще один «осведомленный» человек, заявивший, что прекрасно знает этого «вернувшегося» Мартена Герра. По его словам, настоящее имя пришельца – Арно дю Тиль по прозвищу Пансет (что на гасконском диалекте означало «брюшко»), уроженец деревни Сажас в Гаскони. Этот свидетель добавил, что Арно некоторое время проживал в соседней с Артига деревне и слыл хитрецом и пройдохой, замешанным в сомнительных делишках. Казалось, Пьер Герр одержал верх. «Мартена», а точнее Арно, бросили в тюрьму.
Начался судебный процесс в городе Рьё. Согласно знаменитому Ордонансу Виллер-Котре, изданному королем Франциском I в 1539 году, обвиняемый должен был защищать себя сам, причем на своем родном языке. Данный указ, среди прочего, предписывал обязательное использование французского языка во всех официальных документах и судопроизводстве, имея целью унифицировать юридическую практику в королевстве. Однако в XVI веке Франция была еще далека от языкового единообразия.
Суд заслушал несколько сотен свидетелей. Сегодня трудно представить всю сложность и запутанность судебных заседаний той эпохи, осложнявшихся из-за языкового многообразия. Обвиняемые, свидетели, судьи – все говорили на разных диалектах и наречиях.
Когда дело Мартена Герра дошло до Парламента Тулузы, высшей судебной инстанции в регионе, пришлось учитывать, что семья Герр имела баскские корни. Они переселились в графство Фуа из Страны Басков в 1527 году (тогда их фамилия звучала как Дагерр). Мартену в ту пору было три или четыре года, и он, несомненно, знал основы баскского языка, прежде чем перейти на широко распространенный в регионе окситанский. Арно же, выдававший себя за Мартена, был родом из Гаскони и говорил на гасконском диалекте окситанского языка, который, однако, имел свои фонетические и лексические особенности. Можно лишь догадываться, насколько это переплетение языков и диалектов затрудняло разбирательство, превращая его порой в настоящее вавилонское столпотворение.
Некоторые свидетели давали показания, которые можно было истолковать в пользу «Мартена»/Арно, но большинство склонялось к версии об обмане. Чувствуя, что дело пахнет жареным и что ему грозит суровое наказание, Арно не пал духом и решил подать апелляцию в Парламент Тулузы. Это была его последняя надежда.
В те времена крестьяне редко доходили до столь высоких инстанций, но Арно, видимо, был человеком не робкого десятка и обладал незаурядным умом, раз уж сумел так долго водить за нос целую деревню и даже обзавестись семьей под чужим именем. Его уверенность в себе и знание мельчайших подробностей из жизни настоящего Мартена поражали. Он помнил детали детства, соседей, семейные истории – все то, что, казалось бы, мог знать только истинный Мартен Герр. Это обстоятельство сильно смущало судей и заставляло некоторых сомневаться в его виновности.
Новый судебный процесс открылся в Тулузе в апреле 1560 года. Докладчиком по делу был назначен Жан де Кора, известный юрист и член Парламента. С самого начала Кора проникся необъяснимой симпатией к обвиняемому. Он был убежден, что Бертрана де Рольс, даже после стольких лет разлуки, не могла ошибиться и принять в свое супружеское ложе чужого мужчину, интимные особенности которого не были бы ей известны до мельчайших подробностей. В глазах Жана де Кора главным злодеем в этой истории выступал Пьер Герр, которого докладчик считал алчным и беспринципным человеком, стремящимся окончательно ограбить своего племянника.
Кора, человек просвещенный и гуманный для своего времени, был известен своими прогрессивными взглядами и склонностью к кальвинизму, что уже само по себе делало его фигуру заметной и неоднозначной в католической Тулузе. Его юридический трактат по делу Мартена Герра, "Arrêt mémorable du Parlement de Toulouse", опубликованный в 1561 году, стал бестселлером и принес этому необычному случаю долгую славу. В своем труде Кора писал: «Это деяние, в своем роде, величайшее, самое поразительное и удивительное из всех, о каких только можно прочесть в каких-либо Анналах».
Судебные слушания в Тулузе привлекали множество зевак. Среди зрителей, внимавших перипетиям этого необычного дела, был и молодой Мишель де Монтень, будущий великий философ, который позже упомянет этот случай в своих «Опытах» как пример ненадежности человеческих суждений и легкости, с которой люди поддаются обману. Монтень, размышляя о деле, задавался вопросом о природе истины и способности человека ее постичь, особенно когда речь идет о чужой идентичности и глубинах человеческой души.
Процесс близился к завершению, и все указывало на то, что Арно дю Тиля вот-вот оправдают. Жан де Кора уже готовил свою триумфальную речь. Но тут, в самый напряженный момент, когда судьи готовы были огласить вердикт, произошел невероятный, поистине театральный поворот. В зал заседаний, тяжело стуча деревянным протезом, вошел одноногий мужчина. Он заявил, что является настоящим Мартеном Герром.
Солдат рассказал, как был ранен в битве при Сен-Кантене в 1557 году, сражаясь в рядах испанской армии против французов, и поведал о своей полной опасностей жизни наемника. Бертрана, увидев его, упала на колени и, рыдая, стала молить о прощении своего «истинного» мужа. Лже-Мартен, Арно дю Тиль, поняв, что игра проиграна, во всем сознался. Его самообладание, так долго поражавшее судей, оставило его. Маска спала, и перед судом предстал обычный мошенник, пусть и незаурядного таланта.
Арно был немедленно приговорен к смертной казни по семи пунктам обвинения, включая обман, прелюбодеяние и присвоение чужой личности. Виселицу установили прямо перед домом семьи Герр в Артига. Там и закончилось «приключение» вернувшегося Мартена Герра, а точнее, Арно дю Тиля. Последними словами казненного, обращенными к настоящему Мартену, была просьба не обижать Бертрану.
Тело самозванца, по некоторым свидетельствам, было сожжено, как поступали с останками колдунов. Удивительная осведомленность Арно о жизни настоящего Мартена породила слухи о том, что он был связан с нечистой силой. Многие верили, что такое знание мельчайших деталей могло быть внушено ему «фамильяром» – так в те времена называли демона, вселившегося в тело и душу человека. Сам Жан де Кора в своем отчете отмечал: «...он казался более чудовищным и удивительным, чем все остальные». И заключал: «Безусловно, были веские основания полагать, что у этого обвиняемого был некий фамильяр» (другими словами, мелкий бес).
В XVI веке, эпохе бурных политических перемен и непрекращающихся войн, случаи исчезновения людей и подмены личности, вероятно, не были такой уж редкостью. Почему же банальная, на первый взгляд, история Мартена Герра приобрела столь громкую известность, пережила века и до сих пор будоражит воображение историков, писателей и кинематографистов? Каприз истории? Или же это был судебный процесс, разыгранный на фоне острых религиозных полемик и политической напряженности?
Если присмотреться внимательнее, то современников интересовал не столько сам Мартен/Арно, сколько фигура Жана де Кора, докладчика по делу. Жан де Кора склонялся к невиновности Арно, руководствуясь внутренним убеждением, однако у этого влиятельного юриста имелось немало недоброжелателей. В 1560 году правовед находился на пике своей карьеры. Его авторитет был настолько высок, что к нему за консультациями обращались даже итальянские суды, как это было, например, в Ферраре.
Король Генрих II высоко ценил его советы в юридических вопросах и в 1553 году назначил его советником Парламента Тулузы. Овдовев, Жан де Кора женился на Жаклин де Бюсси, принадлежавшей к известной кальвинистской семье. Кора разделял веру своей супруги. Однако его принадлежность к Реформатской церкви вызывала беспокойство у католического большинства, тем более что к 1560 году многие члены Парламента Тулузы и несколько капитулов (городских магистратов) «розового города», как называли Тулузу, также симпатизировали идеям Кальвина.
Харизма и влияние Жана де Кора делали его «опасным» человеком в глазах католиков. А политическая ситуация во Франции в момент процесса Герра была крайне нестабильной. В 1559 году король Генрих II трагически погиб от раны, полученной на рыцарском турнире от копья Габриэля де Монтгомери. Его старший сын, Франциск II, болезненный подросток, находившийся под сильным влиянием своей матери Екатерины Медичи и могущественных герцогов Гизов, ярых католиков, с трудом лавировал между враждующими религиозными фракциями.
В 1560 году король назначил Мишеля де л’Опиталя Великим канцлером Франции. Канцлер был человеком умеренных взглядов, сторонником веротерпимости и компромисса между католиками и протестантами. Мишель де л’Опиталь также объявил о созыве Генеральных штатов (высшего сословно-представительного органа во Франции XIV–XVIII веков). В этой напряженной обстановке победа Жана де Кора на предстоящих выборах в Генеральные штаты казалась весьма вероятной. Для влиятельного юриста-кальвиниста это был шанс получить общенациональную трибуну, возможность идеи своей религиозной доктрины и влиять на государственные решения, что серьезно беспокоило его католических оппонентов. Они опасались усиления протестантской фракции и подрыва своего доминирующего положения, поэтому для его врагов дело Мартена Герра стало удобным поводом, чтобы начать кампанию по его дискредитации.
Очевидно, что некоторые члены тулузского Парламента плели интриги против Кора. Вряд ли случайно однажды Пьеру Герру сообщили, что его племянник Мартен потерял на войне ногу. Можно с большой долей уверенности предположить, что этот «удачный» свидетель появился не из ниоткуда. И уж тем более не случайно одноногий калека так эффектно возник в зале Парламента Тулузы, хотя до этого он ни разу не проявлял желания вернуться к родным.
И на то были веские причины. Этот самый настоящий Мартен Герр, после скверной ссоры со своим отцом Санкси Герром, бежал в Бургос, в Испанию, и поступил на службу к кардиналу Франциско де Мендоса-и-Бобадилья. В 1557 году при осаде Сен-Кантена он сражался в рядах испанцев с такой отвагой, что заслужил награду от самого короля Филиппа II Испанского. С тех пор Мартен Герр жил в госпитале для военных инвалидов, стараясь не привлекать к себе внимания, поскольку воевал на стороне врагов Франции.
Несомненно, настоящий Мартен Герр не желал ничего иного, кроме как быть забытым. Но некий Антуан де Пауло, чей сын был Магистром ордена Святого Иоанна Иерусалимского, разыскал калеку и, пустив в ход какие-то интриги, добился для него королевского прощения за этот явный акт государственной измены.
Получается, появление настоящего Мартена Герра в самый кульминационный момент процесса было, скорее всего, не случайностью, а хорошо срежиссированным ходом в сложной политической игре, направленной против Жана де Кора и растущего влияния протестантов на юге Франции. Это дело стало одним из многих частных примеров глубокого кризиса, охватившего страну, которая стояла на пороге затяжных и кровопролитных религиозных гражданских войн.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там тексты выходят раньше.
Представьте себе картину, знакомую каждому ценителю эпических саг и магических миров: измождённый герой, чьи доспехи несут на себе пыль сотен дорог и свежие отметины от когтей какого-нибудь особо злобного грифона, с трудом переступает порог таверны. Воздух таверны густ от дыма очага, запаха жареного мяса и пролитого эля. Герой, небрежным жестом смахнув со стола чьи-то объедки, с оглушительным стуком, от которого подпрыгивают глиняные кружки и замолкает развесёлая песня менестреля, обрушивает на грубо сколоченную столешницу… что бы вы думали? Ну конечно, увесистый, сияющий даже в полумраке золотой. «Комнату почище, эля покрепче, да поживее, трактирщик, не то познаешь тяжесть моего гнева!» — рычит он, и вот уже суетливый хозяин заведения, согнувшись в три погибели, спешит исполнить волю столь щедрого (и опасного) гостя. Эта сцена, растиражированная в бесчисленных книгах, фильмах и компьютерных играх, стала таким же неотъемлемым атрибутом фэнтези, как огнедышащие драконы, мудрые эльфы с острыми ушами или коварные орки с их вечной тягой к разрушению. Золото – вот универсальный ключ, отмычка ко всем дверям.
В этих причудливых мирах местная финансовая система подкупает своей обезоруживающей простотой и удобством. Зачем, в самом деле, обременять читателя или игрока какими-то там презренными серебряными монетками или, не дай бог, жалкими медяками? Золотой – вот альфа и омега местной экономики, незыблемая константа в уравнении любого приключения. Кружка эля в захудалой корчме, затерянной на самой окраине цивилизованного мира? Один золотой, и ни пенни меньше! Скромный ужин, состоящий из миски сомнительной похлёбки, в которой одиноко плавает сиротливый кусок морковки, да ломоть чёрствого, как сердце сборщика налогов, хлеба? Будьте любезны, отсчитайте ещё один блестящий кругляш. А уж если речь заходит о чём-то более существенном, например, о ночлеге в комнате, где из щелей в стенах не дует пронизывающий до костей зимний ветер и по ночам не шуршат крысы размером с кошку, то тут уж готовьтесь вывернуть карманы и расстаться с десятком-другим таких же золотых. Приобретение же породистого скакуна, чьи ноги быстры, как мысль, и способны умчать вас от любой погони, легко может облегчить ваш кошель на целую тысячу золотых. Герои этих сказаний с поразительной лёгкостью ворочают такими суммами, словно это не драгоценный металл, а пригоршня прошлогодних желудей.
Эта финансовая идиллия, где каждый второй встречный – от уличного мальчишки до седобородого мага – с готовностью разменяет ваш золотой на любую требуемую мелочь, безусловно, является настоящей находкой для авторов. Не нужно ломать голову над обменными курсами различных валют, учитывать инфляцию, вызванную внезапным обнаружением драконьего клада, или задумываться о покупательной способности разных слоёв населения – от нищего крестьянина до могущественного короля. Золото – оно и в выжженных солнцем пустынях Юга, и в ледяных фьордах Севера, и в туманных болотах Забытых Королевств остаётся золотом. Оно ослепительно сияет, оно приятно оттягивает кошель, оно мгновенно и без лишних слов сообщает читателю или игроку о ценности того или иного предмета или услуги. Сундук, доверху набитый сверкающими золотыми монетами, – это зримый, почти осязаемый символ успеха, достойная награда за пройденные испытания и побеждённых чудовищ. Драконье логово, пол которого устлан толстым слоем золота, переливающегося в свете факелов, – это сама квинтэссенция немыслимого богатства, манящая и одновременно смертельно опасная цель для любого уважающего себя авантюриста.
А теперь, оставив на время залитые тёплым светом каминов таверны вымышленных королевств, перенесёмся на пыльные, разбитые дороги и шумные, многолюдные рынки реального европейского Средневековья. Картина, которая предстанет нашему взору, будет разительно, до неузнаваемости, отличаться от привычных фэнтезийных клише. Здесь, в мире, где жизнь для большинства была ежедневной борьбой за выживание, а каждый заработанный грош имел вес и значение, золото отнюдь не являлось повседневным платёжным средством, доступным каждому встречному. Для подавляющего большинства населения – крестьян, гнувших спину на полях от зари до зари, городских ремесленников, корпевших в своих тесных мастерских, мелких торговцев, разносивших свой нехитрый товар, – золотая монета была чем-то из разряда мифов и легенд, предметом роскоши, который они, возможно, никогда в жизни не увидят и уж тем более не подержат в своих загрубевших от работы руках.
Повседневная экономика средневековой Европы, будь то Англия, Франция, итальянские города-государства или даже земли Древней Руси, строилась в первую очередь на серебре и меди, а также их сплавах вроде биллона. Именно эти, куда более скромные металлы звенели в кошельках простолюдинов и знати не самого высокого ранга. Взять, к примеру, Англию XIV века: основой денежной системы служил фунт стерлингов, который, впрочем, чаще был счётной единицей, а не реальной монетой. Фунт делился на 20 шиллингов, а каждый шиллинг – на 12 серебряных пенсов (или пенни). Пенс, в свою очередь, можно было разменять на два полупенни или четыре фартинга (четверть пенса), часто медных. Вот эти-то мелкие серебряные и медные кругляши и были настоящими рабочими лошадками средневековой торговли. За один-два пенса можно было купить галлон (около 4,5 литров) неплохого эля или увесистую буханку хлеба. Простой, но вполне пригодный для пешего воина меч можно было приобрести за шесть пенсов. Если учесть, что неквалифицированный рабочий, трудясь от рассвета до заката, зарабатывал в год от одного до двух фунтов стерлингов (то есть от 240 до 480 пенсов), становится очевидно, что даже такая, казалось бы, скромная сумма, как шесть пенсов, была для него весьма ощутимой – возможно, это был его заработок за несколько дней изнурительного труда.
Кстати, любопытно, откуда взялось само название «фунт стерлингов»? Оно уходит корнями в глубокую старину. Слово «фунт» и впрямь изначально означало меру веса – тройский фунт, а это около 373 граммов, причём высокопробного серебра. Именно такому количеству драгоценного металла и соответствовала первоначальная стоимость одного фунта стерлингов. Что до слова «стерлинг», то оно, вероятнее всего, связано со «стерлинговым пенни» – серебряной монетой, славившейся отменным качеством и неизменным весом ещё со времён нормандского завоевания Англии. Этимологи выдвигают несколько версий: одни видят связь со староанглийским «steorling» (что могло переводиться как «маленькая звезда» или «монетка со звёздочкой» – возможно, из-за характерного изображения на ранних деньгах), другие указывают на «easterling silver» – «серебро с востока», то есть из германских земель, которое привозили ганзейские купцы и которое славилось своей чистотой. Так или иначе, «стерлинг» превратился в синоним надёжного, высококачественного серебра, а «фунт стерлингов» – это, по сути, «фунт веса стерлингового серебра».
Во Франции схожая система была основана на ливре (фунте), который делился на 20 су (или солей), а каждый су – на 12 денье. Турский ливр (livre tournois) стал основной счётной единицей. Своё название «турский» ливр получил потому, что эта денежная система изначально возникла и получила распространение в городе Тур во Франции, а точнее, была связана с аббатством Святого Мартина в Туре. Со временем турский ливр стал доминирующей денежной единицей во всей Франции, вытеснив парижский ливр (livre parisis), который был в ходу ранее. Чеканились серебряные монеты, такие как «грош турский» (gros tournois), и мелкие биллонные или медные денье. Золотые монеты, такие как франк (изначально равный одному ливру) или экю, предназначались для крупных сделок и международной торговли. Годовой доход квалифицированного ремесленника мог составлять несколько десятков ливров, в то время как подёнщик получал лишь несколько су в день. Например, в XIV веке каменщик мог зарабатывать 4-5 су в день, а буханка хлеба стоила около одного денье.
В раздробленной Италии каждый крупный город-государство, такой как Флоренция, Венеция или Генуя, чеканил собственную монету. Широкое хождение имели золотые флорентийские флорины и венецианские дукаты (цехины) – монеты весом около 3,5 грамма чистого золота, ставшие фактически международной валютой для крупных торговых операций. Однако в повседневной жизни использовались серебряные лиры, которые делились на 20 сольдо, а те, в свою очередь, на 12 денаро (или пиччоли – мелких медных монет). Стоимость золотого флорина или дуката могла колебаться от 4 до 7 серебряных лир. За несколько сольдо можно было купить продукты на рынке, а дневной заработок простого рабочего редко превышал одну лиру. Историки отмечают, что в XIV веке во Флоренции за флорин можно было купить около 100 литров вина или оплатить месяц работы неквалифицированного рабочего.
На землях Древней Руси и позже в Московском государстве денежная система имела свои особенности. Изначально в ходу были шкурки ценных пушных зверей (куны – куницы, векши – белки), а также серебряные слитки – гривны (новгородская гривна весила около 204 граммов). Позже стали проникать иностранные монеты – арабские дирхемы и западноевропейские денарии. Со временем начала развиваться собственная чеканка. Появились разные типы серебряных монет, из которых основными стали более тяжёлая новгородская деньга (получившая название «копейка» из-за изображения всадника с копьём) и московская деньга (часто называемая «сабляница» из-за всадника с саблей), которая была примерно вдвое легче. После денежной реформы 1530-х годов копейка стала основной денежной единицей, а московская деньга приравнивалась к половине копейки. Из этих монет складывался счётный рубль (изначально – обрубок гривны), равный 100 копейкам или 200 московским деньгам. В XV-XVI веках за рубль можно было купить, например, рабочую лошадь (2-3 рубля), корову (1-1,5 рубля) или хороший кафтан. Золотые монеты (червонцы) были крайне редки и использовались в основном для княжеских наград или очень крупных международных расчётов.
А теперь давайте на минутку включим воображение и представим нашего типичного фэнтезийного искателя приключений, этого сорвиголову, привыкшего сорить золотом направо и налево, в условиях подлинного средневекового мира. Его похождения, столь блистательные на страницах книг, сразу же приобрели бы совершенно иной, куда более приземлённый и, весьма вероятно, откровенно комичный оттенок. Тот самый эффектный момент, когда он с размаху, едва не проломив стол, бросает на стойку трактира золотой, требуя пива и закуски, превратился бы в сцену из театра абсурда, достойную пера Мольера или Рабле.
Трактирщик, будь он англичанином, французом, итальянцем или русским, скорее всего, пожилой, потрёпанный жизнью мужчина с усталыми глазами и мозолистыми, привыкшими к тяжёлой работе руками, ошарашенно уставился бы на сверкающий на его скромной стойке кругляш. Вместо того чтобы радостно броситься выполнять заказ, он бы с нескрываемым подозрением и даже опаской осмотрел нашего героя с ног до головы. «Сдачи не будет, милсдарь (месье, синьор, боярин)», — пробурчал бы он, растерянно качая головой. И был бы совершенно прав. Откуда у скромного владельца придорожной корчмы, где дневная выручка едва ли набирается на пару шиллингов серебром, несколько французских су или горсть итальянских сольдо, найдётся достаточно мелкой разменной монеты, чтобы дать сдачу с английского золотого нобля, французского экю, флорентийского флорина или венецианского дуката? Это всё равно что пытаться в сельской лавке где-нибудь в глубинке разменять купюру в пять тысяч современных рублей, покупая пакет соли. Хозяин заведения, скорее всего, просто развёл бы руками, а то и вовсе принял бы нашего героя за фальшивомонетчика или сумасшедшего.
Наш герой, привыкший к мгновенному исполнению своих самых скромных желаний (вроде пинты эля), оказался бы в крайне затруднительном, а то и откровенно нелепом, положении. Ему пришлось бы либо, несолоно хлебавши, отказаться от своей затеи и остаться голодным, трезвым и, вероятно, очень злым, либо попытаться найти менялу. А это в глухой деревушке или маленьком городке было бы задачей не из лёгких, сравнимой с поиском иголки в стоге сена. А если бы такой специалист по обмену валют и нашелся, то курс обмена, без сомнения, был бы грабительским, и значительную часть своего драгоценного золотого пришлось бы отдать просто за саму услугу размена. И хорошо ещё, если бы меняла не оказался связан с местными разбойниками.
Предположим, после долгих мытарств наш герой всё же раздобыл немного серебра или даже меди. Теперь ему предстоит освоить сложную науку счёта. Не просто «один золотой за всё, что вижу», а тщательно отсчитывать пенсы, денье, денарии или копейки за каждую мелочь. Полпенса или несколько мелких медных монет за кружку пива (разбавленного водой), ещё несколько монет за миску простой, но сытной похлёбки из чечевицы или гороха, ещё немного за место на соломенном тюфяке в общей спальне, где уже оглушительно храпят и ворочаются ещё с десяток таких же усталых путников, источая ароматы немытых тел. О приватной комнате с настоящим камином, мягкой периной и вышитыми занавесками на окнах, которая в фэнтезийных мирах стоит «всего лишь» каких-то десять золотых, в суровой реальности пришлось бы либо полностью забыть, либо готовиться выложить сумму, сопоставимую со стоимостью небольшого крестьянского дома с приусадебным участком.
А как насчёт снаряжения, без которого немыслим ни один уважающий себя герой? Тот самый «прекрасный породистый жеребец, быстрый как ветер», за который в фэнтези не жалко и тысячи золотых, – это уже даже не смешно, это за гранью всякого правдоподобия. За такие деньги в реальном Средневековье можно было бы купить не просто целую деревню вместе со всеми её жителями, скотом и постройками, но и, пожалуй, снарядить небольшой военный отряд, способный доставить немало хлопот соседнему феодалу. Хорошая боевая лошадь, выносливая и обученная, стоила несколько фунтов стерлингов, несколько десятков ливров или рублей, но никак не тысячи золотых. Даже полный комплект качественных рыцарских доспехов, который действительно был очень дорог и доступен лишь представителям высшей знати, обходился в десятки фунтов, но опять же, не в суммы, сопоставимые с годовым бюджетом небольшого европейского королевства или русского княжества.
Почему же авторы фэнтези, эти искусные ткачи вымышленных миров, с таким завидным упорством продолжают игнорировать экономические реалии и строить свои вселенные на шатком фундаменте из чистого золота? Ответ, вероятно, кроется в хитросплетении нескольких причин, и не последнюю, а возможно, и первую скрипку здесь играет обыкновенная творческая лень или, если выражаться более деликатно, осознанное стремление к максимальному упрощению повествования. Создание правдоподобной, детально проработанной и логически стройной экономической системы – задача не из лёгких, требующая значительных интеллектуальных усилий. Это подразумевает изучение исторических источников, понимание базовых принципов ценообразования, учёт множества социальных, географических и даже климатических факторов. Куда проще объявить золото универсальным мерилом ценности и не забивать ни себе, ни, что важнее, читателю голову скучными, утомительными расчётами и сложными финансовыми схемами.
Представьте себе диалог, построенный на реалистичной средневековой экономике: «Сколько стоит этот чудодейственный эликсир от всех болезней, о мудрейший аптекарь, чья слава гремит по всем семи королевствам?» — «За это чудодейственное снадобье, благородный рыцарь, будьте добры отсчитать три лиры, семь сольди и четыре денаро пиччоли. А коли у вас лишь французские гроши турские, то придётся мне их на вес принять, да поглядеть, не слишком ли они потёрты, и учесть сегодняшний курс серебра к золотому флорину, который, чтоб его, опять скачет из-за этих генуэзских пиратов! И сдача, боюсь, будет лишь в этих мелких медных кварт... то есть, простите, пиччоли, если только у вас не найдётся пары венецианских гроссо для более ровного расчёта, хотя и те нынче не в чести...». Звучит, согласитесь, не так понятно, как короткое и ясное: «Десять золотых, и ни медяка меньше!» Краткость, как известно, сестра таланта, но в данном случае она, скорее, выступает в роли мачехи для исторического правдоподобия. Авторы зачастую идут по пути наименьшего сопротивления, предпочитая не усложнять повествование деталями, которые, по их мнению, могут отвлечь от основного сюжета – героических свершений, спасения мира от очередного вселенского зла, поисков древних артефактов и, конечно же, романтических перипетий.
К тому же, авторы фэнтези избавляют своих героев (и читателей) от головной боли, связанной с обменом валют. В реальном Средневековье путешественник, пересекающий границы, сталкивался с пёстрым калейдоскопом монет: английские пенни, французские ливры, итальянские флорины, русские деньги – каждая со своим весом, пробой и курсом. Англичанину во Франции пришлось бы искать менялу, который за определённую комиссию (ажио) обменял бы его шиллинги на местные турские су и денье. Простой трактирщик или лавочник вряд ли принял бы иностранные деньги, опасаясь подделок или просто не зная их реальной стоимости. Лишь в крупных торговых центрах или на ярмарках известные монеты могли иметь хождение, да и то их часто оценивали по весу металла. Для крупных же сделок купцы предпочитали векселя и кредитные письма, чтобы не таскать с собой мешки с серебром. Представить себе героя, который перед каждым походом в таверну или кузницу лихорадочно ищет меняльную лавку или пытается объяснить трактирщику преимущества своего родного стерлинга перед местным биллоном, – картина, скорее, комичная, нежели эпичная, а потому благополучно опускаемая в большинстве фэнтезийных саг.
Не стоит сбрасывать со счетов и важный элемент эскапизма, изначально присущий жанру фэнтези. Читатели и игроки часто ищут в вымышленных, магических мирах то, чего им так остро не хватает в серой, обыденной и зачастую несправедливой реальности. И возможность легко и быстро разбогатеть, заполучив целые горы золота за убийство очередного злобного монстра или нахождение древнего клада, – это неотъемлемая часть привлекательности и очарования жанра. Это своего рода исполнение заветных желаний, сладкая фантазия о мире, где материальные проблемы решаются просто и стремительно, а несметные богатства доступны каждому, кто достаточно смел, силён, ловок и удачлив. Герой, который после каждого совершённого подвига вынужден кропотливо подсчитывать медяки, торговаться за каждую луковицу на рынке и беспокоиться о том, хватит ли ему денег на починку сапог, может показаться слишком приземлённым, скучным и лишённым того самого романтического флёра, за который мы так любим фэнтези.
В игровой индустрии, где фэнтези является одним из доминирующих жанров, «золотая экономика» часто диктуется и самой механикой игры. Золото – это чрезвычайно удобная и интуитивно понятная единица измерения прогресса персонажа и его вознаграждения за выполненные задания. Оно легко квантифицируется, его можно накапливать в огромных количествах, тратить на улучшения оружия и доспехов, покупку новых заклинаний и редких артефактов. Введение сложной, многоуровневой валютной системы с плавающими обменными курсами, региональными особенностями денежного обращения и необходимостью постоянно конвертировать одни монеты в другие значительно усложнило бы игровой процесс и могло бы отпугнуть казуальных игроков, ищущих в игре отдыха и развлечения, а не симулятора средневекового банкира. Поэтому разработчики игр, как правило, выбирают проверенный, простой и понятный всем «золотой стандарт».
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что далеко не все фэнтезийные миры одинаково легкомысленно и пренебрежительно относятся к вопросам экономики. Существуют произведения, авторы которых (такие как Анджей Сапковский с его «Ведьмаком» или Джордж Мартин с «Песнью Льда и Пламени») стараются создать более реалистичные, сложные и продуманные финансовые системы, где золото действительно является большой редкостью, а герои вынуждены считать каждую монету и часто сталкиваются с банальной нехваткой денег. Такие миры часто воспринимаются читателями как более «взрослые», мрачные и глубокие. Однако мейнстримное, развлекательное фэнтези по-прежнему предпочитает ослепительный и такой манящий блеск легкодоступного золота, позволяя своим героям беззаботно швыряться им в тавернах, покупая кружку пива по цене, за которую в реальном Средневековье можно было бы не только сытно пировать целую неделю, но и, возможно, прикупить молодую коровку. И, возможно, в этой наивной простоте и сказочной щедрости тоже есть своя особая прелесть – ведь фэнтези на то и фэнтези, чтобы уводить нас от серых, предсказуемых будней в удивительный мир, где даже экономика подчиняется не скучным законам спроса и предложения, а волшебным правилам магии и захватывающих приключений, а за углом всегда поджидает сундук с драконьим золотом.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там тексты выходят раньше.
Нам тут втирают красивую сказочку про античные игры, особенно про Олимпию. Мол, собрались благородные мужи, герои как на подбор, соревнуются чисто за идею, за венок из оливы, мир, дружба, жвачка, боги рукоплещут. Ну конечно. Перед стартом, конечно, ритуал: атлет, его папаша, братья, тренер – все топают к статуе Зевса Клятвенного, который стоит там, в булевтерии (здании горсовета), специально для устрашения. И давай клясться: мол, ни-ни, никаких грязных делишек против Игр, всё по-честному, Зевс свидетель. Судьи, элланодики, тоже бубнили клятву: судить честно, взяток не брать, язык за зубами держать, особенно про кандидатов всякое не болтать. В официальных правилах, конечно, всё было строго. Например, одна из надписей, найденных в Олимпии (№ 56), гласит, что атлеты клялись «...что они не совершат ничего дурного против Олимпийских игр; что они точно соблюдали предписания относительно тренировок в течение десяти предшествующих месяцев подряд». Опоздал на регистрацию? Предъяви уважительную причину: «Уважительными причинами считаются болезнь, кораблекрушение или пираты». Да-да, пираты! Видимо, частое явление было. А если причина неуважительная или соврал – штраф или порка розгами. Звучит красиво, спору нет. И статуя Зевса не простая – с молниями в обеих руках, чтоб неповадно было клятву нарушать. Типа, Зевс всё видит и кара небесная неотвратима, шарахнет молнией так, что и мокрого места не останется.
Только вот человеческая натура – штука упрямая. Жажда победы, чтоб всё вокруг восхищались и завидовали, желание набить карманы – всё это частенько перевешивало страх перед молниями Зевса и косыми взглядами соседей. А набить карманы было чем! Победителю – олимпионику – полагался не только венок из дикой оливы (сам по себе бесполезный), но и вполне материальные блага по возвращении домой. Родной полис рассыпался в любезностях: огромные денежные призы (в Афинах, например, Солон установил награду в 500 драхм – целое состояние, на которое можно было безбедно жить год, а то и больше), пожизненное бесплатное питание в пританее (местный аналог элитного клуба и столовой для чиновников), освобождение от налогов и воинской повинности, лучшие места в театре, триумфальный въезд в город через пролом в стене (чтоб показать, что городу с такими героями стены не нужны), и, конечно, статуи! Статуи ставили при жизни, иногда даже несколько. Слава, почёт, деньги, халявная еда – полный комплект. Ради такого куша можно было и рискнуть, попытаться надуть систему. Чего б и нет? Реальность была, мягко говоря, не такой радужной, как её малюют идеалисты. Подкуп, договорняки, запрещённые приёмчики, мухлёж – всё это цвело пышным цветом. Сами правила и драконовские наказания за их нарушение как бы намекают: жульничали часто и с удовольствием. Истории обмана, плевки на спортивные идеалы – этого добра хватало. Атмосфера на играх была такая, что искры летели. Ведь на кону стояла не только личная слава, но и понты родного полиса. Да и не все в Элладе писали кипятком от этих «героев». Тот же Еврипид (V в. до н.э.) в своей сатире «Автолик» не стеснялся в выражениях: «Из тысяч бедствий Эллады нет худшей напасти, чем племя атлетов... В юности они блистают, словно статуи, украшая городские празднества. Но когда приходит горькая старость, они исчезают, подобно изношенной одежде... Набив живот и челюсти, они идут по жизни, рабы своего чрева». Такие вот народные любимцы – бесполезные обжоры, по мнению драматурга. Ну, прямо как футболисты у нас.
Способы урвать победу нечестным путём в древности были разнообразны, как меню в приличном трактире. Фантазии у ребят хватало, и применяли они её с размахом.
Самый ходовой товар – взятка. Зачем надрываться, рисковать здоровьем, если можно просто заплатить? Сунул сопернику звонкую монету, чтоб он не сильно упирался, «случайно» споткнулся на финише или просто изобразил бурную борьбу, но без реального сопротивления – и ты чемпион. Особенно популярно это было в мордобое (кулачный бой, панкратион, борьба), где исход часто решался в одном поединке, и на скачках, где ставки были особенно высоки. Договаривались иногда через посредников, чтоб не светиться. Могли заключить и более хитрую сделку: например, один атлет «сливает» бой другому на этих Играх, а тот ему – на следующих. Этакая круговая порука чемпионов. Суммы крутились немалые, но оно того стоило: выигрыш с лихвой покрывал расходы на «стимулирование» оппонентов. Попадались и такие хитрецы, которые, будучи пойманными за руку, лепетали: мол, я не со зла, просто хотел победить легко, без лишнего напряга, силы поберечь для следующего круга. Верим, верим. Аристотель даже упоминал, что некоторые атлеты перед соревнованиями давали друг другу не только клятву перед лицом Зевса, но и неформальные обещания «не калечить» друг друга, что легко могло перерасти в сговор о неполной отдаче в бою.
Ещё веселее было подмазать судей, этих самых элланодиков. Клятвы клятвами, а денежки не пахнут, и пурпурная мантия карман не тянет. Особенно если атлет из влиятельной семьи или за ним стоит богатый полис, готовый раскошелиться на «подарки» судьям. Прикормленный судья мог закрыть глаза на явные нарушения «своего» парня, засудить его соперника по мелочи (например, за лишний шаг в борьбе или неправильный замах в боксе), несправедливо засчитать очки или просто подтасовать результаты. На скачках – удачную дорожку подсунуть (внутренняя дорожка давала преимущество) или фальстарт «не заметить». В драке – проигнорировать удар ниже пояса, тычок в глаз или слишком долго не останавливать бой, когда один из соперников явно проигрывает и рискует здоровьем. Доказать, что судья взял на лапу, было почти нереально, но слухи и обвинения в предвзятости ходили постоянно. Дыма без огня, как говорится, не бывает. Да и тренеры хороши были. Филострат (III в. н.э.) прямо писал, что некоторые наставники сами толкали подопечных на обман: «Ныне же некоторые из атлетических наставников... поощряют атлетов к этому, полагая, что тот, кто умеет нарушать правила, и есть самый искусный атлет... Они учат нарушать клятвы и презирать богов, деньги ставят выше всего и подменяют гимнастику развратом». Действительно, тренер не только научит бить морду, но и подскажет, как совестью торговать.
Не деньгами едиными. Можно было и просто нагадить сопернику прямо во время состязания, так сказать, проявить «спортивную смекалку». В беге – толкнуть локтем на повороте, подножку подставить в толчее, стартовать на долю секунды раньше команды судьи. В гонках на колесницах – вообще вестерн на максималках. Подрезать на вираже, зажать у барьера, таранить колесницу противника, целясь в колесо или ось – обычное дело. Там грань между «острой тактической борьбой» и желанием отправить конкурента вместе с лошадьми к Аиду была очень тонкой. Финишировать с полным комплектом колёс и лошадей уже было достижением. Бывало, что и колесницы в щепки, и лошади калеки, и сами возницы кости собирали по всему ипподрому. Зато зрелищно! Публика ревела от восторга.
В единоборствах – отдельная песня. Бокс (пигмахия) и панкратион (где можно было почти всё, кроме как кусаться и глаза выдавливать) – это вам не балет в Большом. Запрещённые приёмы? Да пожалуйста! Правила, конечно, были (по яйцам не бить, глаза не трогать, пальцы не ломать – хотя насчёт пальцев в панкратионе были споры), но в пылу схватки всякое случалось. Выдавливание глаз было строго запрещено (кроме Спарты, где нравы были суровее), но «случайно» ткнуть пальцем в глаз сопернику – почему бы и нет? Удары по гениталиям, укусы, захваты за волосы – всё это формально осуждалось, но попробуй докажи, что это было сделано намеренно, а не в пылу борьбы. Ударить после команды «стоп», применить какой-нибудь хитрый удушающий, который вроде как нельзя, или болевой приём на сустав сверх меры – всё шло в ход. Судьи с палками бегали вокруг, пытались порядок навести, лупили нарушителей почём зря, но разве за всем уследишь? Особенно в панкратионе, где бойцы катались по земле, сплетясь в клубок грязи, пота и крови. Ходили слухи и о применении допинга – атлеты жевали особые травы или грибы, пили снадобья для повышения выносливости и агрессии. Прямых доказательств мало, но зная человеческую натуру, можно предположить, что и этим не брезговали.
Ещё один финт ушами – наврать про себя с три короба. Например, взрослый лоб, которому уже под тридцать, мог прикинуться безусым юношей лет семнадцати-восемнадцати, чтобы соревноваться с салабонами в юношеской категории – там шансов на победу явно побольше. Или наоборот, шустрый юнец, чувствуя силушку богатырскую, заявлялся во взрослую категорию, если там конкуренция послабее или можно было избежать встречи с особо опасным противником на ранней стадии. Элланодики, конечно, должны были возраст проверять, но как? Свидетельств о рождении не было, паспортов тоже. Ориентировались на внешний вид, показания свидетелей (которых тоже можно было подкупить). На глазок определяли, плюс-минус лапоть.
Со статусом тоже мухлевали. Изначально к Играм допускались только чистокровные эллины, свободные граждане, не замечённые в преступлениях. Но со временем правила стали мягче, особенно после римского завоевания. Однако и тут были лазейки. Можно было подделать свою родословную, чтобы доказать «эллинское» происхождение (как, по слухам, сделал македонский царь Александр I, чтобы его допустили к Играм, хотя многие греки считали македонцев варварами). Изначально игры вроде как для любителей были – пришёл, победил ради славы, ушёл. Но со временем спорт стал профессией. Атлеты только и делали, что тренировались, а родной полис им за это платил. Грань между «любителем» и «профи» стёрлась. Некоторые пытались свой профессионализм скрыть или выступали за другой город, который больше платил. Это считалось не по понятиям, но кого это останавливало, если на кону стояли большие деньги и слава?
Ну и для совсем отчаянных или особо суеверных – колдовство. Верили же во всякую чертовщину! Археологи находят сотни свинцовых табличек – «таблички проклятий» (defixiones). На них корявым почерком царапали имя соперника (иногда и его лошадей, если речь о скачках) и обращались к богам подземного мира – Аиду, Персефоне, Гекате – с просьбой наслать на конкурента всяческие напасти: понос, хромоту, лихорадку, импотенцию, слепоту, немоту, слабоумие, или просто чтоб он сдох перед стартом или прямо на арене. Фантазия у проклинающих была богатая. Эти таблички сгибали, протыкали гвоздём (символическое «пригвождение» жертвы) и закапывали где-нибудь рядом с ареной, ипподромом, местом тренировок конкурента или даже в могилы, чтобы усилить связь с подземным миром. Работало это или нет – вопрос десятый, но сам факт массового использования таких методов показывает: ради победы готовы были не только локтями толкаться, но и к тёмным силам взывать.
Но не всё коту масленица. Система наказаний за мухлёж у греков была, и работала она (иногда) показательно и жестоко. Цель – не только наказать жулика, но и чтоб другим неповадно было. И чтоб казна Элиды пополнялась.
Главные поборники честности – элланодики. Этих ребят выбирали по жребию из местных, элидских аристократов, задолго до игр, примерно за 10 месяцев. Учили их правилам, традициям, чтоб знали, кого и за что карать. Целый месяц они проводили в специальном здании в Олимпии, элланодикеоне, где их натаскивали опытные «законохранители» (номофилаки). На играх они были цари и боги: проверяли атлетов (родословная чистая? не судим? возраст подходит? грек ли?), кидали жребий, следили за тренировками атлетов в последний месяц перед играми (он проходил тут же, в Элиде), судили сами соревнования и выносили приговоры. Решение элланодика – закон, обжаловать его можно было только в Олимпийском Совете, но это случалось редко и почти всегда безуспешно. Ходили они в пурпурных мантиях – цвет власти и царственности, сидели на почётных местах напротив финишной линии, авторитет – непререкаемый. Могли штраф влепить, розгами отходить прямо на месте преступления или вообще дисквалифицировать к чёртовой матери.
Чаще всего наказывали рублём, то есть драхмой. Штрафы были конские, могли разорить не только атлета, но и его семью. Наказывали не только за доказанный подкуп или сговор, но и за трусость, нелепое опоздание на игры или откровенное пренебрежение тренировочным режимом в Элиде.
Но самое смачное – это Заны. На деньги, содранные с мошенников, ставили бронзовые статуи Зевса. Не одну-две, а целые ряды! Стояли они у подножия холма Кроноса, вдоль дороги, по которой атлеты шли из Гимнасия к стадиону, прямо перед входом на арену. Каждый участник, каждый зритель проходил мимо них. На постаментах из элевсинского мрамора – вся подноготная: имя жулика, имя его отца, откуда он, в чём соревновался, как именно накосячил, кого подкупил или кто его подкупил. Вечный памятник позору! И не только ему – всему его роду и городу. Представляете, идёте на стадион, а там – статуя с надписью. Как нудно поучал Павсаний, описывая эти статуи: «Надписи на них... имеют целью показать, что олимпийскую победу следует приобретать не деньгами, а быстротой ног и силой тела». Другая надпись, по его же словам, гласила, что статуя поставлена «в честь божества, из благочестия элейцев и для устрашения атлетов, нарушающих правила». Сильный ход, ничего не скажешь. Доска позора, отлитая в бронзе и выставленная на всеобщее обозрение на века.
Кроме штрафов, могли и просто выпороть. Розгами или палками. Прямо на арене, на глазах у ревущей толпы. Больно и унизительно. Особенно часто это практиковалось в драках и гонках – там страсти кипели, и нужно было быстро остудить пыл нарушителя. Судьи имели при себе помощников с этими самыми розгами (мастигофоры, рабдухи), готовых в любой момент исполнить приговор.
Ну а самое страшное наказание, помимо финансового краха и вечного позора Зан, – дисквалификация. Могли отстранить от текущих игр, а могли и пожизненный бан влепить на участие в Олимпийских играх. Это был конец спортивной карьеры, крест на репутации. Некоторые после такого даже домой боялись возвращаться – засмеют ведь или даже камнями закидают. Город мог лишить такого «героя» всех привилегий и даже изгнать.
История сохранила немало имён и историй, которые показывают, что жульничество было не досадным исключением, а вполне себе обыденностью.
Эвпол из Фессалии (388 г. до н.э.) вошёл в историю как «спонсор» первых Зан. Этот кулачный боец решил не напрягаться и просто купил победу, договорившись аж с тремя соперниками. Павсаний дотошно перечисляет их: «Агетор из Аркадии, Пританид из Кизика и Формион из Галикарнаса, победитель предыдущей Олимпиады». Обман вскрылся (как именно, история умалчивает, но, видимо, кто-то проболтался или сумма была слишком большой). Элланодики выписали такой штраф, что на полученные деньги было воздвигнуто шесть статуй Зевса (почему шесть на четверых – история умалчивает, но факт). Суровый урок, чтоб другим неповадно было.
Пятиборец Каллипп из Афин (332 г. до н.э.) тоже решил, что деньги решают всё, и подкупил своих конкурентов. Но снова что-то пошло не так, и афёра раскрылась. Элланодики влепили огромный штраф. Афиняне, гордые своим земляком (или просто не желая платить), возмутились и отказались вносить деньги. Отправили даже знаменитого оратора Гиперида в Олимпию – уговорить судей смягчить наказание или отменить его вовсе. Элланодики, однако, проявили принципиальность (или просто не хотели создавать прецедент) и остались непреклонны. Тогда Афины пошли на шантаж: заявили, что будут бойкотировать Игры. Патовая ситуация. Разруливать пришлось Дельфийскому оракулу. Пифия заявила афинянам, что не даст им никаких предсказаний (а без одобрения богов тогда ни одно серьёзное дело не начинали), пока те не уплатят штраф элидянам. Пришлось Афинам раскошелиться. На эти деньги поставили ещё шесть Зан, продолжив «аллею позора». Такой вот спортивный скандал чуть не перерос в серьёзный религиозно-политический конфликт.
Сами судьи, элланодики, тоже не были святыми. Павсаний упоминает случай (на 102-х Играх, 372 г. до н.э.), когда двое из трёх элланодиков присудили победу в пентатлоне Эврифлему из Элиды, хотя зрители и третий судья считали победителем его соперника, Леонта из Мессении. Разразился скандал. В итоге Совет Олимпии (высшая инстанция) оштрафовал пристрастных судей, но решение о победителе, как ни странно, оставил в силе – видимо, чтоб не подрывать авторитет судейства в целом. Был и другой случай, упомянутый Павсанием позже: судья Дамон сам попался на взятке – другой судья, Томбий, его сдал. Дамона оштрафовали. Похоже, система контроля пыталась работать, но не всегда. Рука руку моет, как известно.
Бегун на длинные дистанции (долихос) Сотад Критский (IV в. до н.э.) прославился не только скоростью, но и беспринципностью. Сначала выиграл в Олимпии как представитель Крита. А на следующих Играх (в 384 г. до н.э.) взял щедрое вознаграждение у богатого Эфеса и объявил себя эфесцем. Эфесцы ликовали, а вот критяне пришли в ярость. Они не только изгнали Сотада с родного острова навечно, но и уничтожили его статуи. Наглядный пример «трансферов» по-древнегречески – со скандалом и битьём статуй.
Во время Пелопоннесской войны спартанцам запретили участвовать в Олимпийских играх (420 г. до н.э.). Но богатый и тщеславный спартанец Лихас очень хотел выставить свою колесницу. Он записал её как принадлежащую Фиванскому государству (Фивы были союзниками Спарты). Колесница победила, и формально победа была присуждена Фивам, так как именно они числились владельцами упряжки. На радостях Лихас не сдержался: выбежал на арену и собственноручно увенчал своего возницу венком, тем самым раскрыв себя и свой обман. Разразился скандал. Элланодики приказали высечь Лихаса розгами прямо на стадионе за нарушение правил и попытку присвоить чужую славу. Победу у Фив не отняли, но спартанец был жестоко опозорен. Этот случай – просто хрестоматийный пример, как политика и спорт сплетались в один вонючий клубок.
Филон из Керкиры (VI в. до н.э.) стал ещё одним примером «трансфера». Выиграв забег для своего родного острова Керкира, он затем «продался» Кротону, богатому полису в Южной Италии, известному своими атлетами. Кротонцы поставили ему статую в Олимпии, а вот на Керкире его, вероятно, предали анафеме.
Египетский кулачный боец Сарапаммон из Оксиринха (I в. н.э.) вошёл в историю не победами, а трусостью. Накануне поединка он просто сбежал со стадиона, испугавшись своего грозного противника. Элланодики такой «манёвр» не оценили – штраф и дисквалификация за малодушие. Как отмечает Павсаний, Сарапион (вероятно, это он же, имя могло исказиться) был «единственным из всех египтян... кто был оштрафован за трусость».
Ещё один египтянин-боксёр, Аполлоний Рамант (I в. н.э.), тоже отличился. Опоздал к началу соревнований. Наплёл судьям, что его корабль задержали неблагоприятные ветры в море. Однако быстро выяснилось, что Аполлоний нигде не задерживался, а просто ездил по другим, менее престижным играм в Ионии, зарабатывая лёгкие деньги и призы. Элланодики были в ярости от такой наглости. Его не только оштрафовали, но и отдали победу без боя его сопернику Гераклиду, который честно ждал своего часа.
И таких историй – вагон и маленькая тележка. Вся эта «священная» Олимпия, как и другие крупные игры, была пропитана обычными человеческими страстями: жадностью, завистью, тщеславием, страхом, подлостью. Всё как у людей, только на виду у всей Эллады.
Не надо думать, что спорт был чем-то отдельным от жизни. Античные игры, особенно главные – Олимпийские, Пифийские, Истмийские, Немейские – были крутой политической тусовкой и ярмаркой тщеславия. Победа атлета – это не только его личный триумф, но и +100 к престижу родного полиса. Города хвастались чемпионами, использовали их как живую рекламу: «Смотрите, какие у нас орлы! Мы круче всех!». На стенах сокровищниц в Олимпии полисы выставляли свои самые ценные трофеи и посвящения богам, соревнуясь в богатстве и влиянии.
Эта политическая возня часто и толкала на мошенничество. Правители или богатеи могли прямо сказать атлету: «Победишь – озолочу, будешь героем. Проиграешь – пеняй на себя, лузер никому не нужен». Могли и денег отвалить на подкуп судей или соперников – это ж инвестиция в имидж города! Некоторые полисы, особенно богатые колонии на Сицилии и в Южной Италии, тратили безумные деньги на подготовку атлетов, их содержание и «стимулирование» побед, иногда влезая в долги. А уж если полисы между собой враждовали (а воевали они постоянно), то победа над атлетом из вражеского лагеря ценилась вдвойне. Тут уж все средства хороши. Случай с тем же Лихасом из Спарты – тому нагляднейшее подтверждение.
Бывало, что города переманивали чемпионов друг у друга, как современных футболистов. Обещали гражданство, дом, рабов, денег мешок. Начинались скандалы, взаимные обвинения в нечестной игре и нарушении традиций. Да и судьи, хоть и клялись быть объективными, наверняка имели свои политические симпатии. Трудно быть беспристрастным, когда на кону интересы твоих друзей из Афин или Спарты, или когда на тебя давит могущественный тиран из Сиракуз.
А когда пришли римляне, стало совсем весело, хотя и грустно для самого духа Игр. Римские императоры и аристократы тоже полезли за олимпийской славой. Император Нерон – это вообще анекдот. В 67 году н.э. он устроил себе грандиозное турне по Греции, приняв участие во всех четырёх панэллинских играх (которые специально для него сдвинули по времени). Он соревновался в гонках на колесницах (иногда запряжённых аж десятью лошадьми!), пении, игре на кифаре и декламации. И, разумеется, везде побеждал! Светоний, не моргнув глазом, описывает его «триумф» в Олимпии: «На Олимпийских играх он выступил и в состязании колесниц-десятериков... Выброшенный из колесницы и поднятый, он продолжал состязание, но не смог его закончить и сошёл с дистанции до срока. Тем не менее, он получил венок». Мало того, чтобы никто не затмил его славу, Нерон, по словам того же Светония, приказал «низвергнуть и стащить крюками в отхожие места статуи и изображения всех прежних победителей». Изящно, просто и со вкусом. Это был апофеоз политического вмешательства и профанации Игр.
Так что вся эта история про античное мошенничество – это не про отдельных плохих парней. Это про систему, где жажда победы, помноженная на деньги, политику и человеческое тщеславие, создавала идеальные условия для жульничества. Клятвы, правила, наказания – всё это было, но человеческую натуру не переделаешь. Тёмная сторона всегда находила лазейку, оставляя после себя скандалы, штрафы и эти самые Заны – памятники не столько Зевсу, сколько вечной человеческой подлости и изобретательности в способах обмана ближнего своего.
Представьте себе: 1095 год. Папа Урбан II на Клермонском соборе бросает клич, и вот уже вся Европа охвачена священным порывом. Рыцари, сверкая доспехами (по крайней мере, в начале пути), знать, солдаты и даже простые паломники, полные веры (и, возможно, жажды приключений), устремляются к далёкой Святой Земле. Крестовые походы! Звучит героически. Иерусалим взят в 1099 году – слава и триумф! Но за блеском побед скрывалась куда более прозаичная и мрачная реальность: смерть. Она косила ряды крестоносцев с удручающим постоянством. И дело было не только в блеске сарацинских сабель. Болезни, неведомые европейскому организму, изнуряющая жара, голод, тяготы бесконечного пути через враждебные земли – всё это собирало свою обильную жатву.
Особенно остро вставал вопрос, когда в этих далёких, пыльных краях испускал дух какой-нибудь знатный лорд, граф или герцог. Средневековая аристократия была одержима идеей правильного упокоения. Умереть – полбеды, надо ещё быть похороненным как следует! Только в освящённой земле, под сенью родового замка или в любимом фамильном аббатстве, где монахи будут веками молиться за твою грешную душу. Мысль о том, чтобы кости благородного рыцаря навсегда остались гнить где-то в «неверной» земле, под палящим солнцем Палестины, казалась не просто неприемлемой – кощунственной! Это был кошмар, подрывающий сами основы феодального миропорядка и загробного благополучия.
Но как, скажите на милость, доставить тело, скажем, из Антиохии в Баварию? Путешествие, которое и для живого-то было подвигом, для мёртвого превращалось в логистический апокалипсис. Месяцы пути по разбитым дорогам, через горы и моря, под вечно палящим солнцем или проливными дождями. А главное – неумолимое тление. Жаркий климат Средиземноморья и Ближнего Востока делал своё чёрное дело быстро и беспощадно. Перевозить разлагающийся труп, источающий зловоние и привлекающий тучи мух, было не просто трудно – это было антисанитарно, опасно и, скажем прямо, крайне неприятно для всех участников процессии.
И вот тут, на стыке благородного стремления к родному погосту и суровой, дурно пахнущей реальности, родилось решение. Решение специфическое, мрачноватое, но до гениальности практичное: mos Teutonicus, «германский обычай». По сути, это был средневековый «набор для транспортировки VIP-покойника», позволявший доставить самое главное – кости – домой, в целости и относительной чистоте.
Сегодня мы погрузимся в детали этой удивительной практики. Мы разберём по косточкам (та-дам!) сам mos Teutonicus: что это, как это делали, почему знатные господа шли на такое. Оценим и другие погребальные причуды эпохи, вроде моды на похороны сердца отдельно от тела. Узнаем, почему Папа Римский в итоге ополчился на этот обычай, и какие ещё способы существовали, чтобы вернуть останки героя на родину. Готовьтесь, будет немного жутко, но познавательно.
Mos Teutonicus. Звучит солидно, по-латыни. «Германский обычай». Посмертная процедура, придуманная (или, по крайней мере, активно используемая) для того, чтобы благородные господа и дамы, почившие в бозе где-нибудь на краю света, всё-таки могли обрести последний покой под сенью родных дубов. Иногда, правда, проскальзывало и другое название – mos Gallicus, «галльский обычай», намекая, что не одни лишь суровые тевтоны прибегали к этому методу, ведь удобство – оно интернационально.
Авторство термина приписывают некоему Бонкомпаньо да Синья, флорентийскому эрудиту XIII века. Именно он, наблюдая за возвращающимися (вернее, за тем, что от них возвращалось) из походов немецкими рыцарями, связал эту практику именно с ними. Его описание, впрочем, попахивает лёгким итальянским снобизмом. Он ставит mos Teutonicus в один ряд с погребальными ритуалами других народов, но как бы намекает: ну, знаете, эти северные варвары… расчленяют своих героев, варят в котлах… не то чтобы очень изысканно. Вот его слова на языке Цицерона: “Teutonici autem eviscerant corpora excellentium virorum... et reliqua membra tamdiu faciunt in caldariis decoqui, donec tota caro... ab ossibus separantur, et postmodum eadem ossa, in odorifero vino lota et aspersa pigmentis, ad patriam suam deportant.” («Германцы же потрошат тела своих выдающихся мужей… а остальные части тела долго варят в котлах, пока вся плоть… не отделится от костей, и затем эти самые кости, омытые благовонным вином и посыпанные пряностями, перевозят обратно на свою родину».) Чувствуете? Итальянцы, сами не чуждые анатомических вскрытий в научных целях, кажется, находили погребальное расчленение и варку несколько… rustico. То, что для северного барона было суровой необходимостью, продиктованной тысячами километров пути, для утончённого флорентийца выглядело актом диковатым. Разные культуры – разные взгляды на то, как достойно отправить предка к праотцам.
Итак, как же выглядел этот процесс? Представим себе полевой лагерь где-нибудь под стенами Акры или на пыльных равнинах Туниса (да, крестоносцы забрались и туда). Умер знатный граф. Скорбь, молитвы… а затем за дело берутся специалисты. Сначала производилась эвисцерация: всё мягкое, нежное и быстропортящееся – сердце, печень, кишечник и прочее содержимое брюшной и грудной полостей – безжалостно удалялось, ведь без этого этапа дальнейшее было бы просто невыносимо. Затем, поскольку целый труп в котёл не поместится, да и вариться будет неравномерно, тело аккуратно (или не очень) расчленяли. Руки, ноги, голова – всё отделялось для удобства дальнейшей обработки, представляя собой картину не для слабонервных, но цель оправдывала средства.
После этого части тела отправлялись в большой котёл для варки, или экскарнации. Бульоном могла служить вода, но часто использовали вино или уксус – для лучшей дезинфекции и, возможно, для придания костям особого аромата. Процесс был долгим, требуя несколько часов кипения, пока плоть, хрящи и сухожилия не становились достаточно мягкими, чтобы легко отделиться от костей. Можно представить себе этот лагерный костёр, над которым в огромном котле булькают останки благородного рыцаря – поистине готическая романтика! Когда варка была окончена, наступал этап финальной зачистки: кости извлекали и тщательно очищали от последних приставших кусочков плоти, возможно, даже скоблили их ножами, стремясь к идеально чистому, белому скелету. Оставался вопрос: что же делать с отделённой плотью и органами, этими «излишками»? Их могли просто похоронить тут же, на месте. Иногда, если очень хотелось сохранить всего покойника, эти мягкие ткани могли засолить (подобно ветчине!) и тоже упаковать для транспортировки, создавая этакий «полный комплект».
Чистый скелет – это уже было полдела, но и его нужно было подготовить к долгому путешествию. Сначала кости тщательно промывали, причём часто не просто водой, а «благовонным вином». Затем следовала ароматизация: кости посыпали дорогими пряностями и специями или сбрызгивали духами. Это делалось как для маскировки любого намёка на неприятный запах, так и для демонстрации статуса – мол, даже кости нашего господина пахнут корицей и ладаном! Наконец, подготовленные кости – лёгкие, чистые, благоухающие – бережно заворачивали в дорогие ткани или шкуры, укладывали в ящик или мешок и отправляли в долгий путь домой. Там их ждала торжественная встреча и последнее пристанище в фамильном склепе. Да, процесс выглядит брутально. Но сквозь эту жутковатую прагматичность проглядывает отчаянное желание сохранить связь с усопшим, уважить его память и выполнить священный долг – вернуть его прах (вернее, кости) родной земле.
Почему же европейская элита прибегала к столь… экстравагантному методу? Не проще ли было оставить тело там, где оно упало? Нет, не проще. И на то были веские причины – целый коктейль из логистики, веры, культуры и даже экономики.
Главная причина крылась в прагматизме чистой воды (и кипящих котлов), продиктованном географией и биологией. Расстояния были колоссальны – только представьте путь из Иерусалима в Кёльн! Это месяцы пути, а тело, увы, не вечно, особенно в жарком климате. Разложение шло стремительно, превращая благородного покойника в источник заразы и невыносимого смрада. Перевозить такой «груз» было физически тяжело, опасно для здоровья сопровождающих и просто омерзительно. Mos Teutonicus решал все эти проблемы одним махом (и несколькими часами варки). Скелет в этом отношении был идеален: гигиеничен, так как не подвержен гниению и не распространяет заразу; лёгок, ведь кости весят несравнимо меньше целого тела; и компактен, что позволяло упаковать его куда аккуратнее.
Но дело было не только в удобстве, важную роль играли духовные скрепы и культурные коды. Глубоко в сознании средневекового аристократа сидела мысль: похороненным нужно быть дома, в своей земле, освящённой, родной. Умереть в походе за веру – почётно, но остаться лежать в земле «неверных» – немыслимо! Mos Teutonicus был единственным способом гарантировать возвращение на родину хотя бы в виде костей. К тому же, отношение к тлению было особым: физическое разложение ассоциировалось с грехом, тогда как идеалом были нетленные мощи святых. Обработка тела, удаление гниющей плоти – это была своего рода попытка имитировать святость, представить тело если не нетленным, то хотя бы избавленным от самых отталкивающих признаков распада, что придавало процессу некую иллюзию контроля над смертью. Существовал и ещё один теологический нюанс: Церковь запрещала кремацию, так как считалось, что сжигание уничтожает тело для будущего Воскресения. А вот mos Teutonicus – другое дело! Кости-то, основа скелета, сохранялись, а значит, и для Воскресения, когда наступит конец времён, материал оставался цел. Это был хитроумный компромисс между церковным каноном и жизненной необходимостью.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и экономику загробной логистики. Сложное бальзамирование по египетскому образцу, хоть и было известно, стоило баснословных сумм, и не каждый барон мог себе позволить такую роскошь. А вот mos Teutonicus, требующий лишь котёл, дрова, немного вина и специй, был куда демократичнее по цене, что делало его доступным для более широкого круга знати.
Так что «германский обычай» был не просто варварством, а сложным, многослойным решением. Это был ответ средневековой элиты на вызовы времени: огромные расстояния, суровый климат, религиозные догмы и неумолимые законы природы, прагматизм, доведённый до крайней точки, но облечённый в ритуальную форму. А почему именно немцы так прославились этим методом? Возможно, они просто чаще других попадались на глаза наблюдательным итальянцам, или, может, их практичность и упорство в достижении цели (даже если цель – доставка костей) были особенно заметны. Англичане и французы, как мы увидим, предпочитали другие, более «элегантные» (но не менее жуткие) методы. Вероятно, дело было в традициях: если французы и англичане любили хоронить сердце отдельно от тела (что удобнее при бальзамировании), то немцы ставили на кон всё – лишь бы весь скелет вернулся домой, ведь целостность костяка для Воскресения на родной земле была для них главным.
Несмотря на прочно приклеившееся название «германский обычай», не стоит думать, что только суровые тевтоны практиковали варку своих усопших вождей. Нет, этот метод оказался настолько удобен, что его с удовольствием (если это слово здесь уместно) переняли и другие народы, ведь логистические проблемы-то были общими! Среди тех, чьи останки прошли через «негерманское» использование mos Teutonicus, были весьма именитые персоны. Например, Людовик IX Святой, король Франции, погибший от дизентерии в Тунисе в 1270-м. Да-да, тело святого короля было сварено по «германскому» рецепту, чтобы доставить его кости в королевскую усыпальницу Сен-Дени (сердце, правда, оставили на Сицилии). К ним же относится и Генрих Алеманский, английский принц, племянник короля, убитый в Италии: его плоть похоронили там же, а вот кости отправили в Англию, в аббатство Хейлс, тогда как сердце удостоилось золотого кубка в Вестминстерском аббатстве.
Также известен случай великого философа и богослова Фомы Аквинского, умершего в Италии по дороге на собор: его тело тоже подвергли варке – не только для перевозки, но и потому, что его уже при жизни считали святым, а кости святых – это же реликвии, и их удобнее делить и раздавать, когда они чистые. И, конечно, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, утонувший в реке в Малой Азии, стал классическим примером mos Teutonicus: внутренности – в Тарс, плоть – в Антиохию, кости – в Тир (хотя мечтали довезти до Иерусалима). Список можно продолжать, включая других императоров, австрийских и габсбургских герцогов. Так что, скорее всего, «германским» обычай назвали просто потому, что немцы были первыми или самыми заметными его адептами в глазах хронистов, а так – метод оказался востребован по всей Европе.
Параллельно с mos Teutonicus (а иногда и как его часть) существовала другая интересная практика, настоящая мода на «расчленёнку»: отдельное захоронение сердца, а порой и других внутренностей. Мотивы для такого разделения тела были разнообразны. Во-первых, играла роль практичность: как мы помним, потрошение часто было первым шагом и при mos Teutonicus, и при бальзамировании, и раз уж сердце всё равно извлекли, то перевезти его, маленькое, в ларце или сосуде было куда проще, чем целое тело. Во-вторых, огромную роль играл символизм: сердце считалось вместилищем души, храбрости, любви и веры, поэтому похоронить его в особо святом или дорогом покойнику месте (например, в любимом соборе) считалось актом особого благочестия – за такое сердце и молиться будут усерднее!
В-третьих, нельзя забывать о политике и статусе: множественное захоронение стало фишкой элиты, особенно во Франции и Англии, позволяя «присутствовать» сразу в нескольких важных местах, укреплять связи с разными монастырями или городами, демонстрировать своё влияние и щедрость. Король мог завещать тело одному аббатству, сердце – другому, а внутренности – третьему, чем не способ распределить королевскую милость посмертно? Примеров такой практики масса: Ричард Львиное Сердце (тело в Фонтевро, сердце в Руане), Роберт Брюс Шотландский (тело в Данфермлине, сердце упокоилось в Мелроузе), королева Элеонора Кастильская (тело, сердце и внутренности – в трёх разных местах!). Даже у епископов Вюрцбурга была традиция отправлять свои сердца в монастырь Эбрах – этакий «сердечный» оброк. Хотя извлечение органов было частью и mos Teutonicus, сама церемониальная практика отдельного захоронения сердца была больше связана с бальзамированием, которое предпочитали как раз англичане и французы.
Итак, у средневековой элиты в этой битве технологий было два основных способа вернуть тело домой издалека: варка (mos Teutonicus) и бальзамирование (консервация). Первая была идеальна для доставки костей на очень большие расстояния, особенно в жарком климате, считалась относительно гигиеничной и экономичной, и пользовалась популярностью у немцев и других прагматиков. Вторая же позволяла сохранить некое подобие тела для церемоний прощания, была предпочтительна для умеренных дистанций и множественных захоронений, но стоила дороже и была фаворитом у англичан и французов, ценивших пышные ритуалы и возможность разделить останки. Разделение тела на части – кости, сердце, плоть – было не просто технической необходимостью, а отражением целой системы ценностей: кости важны для Воскресения, сердце – символ души, а плоть – бренна и быстро портится. Таким образом, логистические трудности превратились в возможность для сложной, многоуровневой игры со смертью, памятью и статусом.
Но не всем нравились эти кулинарные эксперименты над останками знати. В конце концов, возмутился и сам глава Католической церкви. Папа Бонифаций VIII, личность властная и решительная, под конец XIII века издал буллу (то есть папский указ) De Sepulturis, или Detestandae feritatis («Отвратительной жестокости»). Документ этот прямым текстом запрещал mos Teutonicus. Папа не стеснялся в выражениях, называя практику «отвратительным обычаем», «мерзким варварством» и «ужасным ритуалом»! Тех, кто посмеет расчленять и варить покойников (или завещает сделать это с собой), ждало автоматическое отлучение от церкви – серьёзная угроза по тем временам! Папа окрестил эту практику mos horribilis – «ужасный обычай».
Почему же Папе так не понравился этот метод? Причины были как эстетико-теологические, так и догматические. Говорят, Бонифаций VIII был большим ценителем телесной целостности, и сама идея, что тело, созданное по образу Божьему, рубят на куски и варят, как говядину для супа, казалась ему кощунственной и попросту отвратительной. Кроме того, хотя mos Teutonicus и сохранял кости, сам процесс разделения тела на части мог показаться Папе подрывающим веру в догму о Воскресении, согласно которой в Судный день все воскреснут целыми. Возникал неудобный вопрос: как Бог соберёт этот «конструктор»? Лучше было не рисковать. Возможно, здесь была и попытка борьбы с «варварством»: стремление привить пастве более «цивилизованные» (с точки зрения Рима) нравы и искоренить обычай, который казался пережитком языческих времён.
Однако важно понимать реальный эффект и сферу действия этой буллы. Во-первых, науку она не трогала: запрет касался именно погребальной варки, а не анатомических вскрытий для медицинских или научных целей, хотя, возможно, некоторые анатомы после этого и стали работать с большей опаской. Во-вторых, эффект был не мгновенным: знатные господа не сразу отказались от удобного обычая. Кто-то получал специальные папские разрешения (по слухам, тот же французский король Филипп Красивый выхлопотал себе такое), кто-то просто игнорировал запрет, а бальзамирование с потрошением вообще продолжалось как ни в чём не бывало.
Но в целом, булла Бонифация VIII стала началом конца для mos Teutonicus, и к XV веку он практически сошёл на нет, уступив место другим методам. Что касается слухов об отмене запрета Папой Климентом VI полвека спустя, то серьёзные исторические источники этого не подтверждают, так что, скорее всего, запрет Бонифация так и остался в силе, в отличие от некоторых других его булл, отозванных под давлением французского короля Климентом V. Таким образом, булла Бонифация VIII стала ярким примером столкновения укоренившейся практики, продиктованной суровой необходимостью, и меняющихся теологических и эстетических взглядов церковной верхушки – попыткой насадить идеал сверху, столкнувшейся с прагматизмом снизу.
Если не варить, то что? Какие ещё варианты были у средневековой элиты, чтобы решить проблему транспортировки или сохранения тела, кроме mos Teutonicus?
Главным конкурентом был метод бальзамирования. Этот процесс также включал потрошение, но затем полости тела и саму кожу обрабатывали консервантами: солью, травами, специями, вином, уксусом, смолами. Целью было максимально замедлить разложение и сохранить некое подобие прижизненного облика, что особенно ценили англичане и французы. Такой метод позволял устраивать пышные, долгие церемонии прощания, где тело выглядело (относительно) пристойно. К тому же, извлечённые органы было удобно хоронить отдельно, что соответствовало их традициям. Однако у этого способа был существенный минус – цена: бальзамирование было удовольствием для самых богатых.
Самым очевидным вариантом было похоронить тело на месте смерти. Так, скорее всего, и поступали с тысячами простых солдат и паломников, чьим последним пристанищем становились безымянные братские могилы где-нибудь в сирийской пустыне. Но для графа или герцога такой финал был немыслим, он был бы знаком полного забвения и неуважения, хотя вот древние римляне, говорят, иногда специально хоронили павших легионеров на поле боя, чтобы не шокировать сограждан видом покалеченных тел.
Существовала также возможность частичной репатриации. Если уж совсем никак не получалось перевезти всё тело (или кости), могли привезти домой хотя бы сердце или другой символически важный орган. Это был компромисс: пусть не весь, но хоть частичка героя вернётся в родную землю.
Предпринимались и более примитивные попытки консервации с использованием народных средств. Например, тело Фридриха Барбароссы после утопления пробовали замариновать в уксусе, но эксперимент провалился – тело всё равно начало быстро портиться. Другой способ – набить выпотрошенное тело чем-то вроде песка или золы и плотно запеленать в пропитанные воском ткани, как это было сделано с королевой Анной Габсбургской в 1281 году; насколько это было эффективно для долгой транспортировки – большой вопрос.
Все современные методы обращения с останками – аквамация, ресомация, компостирование – для Средневековья, конечно, из области фантастики. Арсенал был крайне ограничен: по сути, либо варить до костей, либо пытаться забальзамировать подручными средствами. Выбор метода зависел от веса кошелька, расстояния, климата, культурных традиций и религиозных убеждений. Идеального решения не было, и каждая смерть знатного человека вдали от дома становилась сложной логистической и ритуальной задачей, заставляя искать компромиссы между желаемым и возможным.
Mos Teutonicus. Звучит экзотично, выглядит жутко, но по сути – это ярчайший пример того, как средневековое общество адаптировалось к экстремальным условиям. Это было порождение Крестовых походов, дальних странствий и железной воли аристократии быть похороненными на своей земле. Варка костей – это был ответ на вызовы гниения, расстояний и логистики, прагматичный до цинизма, но облечённый в ритуальную форму и даже имевший свои теологические оправдания.
Хоть и названный «германским», этот обычай пересёк границы и использовался самыми разными народами, включая святого короля Франции. Он соседствовал с модой на отдельное захоронение сердца и органов – практикой, которая, хоть и перекликалась с mos Teutonicus, всё же больше тяготела к искусству бальзамирования, популярному при английском и французском дворах. Все эти манипуляции с телом – разделение на части, разная судьба костей, сердца и плоти – показывают нам сложную картину средневековых представлений о теле, душе, смерти и памяти.
Запрет Папы Бонифация VIII стал переломным моментом, отразив нарастающее напряжение между укоренёнными обычаями знати и новыми веяниями в церковной мысли и эстетике. Хотя запрет и не сработал мгновенно, он подтолкнул к поиску альтернатив и в итоге привёл к закату этой мрачной, но по-своему показательной практики.
История mos Teutonicus – это не просто байка из склепа. Это зеркало, отражающее средневековый мир: его веру и суеверия, его жестокость и благочестие, его социальную иерархию и технологические ограничения. То, как люди обращались с телами своих павших вождей, говорит нам о многом: о страхе перед забвением, о силе традиций, о политике, которая простиралась даже за пределы смерти, и о той неразрывной, почти мистической связи, которую человек ощущал с землёй своих предков.
На западной кромке вечно бурлящих Балкан, там, где грозные горы встречаются с ласковым, но столь часто коварным морем, раскинулась Албания – земля древних тайн, орлиных гнёзд и неспокойной судьбы. Сама её география – эти дикие горы, это изрезанное побережье – словно подсказывала пути тем, кто искал тени. Лежащая на перекрёстке цивилизаций, между молотом Востока и наковальней Запада, она обладает протяжённой – почти полтысячи километров – и причудливо изломанной береговой линией, омываемой волнами Адриатики и Ионического моря. Берег этот, испещрённый бесчисленными заливами, укромными бухтами и крошечными островами, будто самой природой предназначен для того, чтобы прятать тайны и насмехаться над любым контролем. Стоит ли удивляться, что он стал идеальным коридором для контрабанды? Крупные порты – Дуррес, главный морской узел страны, Влёра, Саранда, Шенгьин – распахнутые ворота, как для легальной торговли, так и для тёмных, мутных потоков запретных товаров и живого груза. А близость Италии – всего лишь 72 километра через пролив Отранто до Апулии, земли, где пустила корни своя, местная мафия «Сакра Корона Унита», – превращает морской путь в соблазнительный маршрут для переправки наркотиков, оружия и человеческих душ, ищущих лучшей доли в сытой Европе.
Но не только море «сделало» Албанию. Её сердце – неприступные горы. Почти три четверти территории – царство скал, холмов и бездонных ущелий: грозные Северо-Албанские Альпы, не зря прозванные Проклетием, величественный Кораб на востоке, Пинд на юго-востоке, Кераунские пики, стражами застывшие над морем. Эти твердыни веками служили убежищем для гордых кланов, не желавших склонять голову ни перед султаном, ни перед королём, ни перед генсеком. Горы были их крепостью, их миром, где слово чужака – пустой звук. И в новые времена они не утратили своей мрачной власти. Труднодоступные склоны стали тайными тропами контрабандистов, надёжными схронами для оружия и нарко-лабораторий, а в последние десятилетия – гигантскими плантациями каннабиса, буйно разросшегося под щедрым солнцем, укрытого от закона и порядка. Да и можно ли было надёжно перекрыть границы с Грецией, Северной Македонией, Косово, Черногорией, вьющиеся змеёй по пересечённой местности, для тех, кто привык чтить лишь законы гор, а не линии, начертанные на картах?
Чтобы понять душу современной Албании – и её самые тёмные уголки, – нужно погрузиться вглубь её кровавой истории. Пять веков османского ига, с XV до начала XX столетия, не стёрли, а наоборот, словно в янтаре, законсервировали и укрепили древнюю клановую систему, особенно в непокорных горах севера, куда рука Стамбула дотягивалась редко и неохотно. Кланы – фисы – стали не просто семьёй, но государством в государстве, единственной защитой, опорой, судом в мире, где правили сила и произвол. Веками они жили по своим неписаным, но высеченным в сердцах племенным законам. Этот долгий, кровавый период вскормил дух необузданной автономии, глухое недоверие к любой власти извне и привычку полагаться лишь на своих: на кровь, на клан, на слово, скреплённое клятвой. Век XX принёс долгожданную независимость, но не мир. Череда смут, войн, унизительная итальянская оккупация… А затем, после Второй мировой, на Албанию опустилась долгая ночь – один из самых жестоких коммунистических режимов в Европе, диктатура Энвера Ходжи. Его хватка держала страну с 1944 по 1985 год, погрузив её в беспрецедентную, почти абсолютную изоляцию – не только от «прогнившего» Запада, но и от «предавшего идеалы» советского блока. Любая религия была объявлена вне закона, традиционные структуры – безжалостно искоренялись. Но даже Ходжа, при всей его мощи, не смог уничтожить невидимые, родовые нити клановых связей.
И вот он, злой парадокс истории: этот тоталитарный ледник, сковавший страну на десятилетия, под своей мёртвой поверхностью подспудно готовил почву для будущего криминального взрыва. Полное отсутствие опыта нормальной рыночной жизни, въевшаяся привычка решать все вопросы «по знакомству», через тайные связи, тотальное недоверие к обесценившемуся государству и, конечно, чудовищный, сдерживаемый железным занавесом голод – по джинсам, по свободе, по глотку иного воздуха. И когда режим рухнул на рубеже 1990-х, проржавевшую плотину прорвало. Переход к рынку обернулся диким, неуправляемым хаосом. Экономика рухнула в пропасть, миллионы остались без работы, новые институты власти оказались беспомощны. Страну охватило безумие финансовых пирамид – последняя отчаянная надежда на чудо. И когда эти пирамиды с оглушительным треском лопнули в 1997 году, похоронив под обломками сбережения всей страны, Албания взорвалась. Анархия, бунт, разграбленные военные склады – сотни тысяч автоматов, пистолетов, гранат хлынули на чёрный рынок и в руки толпы. То было страшное время – время безвластия, крови и отчаяния. Но для кого-то – время золотой лихорадки. Именно тогда, в этом всеобщем хаосе, многие криминальные группы, доселе таившиеся в тени, вырвались на свободу, словно стая оголодавших волков, вооружаясь до зубов, налаживая первые каналы контрабанды, захватывая контроль над целыми секторами теневой экономики. Девяносто седьмой стал огненным крещением, инкубатором для той тёмной силы, что вскоре заставит содрогнуться всю Европу.
Есть у албанцев секретное оружие, дар самой истории, который они обратили себе на пользу – их язык. Уникальный, одинокий осколок древности в индоевропейской семье языков, он сам по себе – неприступная крепость. Для чужака – будь то полицейский аналитик в Берлине или конкурирующий наркобарон в Роттердаме – албанская речь звучит как птичий щебет, как заклинание, не поддающееся расшифровке. Попытки прослушать их разговоры? Часто пустая трата времени – где найти столько переводчиков, способных понять не только сам язык, но и его диалекты, северный гегский и южный тоскский? А когда к этому лингвистическому бастиону добавляется виртуозное владение технологиями конспирации – одноразовые телефоны, сжигаемые после одного звонка, зашифрованные мессенджеры, чьи коды спецслужбы взламывают годами (если вообще взламывают), сложная система псевдонимов и иносказаний – преимущество становится почти абсолютным. Древний язык и гаджеты XXI века – поистине убийственный коктейль, позволяющий албанским бандам плести свою тёмную паутину почти невидимыми.
Несмотря на манящие огни евроинтеграции и статус кандидата в ЕС, экономические трудности, вечная эмиграция и сложный контекст отношений с соседями продолжают формировать непрерывный поток отчаявшихся людей и нерешаемых проблем. Албания всё ещё бьётся в тисках бедности. Пропасть в уровне жизни по сравнению с сытой Западной Европой остаётся унизительной, почти непреодолимой, вечно толкая тысячи и тысячи людей прочь с родной земли – искать счастья, или хотя бы простого выживания, на чужбине. Эмиграция стала второй натурой, национальной судьбой. Потоки денег от уехавших – из Италии, Греции, Германии, Британии, Швейцарии, Америки – как переливание крови для анемичной экономики, но и как симптом хронической болезни. Эта гигантская, разбросанная по миру диаспора – не только кормилица родины, но и готовая, тёплая среда, питательный бульон для тех, кто ищет за границей не работу на стройке, а криминальную удачу. Легенда о «бедном гастарбайтере» – идеальная маска. А наличие «своих» в каждом уголке Европы и Америки – готовая инфраструктура для баз, явок, перевалочных пунктов. И пусть Брюссель грозит пальцем, требуя от Тираны показательной борьбы с преступностью и всепроникающей коррупцией, ставя это условием вступления в «европейский рай», реальность упрямо сопротивляется. Давление есть, громкие операции проводятся, но победить многоголовую гидру организованной преступности, пустившую корни в саму ткань общества, пока не удаётся. А коррупция… она как тень, как неизменный спутник, как универсальная смазка для криминального механизма, позволяющая ему вращаться бесшумно и неотвратимо.
Говоря «албанская мафия», забудьте о картинках из «Крёстного отца» – строгих пирамидах с чёткой иерархией. Её структура – это скорее сеть кланов, а не пирамида, подвижная, изменчивая, отличающаяся региональными особенностями и невероятной гибкостью. Это… грибница, невидимый мицелий, пронизывающий почву общества. Она состоит из множества отдельных кланов, фисов, и более мелких преступных групп, часто сплочённых кровью или происхождением из одного горного села, из одного квартала Шкодера, Тропои или Влёры. Каждая ячейка автономна, у каждой – своя специализация, свои лидеры, свои враги и союзники. Где-то на суровом севере, где древние традиции крепче гранита, клановая структура может быть более жёсткой, почти феодальной. В плавильном котле больших городов или вдали от родины, в эмиграции, группы могут быть более гибкими, создаваться под конкретную «сделку», под конкретный «проект». Но главное их свойство – поразительная способность мгновенно объединяться для большой охоты, для крупной операции, собрать силы в кулак, а потом так же быстро раствориться, рассыпаться на отдельные звенья. Эта адаптивность и децентрализация делают их почти неуязвимыми для ударов извне. Разгром одной группы – больно, но не смертельно для всей сети. А связи? Да, кровь – превыше всего. Но не только. Землячество, память об общем прошлом, даже вместе отсиженный срок – всё идёт в ход. Или просто – холодный расчёт, циничная взаимная выгода.
В самом сердце этой паутины находится фис (алб. fis) – клан, род. Доверие, замешанное на крови – вот альфа и омега клана, его неприступная цитадель и одновременно – его проклятие. Оно диктует всё: кому жить, кому умереть, кому отдать приказ, а кому – слепо повиноваться. Патрилинейный клан, где родство идёт по мужской линии – это не просто большая семья, это боевое братство. Предательство? Слово, которого здесь почти не знают. Оно страшнее смерти. Именно эта железная внутренняя спайка делает клан идеальной машиной для рискованного криминального бизнеса. Как доверить чужаку партию кокаина на миллионы? Как посвятить его в тайны маршрутов и явок? Никак. Только своим. Брату, кузену, племяннику – тем, в чьих жилах течёт та же кровь. Во главе этой волчьей стаи стоит самый авторитетный, самый сильный, самый хитрый. Его слово – закон, его воля непререкаема. Это лидер, криетар (алб. kryetar – председатель, глава), или неформально «крие» (алб. krye), или просто «босс». Под ним – ближний круг, его паладины, его преторианцы: братья, сыновья, племянники, чья верность не знает сомнений. Это становой хребет клана, его мозг и его кулаки. Нередко при главе существует и неформальный совет – круг доверенных лиц, старейшин рода или особо влиятельных боевиков, чьё мнение выслушивается, но не связывает руки боссу. Ступенью ниже – «солдаты», безликие исполнители, чьи руки по локоть в крови. И здесь снова правит кровь: предпочтение отдаётся молодым, голодным и злым кузенам, дальним родичам, доказавшим преданность делом, готовым убивать и умирать по первому слову. На самой периферии этой мрачной вселенной действуют «ассоциированные члены» – полезные чужаки, не связанные с кланом кровью. Это могут быть ушлые финансисты, отмывающие грязные деньги, коррумпированные чиновники, продающие информацию, иностранные партнёры, связники из других мафий. Их положение шатко, их лояльность держится на деньгах или страхе, но без них не провернуть сложных международных комбинаций. Однако сеть влияния клана не исчерпывается и ими. Важнейшую роль, особенно во внешних сношениях, играет древний институт мика (алб. mik – друг, гость). В албанской культуре мик – это не просто знакомый. Это священная фигура, гость, друг из другого клана, другой земли, с которым установлены нерушимые узы взаимной защиты, гостеприимства, поддержки, скреплённые честью. Иметь надёжных миков в других городах, странах, даже во враждебных группировках – бесценный капитал. Это позволяет безопасно передвигаться по чужой территории, заключать сделки, получать бесценную информацию, формировать неожиданные альянсы, расширяя возможности клана далеко за пределы кровного родства. Вся эта пирамида внутри клана, построенная на крови и дополненная институтом мика, обладает поистине феноменальной устойчивостью и герметичной закрытостью. Членство в ней часто передаётся по наследству или через брак, сплетая всё новые узлы лояльности. Вербовка чужаков – процесс долгий и опасный, предпочтение всегда отдаётся землякам или тем, кто доказал преданность кровью. Для многих юнцов из нищих сёл это единственный шанс вырваться из беспросветности, обрести статус, деньги, защиту.
Понятие чести – ндер (алб. nder) – и традиция кровной мести – гьякмаррья (алб. gjakmarrja) – находят своё мрачное отражение в криминальном контексте. Ндер семьи, ндер клана – это святыня. И в жестоком мире организованной преступности это понятие становится оправданием для самых страшных деяний. Оскорбил? Обманул? Перешёл дорогу? Это вызов, это удар по чести. А за поруганную честь платят только кровью. И тут из глубин веков всплывает зловещая тень гьякмаррья. Да, в современном мире это может показаться жестоким архаизмом. Но в преступном мире, где нет иных судов, кроме суда силы, логика вендетты работает безотказно. Убрать конкурента, казнить предателя, заткнуть рот свидетелю – это не просто бизнес, это акт «справедливости», восстановление баланса, демонстрация того, что с этим кланом шутки плохи. И войны между кланами, вспыхнувшие из-за денег, наркотиков или просто косого взгляда, могут тлеть годами, забирая всё новые жизни, перекидываясь из албанских гор на улицы европейских столиц.
И всё это зиждется на нескольких невидимых опорах, своего рода столпах, отражающих наследие старых традиций в преступной практике XXI века. Важнейшую роль играет канун (алб. Kanun – канон, свод традиционных законов), совокупность племенных устоев и правил. Хотя древние кодексы вроде «Кануна Леки Дукаджини» не лежат на столе у современных мафиози, их дух, их принципы – важность данного слова, нерушимость иерархии, правила поведения в конфликте, отношение к врагу и другу, и, конечно, понятие чести – впитаны с молоком матери, они формируют сам менталитет. Преступный мир лишь извращает эти понятия, ставит их себе на службу, оправдывая ими свою власть и жестокость. Не менее, а может, и более значима беса (алб. Besa – вера, клятва верности, данное слово) – священная клятва, что тяжелее гранита. Это не просто слово – это печать на душе, невидимые цепи лояльности, рвущие любые иные узы – закона, морали, страха. Беса цементирует эти группы изнутри, делает их почти непроницаемыми для чужаков, для полиции. Информатор? Агент под прикрытием? Почти невозможно. Люди годами сидят в тюрьмах, идут на смерть, но не нарушают бесу. Эта клятва – фундамент доверия, позволяющий проворачивать сделки на миллионы без всяких бумаг и гарантий. Нарушить бесу – значит стать изгоем, неприкасаемым, «живым мертвецом». К этому добавляется звериное чувство территориальности: борьба за контроль над районами, маршрутами, рынками сбыта – вечный двигатель конфликтов. И албанцы известны своей яростью в отстаивании «своего», будь то квартал в Берлине или тропа в горах. И, конечно, нельзя забывать о насилии – грубом, беспощадном, часто бессмысленном в своей жестокости. Оно стало не просто инструментом – оно стало их почерком, их визитной карточкой, их языком, понятным всем в криминальном подполье. Оно используется для устрашения конкурентов, для поддержания железной дисциплины, для принуждения жертв, для мести. Репутация безжалостных палачей помогает им захватывать и удерживать власть там, где правят страх и сила.
Путь наверх для многих албанских гангстеров начался не на родине, не в пыльных сёлах или бедных городских окраинах, а за океаном; американский опыт стал для них суровой, но бесценной школой – настоящим криминальным университетом. В те бурные десятилетия – 70-е, 80-е, 90-е – когда албанская эмиграция хлынула в Новый Свет, итальянские мафиозные семьи, эти патриархи американского преступного мира, быстро оценили потенциал новичков. Дерзкие, крепкие, отчаянные, не боящиеся ни бога, ни чёрта – идеальный материал для грязной работы. Итальянцы охотно нанимали их вышибалами, курьерами, а главное – безжалостными исполнителями, киллерами. Зеф Мустафа, правая рука и любимый «клиппер» (киллер на бандитском сленге) Сэмми «Быка» Гравано из клана Гамбино – разве это не показатель? Но албанцы были не просто пушечным мясом. Они впитывали всё как губка. Они учились у своих «патронов» науке рэкета, ростовщичества, организации подпольных игр, мошенничества. И конечно – искусству наркоторговли – этому золотому дну преступного мира. Они своими глазами видели, как устроены итальянские «семьи», как работает их иерархия, как они общаются с помощью намёков и угроз, как отмывают миллионы, как решают кровавые споры. Это была бесценная школа. И они быстро заработали репутацию: да, дикие, да, жестокие, но слово держат, своих не сдают, бесу чтут. А это ценилось даже в мире волков. Постепенно они поднимались из грязи в князи, набирали вес, обрастали связями – не только с итальянцами, но и с ирландцами, русскими, латиноамериканцами. А потом настал их час. Час сказать «хватит работать на дядю». Опыт был накоплен, мускулы – накачаны, связи – установлены, дерзости – через край. Пришло время строить свою империю.
Долгое время имя албанской мафии ассоциировалось прежде всего с так называемым «Балканским маршрутом», но затем произошла стремительная эволюция: освоение новых, куда более прибыльных горизонтов и построение глобальной логистической машины. Исторически этот маршрут был главной героиновой артерией Евразии, дорогой смерти, по которой тонны опиума из «Золотого полумесяца» – Афганистана, Пакистана, Ирана – перекачивались в ненасытное чрево Европы. Путь этот лежал через Турцию, Болгарию, раздираемую войнами Югославию – земли, где албанцы, особенно косовары, чувствовали себя хозяевами. Они знали каждую тропу, каждый перевал, имели «своих» людей по обе стороны границы, умели договориться с таможенником или пограничником, а если надо – и заставить силой. Они стали ключевыми звеньями в этой смертоносной цепи – перевозчиками, охранниками караванов, оптовыми дилерами. И хотя войны, смена режимов, полицейские облавы то и дело меняли карту маршрутов, героиновый поток не иссякал, и албанские кланы продолжали собирать с него свою жатву. Однако подлинная революция, превратившая их из региональных баронов в глобальных игроков первого эшелона, случилась на стыке тысячелетий. Они сделали ставку на кокаин. И не просто вписались в существующие схемы, а перекроили весь рынок под себя. Они совершили почти немыслимое: вышли на прямые контакты с производителями в джунглях Колумбии, Эквадора, Перу. Зачем кормить посредников – итальянцев, испанцев, голландцев – если можно брать чистейший товар у самого источника, по самой выгодной цене? Это был ход невероятной дерзости, требовавший колоссальных ресурсов, железной воли и безупречной логистики. И они построили эту логистику. Морские контейнеры с хитроумными тайниками, быстрые катера, частные самолёты, вереницы подставных фирм – они освоили весь арсенал контрабандистов XXI века. Гигантские порты Европы – Антверпен, Роттердам, Гамбург, Валенсия, Генуя – стали их воротами для белого цунами. Речь шла уже не о килограммах – о тоннах! И очень скоро мир с удивлением обнаружил, что на улицах Лондона, Берлина, Рима, Брюсселя, Амстердама, Цюриха, Стокгольма именно албанцы диктуют цены на кокаин, безжалостно выдавливая или подчиняя себе конкурентов. Громкие международные операции, вроде «Los Blancos», лишь изредка приподнимали завесу над этой разросшейся кокаиновой империей. Но было бы наивно думать, что они ограничились лишь двумя видами наркотиков. Они быстро усвоили главный закон бизнеса: диверсификация. И вот уже сама Албания превращается в гигантскую плантацию каннабиса – этакую «европейскую Колумбию» для марихуаны, которую затем тоннами вывозят в соседние Италию и Грецию, а оттуда – дальше, на север. Параллельно они всё глубже проникают на рынок синтетических наркотиков – экстази, амфетаминов, часто выступая конечными дистрибьюторами «товара», произведённого в подпольных лабораториях Голландии или Бельгии. И, конечно, оружие. Балканы после войн были буквально нашпигованы оружием. А хаос 1997 года в Албании выбросил на рынок ещё сотни тысяч стволов. Этот смертоносный арсенал – от пистолетов Макарова до автоматов Калашникова и ручных гранатомётов – стал ещё одним высоколиквидным товаром, который они щедро поставляли криминальному миру всей Европы, подпитывая насилие и нестабильность.
Кокаин в контейнере с бананами? Его спрячут так, что и рентген не покажет. Или прикрепят к днищу сухогруза в виде герметичной «торпеды». Или перевезут через Атлантику на частном джете. А может, даже на полупогружном аппарате, скользящем под волнами. По дорогам Европы товар поедет в грузовике с двойным дном, о котором не будет знать и сам водитель, или в тайнике под сиденьем обычной легковушки. Людей через Адриатику? Ночью, на резиновых лодках с мотором, рискуя утонуть в шторм или нарваться на патруль. Оружие? Разберут до винтика и спрячут среди автозапчастей. Они постоянно меняют маршруты, схемы, транспорт, используют самые современные средства шифрованной связи, действуют по принципу «разделяй и властвуй», когда каждый участник цепочки знает лишь свой маленький фрагмент. Они всегда стараются быть на шаг впереди закона. И часто им это удаётся.
Сегодня щупальца албанской мафии дотянулись до самых отдалённых уголков планеты, но их главная вотчина – Европа. Ключевые активности и география присутствия поражают воображение: от лондонских доков до брюссельских кварталов и далеко за их пределы. Наркоторговля остаётся их Клондайком, источником баснословных барышей. В Британии, особенно в её столице, они, по признанию самих британских спецслужб, контролируют львиную долю кокаинового рынка, действуя с поразительной организованностью и леденящей кровь жестокостью. В Бельгии и Нидерландах, в гигантских портах Антверпена и Роттердама, их кланы держат в руках ключевые нити импорта наркотиков со всего мира, превратив эти города в свои европейские цитадели и логистические хабы. В Германии они ведут беспощадную войну за сферы влияния на улицах Берлина, Гамбурга, Франкфурта, не уступая ни туркам, ни русским, ни местным бандам. В Италии, на богатом и промышленно развитом севере, они то заключают тактические союзы, то вступают в смертельные схватки с калабрийской «Ндрангетой» и неаполитанской «Каморрой», деля сферы влияния на кокаиновом рынке, но их присутствие ощутимо и в самом сердце страны, в Риме. Та же картина – в Швейцарии, Австрии, Греции, Скандинавии… Их следы повсюду. Но наркотики – лишь одна, пусть и самая заметная, голова этой гидры. Другой страшный, чудовищный по своей циничности бизнес – торговля людьми. Они стали одними из главных работорговцев современной Европы. Вербовка наивных девушек в нищих сёлах Албании, Косово, Молдовы – лживыми обещаниями работы и красивой жизни – и последующая их продажа в сексуальное рабство на панели Лондона, Брюсселя, Афин, Рима. Создание и контроль целых сетей сутенёров и подпольных борделей. Организация каналов нелегальной миграции, превращающая отчаявшихся беглецов от войн и нищеты в бесправных рабов на стройках, полях и фабриках Европы, вынужденных годами отрабатывать мифический «долг» за переправку. Думали, сюжет «Заложницы» это просто фантазия сценаристов? Это конвейер человеческих страданий, приносящий миллионы.
Применение запредельной жестокости – не просто метод, это их философия. Инструмент контроля над своими и чужими, способ устрашения конкурентов, наказания провинившихся. Похищения, пытки, показательные казни – их арсенал не знает границ. А контроль над неиссякающими потоками оружия с Балкан делает их вдвойне опасными – они вооружают не только себя, но и весь криминальный интернационал Европы, подливая бензин в огонь бандитских войн. Наконец, все эти кровавые деньги – наркодоллары, евро от продажи людей – нужно как-то легализовать, отмыть добела. И здесь они тоже проявляют чудеса изобретательности. Часть гигантских сумм возвращается на родину – в Албанию, в Косово – и вкладывается в бурное строительство отелей на Адриатике, сверкающих торговых центров, элитного жилья. Эти инвестиции могут выглядеть как экономическое чудо, но часто они лишь раздувают пузыри и глубже загоняют легальную экономику в тень. В Западной Европе деньги отмываются через покупку вполне легальных бизнесов – ресторанов, баров, ночных клубов, автосалонов, строительных фирм. Используются сложнейшие многоступенчатые финансовые схемы с участием десятков подставных компаний, зарегистрированных в налоговых гаванях по всему миру. И всё чаще в ход идут криптовалюты – идеальный инструмент для анонимного перемещения и легализации преступных капиталов.
В чём же секрет их феноменального, пугающего успеха? Это гремучий коктейль из архаики и современности. С одной стороны – железная внутренняя дисциплина, цементируемая кровными узами и нерушимой клятвой беса; звериная жестокость, готовность убивать не задумываясь, парализующая волю врагов и конкурентов; гибкая, подвижная, почти неуловимая сетевая структура, позволяющая им выдерживать удары, быстро восстанавливаться и перестраиваться. С другой стороны – авантюрная предпринимательская жилка, готовность идти на колоссальный риск ради колоссальной прибыли; и, конечно, огромная, разбросанная по всему миру албанская диаспора – неисчерпаемый источник кадров, укрытий, связей, баз для операций. Но есть и ещё одно важное качество – холодный прагматизм и умение договариваться, когда это выгодно. Их деловые, пусть и кровавые, альянсы с другими титанами преступного мира – калабрийской «Ндрангетой» (особенно в логистике кокаина), колумбийскими картелями, турецкими героиновыми баронами – тому подтверждение. Они умеют находить общий язык с кем угодно, встраиваться в любые схемы, находить свою нишу и играть по-крупному. Это уже давно не просто банды головорезов из бедных гор – это мощные, разветвлённые, высокоорганизованные транснациональные криминальные корпорации.
Победить такого врага – задача титаническая, почти невыполнимая. Непроницаемый языковой барьер. Использование самых современных методов шифрования коммуникаций. Железный кодекс молчания беса, помноженный на животный страх перед местью клана, – всё это превращает сбор доказательств в адский труд. Внедрить агента внутрь клана? Почти фантастика. Убедить кого-то дать показания? Шансы близки к нулю. Добавьте к этому раковую опухоль коррупции, которая разъедает государственные аппараты и в самой Албании, и в странах транзита, а порой и в благополучной Западной Европе, обеспечивая преступникам «крышу», информацию, свободу действий.
И пусть время от времени крупные операции приводят к громким арестам и конфискациям, сеть быстро залечивает раны, регенерирует, на место одних срубленных голов гидры тут же вырастают новые. Так, в середине 1980-х амбициозный прокурор Южного округа Нью-Йорка Рудольф Джулиани – будущий мэр города и соратник Дональда Трампа – бросил вызов «Балканскому маршруту». Его команде удалось перехватить партию героина оценочной уличной стоимостью не менее 125 миллионов долларов США и отправить за решётку ряд участников сети. Последствия не заставили себя ждать: члены группировки назначили награду в 400 000 долларов за головы двух ключевых фигур обвинения – помощника прокурора Алана М. Коэна и агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Джека Делмора. Обоим пришлось жить под круглосуточной охраной федеральных маршалов. Буквально недавно, в конце 2024 года, в албанском городке Эльбасан накрыли крупную банду, промышлявшую заказными убийствами, как в самой Албании, так и за рубежом. Но это – лишь капля в море.
Гидра албанской организованной преступности продолжает дышать ядом, и конца этой битве пока не видно. Более того, она постепенно превращается в субкультуру, становится модной. Албанские банды «нового поколения» вроде лондонской Hellbanians не только торгуют наркотиками и занимаются вымогательством, но и записывают рэп собственного сочинения и снимают видео для Tik-Tok, на которых позируют с дорогими машинами и оружием. Это новая преступность – в стиле «лакшери». Лёгкой победы над ней точно не будет.
В VII веке до н. э. Афины, город, чьё имя спустя столетия станет синонимом демократии и просвещения, жили по законам иным, суровым и зачастую несправедливым. Власть в полисе безраздельно принадлежала эвпатридам – родовой знати, «благородным по происхождению». Эта узкая прослойка аристократии держала в своих руках не только лучшие земли Аттики, но и все рычаги управления. Высшие должностные лица, архонты, избирались исключительно из числа эвпатридов, и они же составляли грозный Ареопаг – совет старейшин, обладавший высшей судебной властью. Жизнь города и его граждан подчинялась их воле и их интересам.
Для подавляющего большинства афинян – демоса, состоявшего из мелких землевладельцев, ремесленников, торговцев, моряков и безземельных батраков-фетов – такая система означала постоянную зависимость и правовую уязвимость. Главная беда заключалась в том, что законы не были записаны. Правосудие основывалось на неписаных обычаях, древних традициях и прецедентах, знание и толкование которых было привилегией исключительно судей-аристократов. Это порождало атмосферу правовой неопределённости и открывало двери для прямого произвола. Решение суда могло зависеть от настроения судьи, от его личных симпатий или антипатий, от социального статуса сторон. Простолюдин, оказавшийся перед судом эвпатридов, часто чувствовал себя бесправным перед лицом тех, кто обладал и властью, и знанием неписаных правил игры.
Особенно тяжёлым бременем для демоса были долговые обязательства. В условиях рискованного земледелия, когда неурожай или засуха могли в одночасье лишить крестьянина средств к существованию, многие были вынуждены обращаться за займами к богатым землевладельцам-эвпатридам. Залогом часто служил сам земельный надел, а порой и личная свобода должника и членов его семьи. Непомерно высокие проценты и невозможность расплатиться приводили к массовому обезземеливанию и появлению долговой кабалы. Свободные афинские граждане рисковали потерять не только имущество, но и свободу, превратившись в рабов на земле своих же соотечественников. Это подрывало основы полисного единства и создавало взрывоопасную ситуацию.
Напряжение в афинском обществе нарастало. Глухое недовольство демоса произволом аристократии и долговым рабством грозило перерасти в открытый бунт. Попытка аристократа Килона единолично захватить власть около 632 г. до н. э., хотя и провалилась, показала всю остроту накопившихся противоречий. Стало ясно, что дальнейшее сохранение старых порядков невозможно. Первым и самым насущным требованием демоса стало требование записи законов. Люди жаждали правовой определённости, хотели знать свои права и обязанности, хотели ограничить произвол судей и получить хоть какую-то защиту от всевластия знати. Именно эта жажда порядка и справедливости, исходившая из недр афинского общества, и подготовила почву для появления первого афинского законодателя.
Перед лицом растущего народного недовольства и угрозы открытых столкновений афинская аристократия была вынуждена пойти на уступки. Понимая, что игнорировать требование записи законов больше нельзя, эвпатриды приняли решение о кодификации существующего права. Около 621 г. до н. э. эта ответственная миссия была возложена на Драконта – афинянина, о личности которого мы, к сожалению, знаем очень мало. Был ли он архонтом, специально избранным тесмофетом («законодателем») или просто уважаемым гражданином, известным своей мудростью и знанием обычаев, – источники не дают однозначного ответа. Но именно его имя навсегда вошло в историю как имя первого человека, давшего Афинам писаные законы.
Задача Драконта была сложна и деликатна. Ему предстояло не создать совершенно новую правовую систему, а собрать воедино, проанализировать, систематизировать и зафиксировать на письме те нормы и обычаи, которые уже действовали в афинском обществе. Это требовало не только юридических знаний, но и понимания традиций, умения отделить главное от второстепенного, найти компромисс между интересами разных слоёв общества, хотя, как покажут сами законы, компромисс этот оказался весьма своеобразным. Результатом его труда стал первый свод афинских законов, предположительно начертанный на деревянных досках-кирбах или каменных стелах и выставленный для всеобщего обозрения на агоре – центральной площади города.
Сам факт появления писаного закона стал событием эпохального значения для Афин. Отныне правовые нормы переставали быть тайным знанием узкого круга аристократов. Теоретически любой грамотный гражданин мог прийти на агору и прочитать закон, узнать, что дозволено, а что запрещено, и какое наказание последует за нарушение. Это ограничивало возможности для произвольного толкования и применения права со стороны судей. Теперь их решения должны были основываться на букве закона, а не только на их личном усмотрении или сословных интересах.
Писаный закон вносил в жизнь афинского полиса элементы стабильности, предсказуемости и равенства перед нормой (хотя и не равенства в наказаниях, как мы увидим). Он способствовал унификации правовой практики, преодолению местных различий и противоречий в обычаях. Хотя содержание драконовских законов вызвало неоднозначную реакцию и впоследствии было в значительной степени пересмотрено, сам факт их кодификации и публикации стал необратимым шагом вперёд. Драконт, возможно, сам того не до конца осознавая, открыл новую страницу в истории своего города, страницу, на которой право начало обретать зримую и общедоступную форму.
Имя Драконта навеки связано с понятием «драконовских мер» – законов или наказаний чрезвычайной, почти нечеловеческой суровости. Эта репутация закрепилась за ним благодаря свидетельствам античных авторов, писавших столетиями позже, которые подчёркивали беспощадность его законодательства. Знаменитая фраза о том, что его законы «писаны кровью», стала крылатой. Действительно ли первый афинский законодатель был столь кровожаден, или же это преувеличение потомков?
Источники, такие как Плутарх и Аристотель, сообщают, что отличительной чертой законов Драконта было чрезвычайно широкое применение смертной казни – окончательного и бесповоротного решения судьбы виновного. Утверждалось, что высшая мера наказания предусматривалась не только за самые тяжкие преступления, вроде умышленного убийства или преступлений против богов и государства, но и за деяния, которые по современным меркам кажутся незначительными. Ходила легенда, будто сам Драконт на вопрос о причине такой суровости отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, уже заслуживают смертного приговора, а для более крупных просто невозможно выдумать наказания страшнее. Если верить этим рассказам, то даже кража овощей с огорода или просто состояние праздности (нежелание трудиться) могли привести человека на плаху. Утрата жизни становилась расплатой за самые разные проступки.
Не менее суровыми предстают и законы, касавшиеся долговых обязательств. По-видимому, Драконт лишь закрепил в писаной форме уже существовавшую жестокую практику. Согласно его законам, человек, не сумевший выплатить долг кредитору, особенно если кредитор принадлежал к высшему сословию, рисковал потерять не только имущество, но и личную свободу. Долговая кабала, превращавшая свободных граждан в рабов, была узаконена. Даже заём был взят у человека равного или низшего статуса, неплательщика всё равно ждало наказание, хотя, возможно, и менее фатальное для его свободы. Эти нормы фактически ставили бедные слои населения в полную зависимость от богатых кредиторов и консервировали социальное неравенство.
Современные исследователи призывают относиться к этим описаниям с долей критики. Возможно, поздние авторы сознательно сгущали краски, чтобы подчеркнуть гуманизм последующих реформ Солона, который отменил наиболее жестокие положения драконовского кодекса, включая долговое рабство. Также вероятно, что Драконт не столько изобретал новые кары, сколько фиксировал суровые реалии архаической эпохи. В те времена человеческая жизнь ценилась иначе, а представления о справедливости были далеки от современных. Суровые наказания могли рассматриваться как единственное действенное средство для поддержания порядка и устрашения потенциальных преступников в обществе, ещё не имевшем развитой системы государственного принуждения. Запись этих суровых норм могла просто сделать их более заметными для потомков.
Тем не менее, дыма без огня не бывает. Сам факт того, что афинскому обществу уже через несколько десятилетий потребовались реформы Солона для смягчения законов и отмены долгового рабства, свидетельствует о том, что установления Драконта оказались чрезмерно жёсткими и не способствовали достижению социального мира. Возможно, его законы, ставя во главу угла защиту собственности и порядка любой ценой, не учитывали нужд и чаяний простого народа, что лишь усугубило социальную напряжённость.
По иронии судьбы, человек, чьё имя ассоциируется с предельной суровостью закона, согласно одной из самых необычных историй, дошедших из античности, встретил свой конец из-за… чрезмерной любви и популярности у сограждан. Рассказ о смерти Драконта, зафиксированный в источниках, написанных много веков спустя (например, в византийском словаре Суда), настолько странен и неправдоподобен, что большинство историков считают его легендой, а не реальным событием. Однако эта легенда весьма показательна и заслуживает внимания.
Предание гласит, что, несмотря на жёсткость установленных им законов, Драконт пользовался большим уважением в Афинах. Причины этой предполагаемой популярности не вполне ясны. Возможно, граждане были благодарны ему за сам факт появления писаных законов, внесших ясность и порядок в правовую жизнь и ограничивших произвол аристократии. Может быть, ценили его вклад в реформирование законов, касавшихся убийства. Так или иначе, в знак признания его заслуг было решено устроить в его честь торжественное собрание или представление. Место и время этого события в легенде указываются по-разному – иногда упоминается театр на острове Эгина, иногда афинский театр, а приводимая дата (590 г. до н. э.) выглядит крайне сомнительной, учитывая, что законы были кодифицированы около 621 г. до н. э., а реформы Солона, смягчившие их, произошли около 594 г. до н. э.
Как бы то ни было, легенда повествует, что когда Драконт появился перед собравшейся публикой, его встретили оглушительными овациями. В порыве восторга и признательности, следуя старинному обычаю выражать одобрение и почёт уважаемым людям, афиняне начали бросать на сцену или арену свои головные уборы – шляпы и шапки, а также верхнюю одежду – плащи и накидки-гиматии. Этот жест сам по себе был знаком высшего уважения. Однако число почитателей оказалось огромным, а их энтузиазм – неудержимым.
На несчастного законодателя обрушился настоящий шквал одежды. Плащи и шляпы летели со всех сторон, мгновенно погребая его под собой. Образовался огромный ворох из ткани и войлока. Когда сограждане, возможно, опомнившись от своего бурного проявления чувств, бросились разбирать эту гору, было уже поздно. Драконт, погребённый под знаками народной любви и признания, задохнулся. Избыток почестей оказался для него фатальным.
Трудно поверить в достоверность этого рассказа. Он больше похож на басню или мрачный анекдот, иллюстрирующий превратности судьбы или опасность неумеренной народной любви. Возможно, легенда возникла, как попытка объяснить, почему имя Драконта, столь значимое для ранней афинской истории, практически исчезает из источников после кодификации законов. Или же она стала просто яркой деталью, добавившей трагикомизма к образу сурового законодателя. Независимо от её историчности, легенда о смерти Драконта от удушья под ворохом плащей и шляп остаётся одной из самых курьёзных историй о кончине известных личностей в мировой истории. Это парадоксальный финал для человека, чьи законы ассоциировались с суровой неотвратимостью, – погибнуть не от меча или яда, а от удушающих объятий славы.
Эпоха рыцарства оставила нам не только величественные замки и будоражащие кровь легенды, но и стойкий, почти архетипический образ – воина, облаченного в сияющую сталь с ног до головы. Однако в народной памяти этот образ часто искажается, превращаясь в карикатуру: неповоротливый железный истукан, отягощенный мифическим центнером металла, беспомощный без целой свиты оруженосцев. Рассказы о рыцарях, неспособных подняться при падении, словно жуки на спине, множатся, подпитываемые эффектными, но исторически сомнительными сценами из кинематографа. Но стоит лишь отойти от этих заманчивых клише, отбросить шелуху романтических преувеличений и взглянуть на реальные артефакты – молчаливых свидетелей ушедших битв, хранящихся в музейных коллекциях, – как перед нами предстает иная, куда более сложная и прагматичная картина.
Полный боевой доспех эпохи его расцвета, выкованный для суровой реальности боя где-нибудь в XIV-XVI веках, был не просто грудой железа, а вершиной защитных технологий своего времени, сложной инженерной системой. И вес этой системы редко выходил за пределы 20-30 килограммов. Да, это ощутимая ноша, но она была сравнима с выкладкой солдата XX или XXI века. Подлинный секрет крылся не столько в абсолютном весе, сколько в его распределении по телу. Доспех не висел мертвым грузом на плечах. Подобно панцирю ракообразного, он облегал тело, и сложная, тщательно продуманная система кожаных ремней, стальных пряжек и подвижных сочленений – шарниров, скользящих заклепок, нахлестывающихся пластин – равномерно распределяла нагрузку по всему скелету. Хорошо подогнанный, изготовленный по мерке доспех становился второй кожей воина – стальной, но на удивление податливой оболочкой, дарующей не только защиту, но и уверенность.
Забудьте о кинематографичном грохоте – звук идущего войска в латах был иным. Приглушенный лязг металла о металл, скрип кожи, шелест кольчужных вставок под пластинами, ритмичный стук стальных сабатонов по камням мостовой или чавканье по раскисшей грязи поля боя. Источники – хроники, миниатюры, даже дошедшие до нас учебники фехтования – изображают воинов, действующих в доспехах с поразительной энергией и ловкостью. Они сражаются пешими, потеряв коня, карабкаются на стены осажденных городов, выполняют сложные фехтовальные приемы. Современные эксперименты с точными репликами доспехов лишь подтверждают: в них можно бегать, кувыркаться, падать и вставать без посторонней помощи. Миф о беспомощности, скорее всего, родился из вида поверженных, раненых или обессиленных бойцов, либо же из-за путаницы с гротескно тяжелыми турнирными гарнитурами – эффектными, но совершенно не предназначенными для реальной схватки.
В кипящем аду сражения, где смерть поджидала на каждом шагу, подвижность ценилась не меньше, чем толщина стали. Способность увернуться, вовремя отступить или стремительно атаковать – вот что часто отделяло живого от мертвого. Мастер-оружейник, склонившийся над наковальней, решал сложнейшую задачу: как выковать броню, способную остановить вражеский клинок, но не превратить воина в медлительную, обреченную мишень? Средневековый доспех – это зримый ответ на этот вызов, памятник вековому поиску идеального баланса между защитой и движением.
Принцип «разумной достаточности» особенно нагляден на примере защиты рук и ног. Здесь толщина металла и сложность конструкции варьировались, подчиняясь жестокой логике войны: там, где вероятен прямой удар – прочнее, там, где важнее гибкость – легче и тоньше.
Взгляните на стальные «чулки», защищавшие ноги воина: поножи для голеней, фигурные наколенники, набедренники и латные сабатоны, повторяющие каждый изгиб стопы. Это не были грубые металлические цилиндры. Там, где нога встречала землю или удар врага – на колене, передней части голени, подъеме стопы – сталь была толще, достигая 1.5-2 мм. Но сзади, на икре, или на внутренней поверхности бедра – там, где прямое попадание менее вероятно, а свобода движения критична для верховой езды и маневра – металл был тоньше, порой около 1 мм. А суставы! Колени, лодыжки – здесь кузнецы творили чудеса, создавая сложные системы из множества мелких, подвижно соединенных пластин, работающих как единое целое, позволяя ноге сгибаться почти так же свободно, как и без доспеха. Вся эта сложная конструкция для пары ног весила обычно не более 3-5 кг.
Латные перчатки – вот где разворачивалась настоящая битва между непробиваемостью и ловкостью. Как защитить уязвимые пальцы от дробящего удара, но сохранить чувствительность, необходимую для уверенного хвата меча, топора или копья? Толщина металла здесь редко превышала 0.8-1.5 мм. Пластины тщательно подгонялись, сочленялись на мельчайших заклепках и кожаных ремешках, превращая перчатку в произведение искусства. Выбор был между перчатками с отдельными пальцами, дающими максимум свободы, или латными рукавицами, лучше держащими удар, но несколько сковывающими движения. Весила пара таких стальных рук от 0.5 до 1.5 кг. Абсолютной защиты они не давали – сокрушительный удар молота мог превратить кисть в фарш, – но от большинства угроз на поле боя они спасали надежно.
Защита рук выше кисти – наплечники, наручи, налокотники – строилась по той же логике. Часто асимметричные наплечники, с усиленным левым плечом для кавалерийской сшибки, состояли из нескольких сегментов. На внешней стороне предплечья и на локте толщина стали достигала 1-2 мм, но внутренняя сторона руки, необходимая для сгибания, часто оставалась защищенной лишь слоями стеганой ткани и кольчуги. Вес полного стального «рукава» – 2-3 кг. Все подчинялось одной цели: рука должна быть защищена, но при этом оставаться подвижной.
Кираса – нагрудник и наспинник – была ядром доспеха, его цитаделью, прикрывавшей жизненно важные органы. Казалось бы, уж здесь-то мастера не должны были экономить на толщине! Но реальность вновь расходится с ожиданиями. Даже защита торса была легче, чем принято думать.
Представьте гулкую полутьму оружейной мастерской где-нибудь в Милане или Инсбруке. Раскаленный добела металл на наковальне, ритмичный танец молотов в руках мастеров, выковывающих из бесформенного куска стали изогнутую, упругую пластину. Они знают – каждый лишний грамм веса может стоить воину жизни в бою. Поэтому вес полной кирасы (нагрудник и спина) в XV-XVI веках обычно колебался в пределах 4-8 кг. Встречающиеся в музеях нагрудники весом 2.5 кг или 4 кг (последний – с характерным усилением с одной стороны для защиты от копья) – яркое тому подтверждение. Спинная пластина часто была еще легче.
Толщина металла кирасы не была константой. В центре груди, там, где ожидался самый сильный удар, она могла достигать 2-3 мм, а у специальных кирас, способных выдержать выстрел из мушкета – даже 4 мм. Но к краям, на боках, толщина уменьшалась до 1-1.5 мм. Эта дифференциация была ключом к снижению веса без фатальной потери прочности.
Не менее важной была и форма. Выпуклые, сферические поверхности заставляли клинки и наконечники соскальзывать. Ребра жесткости, как на готических доспехах, или сложная рифленая поверхность максимилиановских лат работали как современные ребра жесткости в конструкциях – повышали прочность без увеличения массы. Форма становилась частью защиты.
И конечно, цена. Полный доспех стоил баснословно дорого – как небольшое поместье или стадо породистого скота. Это было не просто снаряжение, но и символ статуса, доступный лишь элите. Каждый доспех был штучным изделием, результатом труда высококвалифицированных мастеров, чье искусство ценилось на вес золота.
Нигде так ярко не видна пропасть между реальной войной и рыцарскими играми, как при сравнении шлемов. С одной стороны – сверхпрочные, но неудобные конструкции для турниров, с другой – компромиссные, но функциональные шлемы для поля брани.
Турнирный шлем «жабья голова», созданный для копейной сшибки, был воплощением абсолютной защиты. Его единственная цель – выдержать удар копья на полном скаку. Обзор – узкая щель, дышать трудно, повернуть голову невозможно. Толщина стали во лбу могла достигать 4-6 мм, а вес – 5-8 кг. В таком шлеме можно было пережить таранный удар, но не вести бой. Мир превращался в набор приглушенных звуков и узкую полоску реальности перед глазами.
Боевой шлем – совсем другое дело. Будь то грозный бацинет с забралом «собачья морда», элегантный салад с длинным назатыльником или полностью закрытый армэ – здесь царил баланс. Воину нужно было видеть, слышать, дышать, сохранять подвижность шеи. Вес таких шлемов обычно не превышал 2-4 кг. Толщина стали в самых уязвимых местах – 1.5-3 мм. Цифра в 1.5 мм может показаться незначительной, но качественная, закаленная сталь такой толщины, имеющая правильную обтекаемую форму, способна была отклонить удар меча или остановить стрелу. Холодным утром перед битвой из-под забрала вырывались облачка пара, глаза напряженно вглядывались во врага сквозь прорези. Боевой шлем не делал воина неуязвимым – меткий удар клевцом или выстрел из арбалета в упор могли стать фатальными, – но он давал шанс. Шанс выжить и победить.
Так почему же средневековые оружейники, чье мастерство не вызывает сомнений, так часто предпочитали делать доспехи относительно тонкими? Это не было следствием неумения или недостатка материала. Это был осознанный выбор, продиктованный суровой реальностью войны и экономики.
Технологии и экономика: Процесс превращения руды в качественную сталь, а затем в лист металла нужной толщины был невероятно трудоемок и дорог. Каждый этап требовал мастерства, сырья и времени. Ручная ковка больших пластин была сложнейшей задачей. Экономия даже килограмма стали на доспехе была существенной, учитывая стоимость материала. Доспех был инвестицией, и его стоимость должна была быть оправдана.
Выносливость и перегрев: Война – это не только лязг стали, но и пот, грязь, кровь и предельное напряжение сил. Многочасовые битвы, изнурительные марши под палящим солнцем или ледяным дождем. Человек внутри доспеха, активно двигаясь, рисковал получить тепловой удар не реже, чем удар мечом. Истощение было таким же врагом, как и противник на поле боя. Облегчение доспеха было вопросом сохранения боеспособности воина.
Тактика и мобильность: Армия – это не только закованные в сталь рыцари. Это пехота, лучники, арбалетчики, саперы. Солдат должен был не только сражаться, но и идти десятки километров, нести снаряжение, копать рвы, строить укрепления. Чрезмерно тяжелый доспех сковывал бы маневренность армии, превращал бы солдат в вымотанных калек еще до начала битвы. Доспех должен был защищать от основных угроз, но не ценой потери стратегической и тактической подвижности.
Мастерство оружейников: Искусство средневековых мастеров заключалось не только в ковке, но и в знании свойств металла. Они владели секретами термообработки – закалки и отпуска, которые позволяли придать стали высокую твердость и упругость при относительно небольшой толщине. Они виртуозно использовали геометрию доспеха, заставляя удары соскальзывать, из-за чего львиная доля их силы уходила в «молоко». Сочетание качественного материала, искусной работы и глубокого понимания физики позволяло создавать доспехи, удивительно эффективные при своем весе.
Вглядываясь в средневековый доспех, мы должны видеть не просто стальную оболочку, а сложный, высокотехнологичный (для своего времени) инструмент, рожденный на стыке войны, ремесла и экономики. Его относительная легкость – не признак несовершенства, а свидетельство гениального прагматизма эпохи, когда от прочности и степени обработки куска стали зависели не только жизни отдельных воинов, но и судьбы целых королевств.
Там, где теплые волны Ионического моря омывают плодородные земли Тарентийского залива, в удачно расположенном уголке Южной Италии, когда-то раскинулся город, чье имя стало легендой – синонимом неги, почти невероятного богатства и самых изысканных удовольствий. Сибарис. Само это слово, дошедшее до нас сквозь века, будто несет в себе ароматы драгоценных масел и вкус редких вин. Основанный ахейскими колонистами из Греции около 720 года до н. э., в эпоху большой греческой экспансии на запад, этот полис в так называемой Великой Греции, казалось, был рожден под счастливой звездой – сама природа будто создала его для процветания. Небольшое пояснение: Великая Греция (Magna Graecia) – это не сама Греция, а совокупность греческих колоний в Южной Италии и на Сицилии.
Представьте эту землю: щедрое южное солнце, мягкий климат, изумрудные равнины, обильно орошаемые двумя реками – Кратис и Сибарис (давшей название городу), которые несли свои воды к морю, даря жизнь. Здесь все росло с удивительной легкостью, море у берегов было полно рыбы, а удобные гавани привлекали корабли купцов со всей ойкумены. Неудивительно, что Сибарис быстро расцвел и стал одним из богатейших и влиятельнейших полисов своего времени, своим блеском затмевая многие города самой Эллады.
Его жители, сибариты, прославились далеко за пределами Италии своим огромным богатством и чрезмерной любовью к роскоши и телесному комфорту. Насколько правдивы эти рассказы? Сложно сказать наверняка. Но даже немногие свидетельства подтверждают: Сибарис был не просто богатым, но и важным культурным центром. Здесь процветали искусства, философия, ремёсла; местные ювелиры, ткачи, парфюмеры славились своим мастерством. Город был крупным торговым узлом, куда стекались купцы из Афин, Коринфа, Этрурии, Карфагена. Его влияние распространялось далеко, а его монета была одной из самых уважаемых.
Слово «сибарит» навсегда вошло в языки как обозначение человека, ценящего комфорт и удовольствия превыше всего. Этот образ жизни был одновременно и предметом восхищения (как символ успеха), и объектом критики (как признак упадка). Но пока удача сопутствовала Сибарису, его жители могли не обращать внимания на пересуды.
В течение VI века до н. э. Сибарис достиг пика могущества и стал доминирующей силой в Южной Италии. Это был не просто мирный торговый город, но и активный политический игрок, который без колебаний применял силу для расширения своего влияния и контроля над торговыми путями. Действуя в союзе с Кротоном и Метапонтом, сибариты не чурались завоевательных походов. Жертвой этой коалиции стал процветающий ионийский город Сирис. После ожесточенной борьбы он был разрушен до основания, а его плодородные земли между реками Агри и Синни были захвачены и поделены, причем большая часть досталась Сибарису. Эта победа расширила территорию сибаритского государства и укрепила его положение, устранив опасного конкурента.
Видимым символом растущей мощи и процветания Сибариса стали его серебряные монеты – номосы или статеры. Их чеканили в огромных количествах, и они имели широкое хождение по всему Средиземноморью. На лицевой стороне (аверсе) обычно изображался могучий бык, символ силы и плодородия, оглядывающийся назад – возможно, как знак защиты. Легенда (надпись на монете) гордо гласила: «ΣΥΒΑΡΙΣ» («Сибарис»).
Но самой поразительной особенностью была уникальная техника чеканки – «инкузная» (incusa). В отличие от большинства монет, сибаритские имели одно и то же изображение быка на обеих сторонах: на аверсе – выпуклое, на реверсе (оборотной стороне) – точно такое же, но вдавленное. Это требовало высочайшего мастерства резчиков штемпелей и создавало необычный эффект, затрудняя подделку.
Помимо легендарного богатства и любви к удовольствиям, сибариты славились ещё одним, гораздо более впечатляющим искусством – искусством верховой езды и уникальной дрессировки лошадей с помощью музыки. Лошади, обученные реагировать на определённые мелодии и ритмы, двигались с поразительной слаженностью. Представьте: сотни всадников в сверкающих доспехах на великолепных конях. Раздаются звуки флейт и лир, и конница приходит в движение – не беспорядочным галопом, а сложным, синхронным танцем. Лошади выполняли перестроения, повороты, ускорения, следуя только музыкальным фразам. Эта «танцующая кавалерия», если верить легендам, была грозной боевой силой. Атака такого подразделения, несущегося в идеальном строю под звуки музыки, должна была оказывать не только физическое, но и огромное психологическое воздействие.
К концу VI века до н. э. Сибарис был грозной силой. Его процветание подкреплялось агрессивной политикой и внушительной военной мощью. Город утопал в роскоши, чеканил деньги и свысока смотрел на соседей, не подозревая, что его слава близится к закату.
Золотой век Сибариса оборвался внезапно, когда вчерашние союзники стали врагами. В судьбоносном 510 году до н. э. альянс Сибариса, Кротона и Метапонта распался. Причины этого туманны: борьба за лидерство, споры о территориях, возможно, идеологические разногласия (влияние пифагорейцев в Кротоне против сибаритского гедонизма).
Гордые сибариты решили нанести удар первыми. Собрав огромную армию во главе с легендарной музыкальной кавалерией, они двинулись на Кротон, уверенные в лёгкой победе. Войско шло под бравурные мелодии, под которые кони привыкли выполнять сложные маневры.
Но кротонцы были готовы. Годы союзничества позволили им хорошо изучить врага. Зная о зависимости сибаритской кавалерии от музыки, они приготовили коварную ловушку.
Настал день битвы. Сибаритская конница, сверкая доспехами, выстроилась для атаки. Заиграли флейты и лиры сибаритов, задавая ритм. Кони пришли в движение, начиная свой смертоносный танец. И тут из рядов кротонцев раздалась другая музыка – странная, дикая, аритмичная, полная резких звуков. Эти резкие звуки смешались с мелодиями сибаритов, создавая невыносимый звуковой хаос. Приученные следовать музыкальным командам, кони сибаритов пришли в полное смятение. Строй нарушился, животные спотыкались, шарахались, сталкивались друг с другом. Идеальный порядок превратился в хаос. Паника охватила и лошадей, и людей. Музыка, их сила, стала их проклятием.
Эта яркая, почти кинематографическая картина краха непобедимой сибаритской конницы кажется нелепой, если отринуть весь пафос и посмотреть на ситуацию с точки зрения реалий войны. Так ли всё было на самом деле? Или это лишь красивая, но недостоверная легенда, рожденная на руинах Сибариса, чтобы объяснить его столь внезапное и полное падение?
Прежде всего, обратимся к источникам. Увы, первичные свидетельства, наиболее близкие по времени к событиям 510 г. до н. э., крайне скудны и кратки. Геродот, наш главный и наиболее надёжный источник по греческой истории V века до н. э., упоминает сам факт войны между Сибарисом и Кротоном, сокрушительное поражение сибаритов и последующее разрушение их города, но – ни единым словом не обмолвился о какой-либо необычной музыкальной тактике или танцующих конях.
Диодор Сицилийский, писавший уже в I веке до н. э. и часто использовавший более ранние, не дошедшие до нас источники, приводит совершенно фантастические (и явно неправдоподобные для греческих полисов той эпохи) цифры участвовавших армий – 300 000 воинов у Сибариса против 100 000 у Кротона. Это отражает скорее легендарный масштаб события в памяти потомков, чем реальность. Но Диодор также полностью умалчивает о какой-либо музыкальной дуэли, приведшей к победе.
Практически единственным источником, донёсшим до нас эту живописную легенду, остаётся Афиней из Навкратиса, учёный грек, живший и писавший значительно позже, на рубеже II и III веков нашей эры, то есть спустя почти семь столетий после описываемых событий. Его монументальный труд «Пир мудрецов» («Deipnosophistae») – это не столько строгая историческая хроника, сколько огромная, пестрая подборка цитат, анекдотов, застольных бесед на самые разные темы: от тонкостей кулинарии и видов рыб до литературной критики, философии и нравов древних. Афиней был скорее эрудитом-коллекционером, энциклопедистом, стремившимся блеснуть своими обширными, хотя и не всегда глубокими знаниями и развлечь образованного читателя, нежели критически мыслящим историком, проверяющим факты. Он часто цитировал ныне утраченные труды других, самых разных авторов, но делал это не всегда точно и зачастую без должной проверки на достоверность.
Поэтому, хотя Афиней сохранил для нас множество интересных деталей и фрагментов античной культуры, к его сообщениям о конкретных исторических событиях, особенно таким сенсационным, драматичным и анекдотическим, следует относиться с предельной осторожностью. Вероятнее всего, он просто пересказал ходивший в его время красочный миф, не слишком заботясь о его исторической подоплёке, ведь он идеально ложился в канву повествования о нравах изнеженных сибаритов.
Что же тогда случилось на том поле битвы у Кротона, если отбросить красивую, но сомнительную легенду? Мы можем попробовать реконструировать более прозаичную, но и более вероятную картину.
Сибарис, несомненно, был одним из богатейших и самых густонаселённых городов Великой Греции, способным выставить очень крупную армию, вероятно, превосходившую по численности кротонскую (хотя и не в тех пропорциях, что указал Диодор). Её ядром, вполне возможно, действительно была прекрасно оснащённая и обученная кавалерия – традиционная опора власти богатой земельной аристократии в греческих полисах.
Кротон же, хотя и уступал Сибарису в роскоши и, возможно, численности населения, был известен по всей Элладе своими выдающимися атлетами (достаточно вспомнить легендарного борца Милона Кротонского, многократного победителя самых престижных общегреческих игр), что свидетельствует о высочайшем уровне физической подготовки граждан. Вероятно, кротонцы обладали более дисциплинированной, сплочённой и лучше обученной тактике боя пехотой – гоплитами.
Не исключено, что моральный дух кротонцев был действительно поднят присутствием в их городе великого философа Пифагора и его многочисленных учеников. Хотя его прямое участие в военных действиях или командовании армией крайне сомнительно и относится скорее к области легенд (как и живописные рассказы о том, что битву возглавлял сам Милон, вышедший на поле в львиной шкуре и с дубиной Геракла), само влияние пифагорейского учения, проповедовавшего строгую дисциплину, порядок, аскетизм и презрение к сибаритской изнеженности, вполне могло укрепить стойкость и боевой дух кротонского войска перед лицом более многочисленного, но, возможно, менее мотивированного врага.
Судьбу битвы, скорее всего, решило не волшебство музыки, а суровая военная реальность и тактическое мастерство. Возможно, всё решилось в центре, в жестокой, кровавой схватке двух фаланг – стен щитов и копий, где более стойкие, лучше управляемые и, возможно, более яростно сражавшиеся кротонские гоплиты сумели выдержать первый натиск, а затем прорвать или опрокинуть строй сибаритской пехоты, решив тем самым исход всего сражения. Или же сибаритское командование, ослеплённое своей гордыней и презрением к противнику, допустило фатальные тактические ошибки – выбрало неудачное место для битвы, неверно оценило силы и решимость кротонцев, начало атаку слишком рано или, наоборот, промедлило, позволив врагу подготовиться.
А как же кавалерия, главная надежда Сибариса? Даже если она не танцевала под флейту, она оставалась грозной силой. Но и против неё у опытных военачальников существовали вполне земные и эффективные методы борьбы. Кротонцы могли встретить атаку сибаритских всадников плотным, ощетинившимся копьями строем пехоты, о который разбилась бы любая, даже самая стремительная конная атака. Могли заманить кавалерию на пересечённую, неудобную для неё местность (если таковая была поблизости) или использовать какие-то полевые укрепления.
И, наконец, нельзя исключать элемент психологического воздействия, но совершенно иного рода, чем изысканная музыкальная дуэль. Легенда о музыке могла родиться из вполне реального тактического приёма. Кротонцы, зная о ставке сибаритов на мощную кавалерийскую атаку, вполне могли использовать массированный шумовой эффект – оглушительный, согласованный рёв тысяч глоток, грохот ударов мечей или копий о щиты, пронзительные, дикие сигналы боевых труб и рогов. Громкий, резкий, хаотичный шум, внезапно обрушившийся на наступающих, действительно способен напугать даже самых тренированных боевых коней, вызвать у них инстинктивную панику, заставить их шарахаться, ломать строй и переставать слушаться всадников. Этот простой, но эффективный приём психологической войны, применявшийся с древнейших времён, позже легко мог быть приукрашен античными рассказчиками и превращён народной молвой в красивую и запоминающуюся сказку.
Не стоит сбрасывать со счетов и возможное влияние внутренних проблем в самом Сибарисе. Некоторые античные источники, хотя и не самые надёжные, туманно намекают на серьёзные внутренние политические распри, установление тирании неким Телисом и изгнание им части аристократической оппозиции незадолго до войны. Эти события могли ослабить единство города, подорвать боевой дух армии и лишить Сибарис потенциальных союзников в решающий момент.
Таким образом, наиболее вероятно, что сокрушительное поражение Сибариса в битве при Кротоне было вызвано не волшебной силой аритмичной мелодии, а совокупностью вполне реальных военных и политических факторов: возможным превосходством кротонской армии (прежде всего, пехоты) в дисциплине, тактике или качестве командования; фатальными ошибками самих сибаритов, ослеплённых своей гордыней и богатством; и, не исключено, весьма эффективным использованием кротонцами шумовых или иных психологических приёмов для дезорганизации и устрашения вражеской конницы на решающем этапе боя.
Легенда же о музыкальной битве, столь полюбившаяся потомкам, осталась в истории как яркая, но скорее символическая и нравоучительная метафора неизбежного краха изнеженной, самовлюблённой цивилизации, не сумевшей ничего противопоставить суровой военной реальности. Именно в этот критический момент, когда грозный строй сибаритской кавалерии был сломлен и превратился в мечущуюся, беспомощную толпу, кротонцы нанесли свой решающий, смертельный удар. Видя смятение и панику в рядах противника, их воины, воспрянув духом и почувствовав близкую победу, с яростью ринулись вперёд. Это была уже не битва равных, а безжалостное избиение дезориентированного, потерявшего управление и волю к сопротивлению врага.
Разгром кавалерии на поле у Кротона стал для города смертным приговором, подписанным кровью его лучших сыновей. Лишившись своей главной ударной силы, своей элиты, Сибарис был обречён. Деморализованные остатки сибаритского войска, потерявшие веру в себя, в своих командиров и, возможно, даже в своих богов, не смогли оказать серьёзного сопротивления торжествующим, опьянённым победой кротонцам. Путь на Сибарис был открыт.
Победители хлынули в самый блистательный и богатый город эллинского мира, и месть их была страшна и беспощадна. Вековая зависть к показной и почти оскорбительной роскоши и высокомерию сибаритов вылилась в слепую, разрушительную ярость. Кротонцы, похоже, не стали утруждать себя взятием пленных или долгим и методичным грабежом накопленных за два столетия сокровищ – их целью было не обогащение, а полное, окончательное уничтожение ненавистного соперника, искоренение самой памяти о нём, превращение его гордого имени в предостерегающий миф, в страшную сказку для непослушных детей.
Дома простых граждан и роскошные дворцы аристократов – всё было предано огню и разрушению. Пламя пожирало дерево, камень трескался и рушился, превращая город в гигантский погребальный костёр. Статуи богов и героев были разбиты вдребезги, драгоценная утварь из золота и серебра переплавлена или унесена как трофеи. Жители Сибариса, не успевшие или не пожелавшие бежать из обречённого города в поисках спасения в соседних полисах или у варварских племён, были безжалостно перебиты – мужчины, женщины, старики, дети – или обращены в рабство, что в те времена часто было участью горше и унизительнее быстрой смерти. Город, ещё совсем недавно сиявший великолепием и роскошью, полный музыки, смеха, ароматов изысканных кушаний и дорогих благовонных масел, за считанные дни или недели превратился в огромное, чадящее пепелище, в безжизненные, почерневшие руины под вечно синим, но теперь таким холодным и равнодушным южным небом.
Но победителям и этого показалось мало. Они хотели гарантировать, что Сибарис никогда, никогда больше не возродится из этого пепла, что даже само место, где он стоял, будет непригодно для жизни на многие поколения вперёд. И тогда они решили изменить само русло реки Кратис, той самой реки, что веками поила город и его плодородные поля. С помощью неимоверных усилий – вероятно, потребовались труд и пот десятков тысяч рабов, пленных или мобилизованных союзников – они заставили непокорную реку свернуть со своего привычного, проложенного самой природой пути и направили её воды прямо на дымящиеся, ещё не остывшие руины поверженного врага.
Мутный поток, несущий с гор ил, песок и камни, хлынул на то место, где ещё недавно стояли гордые стены, великолепные храмы и роскошные виллы Сибариса, затопляя развалины, смывая пепел и кровь, погребая под толстым, плотным слоем речных наносов последние остатки былого великолепия. Улицы, площади, фундаменты домов, обломки колонн, черепки амфор, тела убитых – всё скрылось под водой. Река, бывшая кормилицей Сибариса, стала рекой забвения, его Летой, символически и физически стирая его с карты мира, хороня так глубоко, что даже место его точного расположения было утеряно для истории на долгие века.
Так бесславно и страшно погиб Сибарис – город неслыханной роскоши, утончённой культуры, музыки и легендарных танцующих коней. Само слово «сибарит» навсегда вошло во многие языки мира как символ изнеженности, праздности и безудержной любви к удовольствиям, стало его своеобразным памятником.