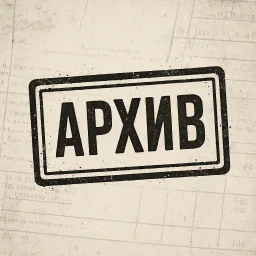Гуситские войны
3 поста

3 поста

3 поста
Представьте: маленький отряд крестьян, ремесленников и городских оборванцев стоит на холме у Виткова. Против них — тысячная армия закованных в броню рыцарей. У первых — кони, мечи, знамёна с крестами. У вторых — возы, цепи и вера. Командует ими человек, который видит только одним глазом. А потом — и вовсе слепнет. Но всё равно побеждает.
Звали его Ян Жижка.
Именно он сделал из возов — оружие. Из обоза — армию. Из толпы — народ.
Ян Жижка из Троцнова (ок. 1370 — 1424) — фигура почти мифологическая. Для чехов он — национальный герой. Для европейских историков — загадка. Для католиков своего времени — страшный сон. Военачальник, ни разу не проигравший битву. Генерал, сражавшийся, будучи полностью слепым. Такого не было ни до, ни после.
Но до славы он был... никем.
Родился в южной Чехии в мелкопоместной семье. Молодость провёл в войнах и грабежах. Служил наёмником у польского короля Владислава Ягелло, участвовал в знаменитой Грюнвальдской битве (1410) против Тевтонского ордена. Оттуда, по одной из версий, вернулся уже с травмированным глазом.
А потом случилось главное — Ян Гус.
Казнь Яна Гуса в 1415 году стала для чехов не просто трагедией. Это был взрыв.
Гус — богослов, проповедник, ректор Пражского университета — требовал реформ церкви. Он говорил, что Церковь не может жить как торговец, что простым людям нужна чаша на причастии, а не запрет. Что Иисус — глава церкви, а не папа. Его обвинили в ереси и сожгли на костре в Констанце.
И вот тогда простые чехи, униженные налогами, грабежами и церковной продажностью, пошли в бой.
Не за золото. А за правду.
Жижка стал их вождём.
У рыцарей были латные доспехи.
У Жижки — телеги.
Он взял обычный обоз, поставил повозки в круг, усилил их досками, прикрыл щиты — и получилась подвижная крепость. Внутри — лучники, арбалетчики, копейщики, в углах — протоартиллерия (ручные гаковницы). Снаружи — цепи, рогатины, заострённые колья.
Это был вагенбург — тактическая революция.
Рыцари, привыкшие к открытым полям, не знали, что делать. Лобовая атака — гибель.
А Жижка бил их изнутри. Жёстко. Быстро. И всегда неожиданно.
В 1420 году на Прагу шёл первый крестовый поход. Папа Мартин V объявил войну еретикам.
Император Сигизмунд повёл рыцарей на Витков холм. Казалось — всё кончено.
Но именно здесь Жижка впервые стал Жижкой.
С отрядом из нескольких сотен он отразил натиск тысяч. Прямо под Прагой. Прямо в сердце империи.
Потом был Судомержице, Гораждёвице, Усти, Кутна-Гора... И все — победы.
В 1421 году Жижка теряет и второй глаз. Полностью. Безвозвратно.
И... продолжает командовать армией.
Он ездит на повозке, получает донесения, рисует карты пальцем по песку. Он всё помнит. Он всё видит — другим способом.
Сначала — рыцари. Потом — и его бывшие соратники.
Потому что гуситы разделились: умеренные (утраквисты) и радикалы (табориты). Первые хотели реформ и компромисса. Вторые — свержения всей системы.
Жижка был с таборитами. С теми, кто строил первую в истории военную коммуну:
Общее имущество
Коллективные решения
Строгая мораль
Абсолютная дисциплина
Из «Подвигов таборитов» Рубцова: «Жижка создал армию, где воины жили как братья, ели из одного котла и умирали в одном строю».
Да, Жижка был суров.
Он вешал, жёг и карал — без колебаний. Особенно священников, которых считал «продавцами Бога». По приказу сжигались монастыри, а тех, кто выступал за переговоры с Сигизмундом, нередко убивали.
Для Дени Жижка — пророк с мечом.
Для Рубцова — революционер и диктатор.
Для истории — гений, рождённый в огне войны.
Умер Жижка в 1424 году. От чумы. Где-то под Пршибрамом. Он не дожил до решающих битв. Его армия, названная позже Сиротами, продолжила борьбу. Сражалась до конца. И проиграла лишь в 1434 году, в битве при Липанах — от рук других чехов.
По легенде, Жижка завещал сделать из его кожи барабан, чтобы даже после смерти его сердце било по врагам. Исторически это не подтверждено — но чехи верят.
Жижка — не просто полководец. Это ответ на вопрос: что бывает, когда у народа отбирают право на голос, веру и достоинство. Он создал армию из тех, кого не считали за людей. Он победил тех, кто считал себя избранными.
Он не писал трактатов. Он действовал. И его действия изменили Европу.
Потому что после Гуса и Жижки Рим уже не был непогрешимым.
И без этих «телег смерти» не было бы ни Реформации, ни Мюнстера, ни Лютера.
История знает много великих генералов. Но только один из них командовал, не видя света.
Дени Э. Гус и гуситские войны. — М.: Клио, 2016.
Рубцов С. Н. Гуситские войны: Великая крестьянская война XV века в Чехии. — М.: Политиздат, 1987.
Рубцов С. Н. Подвиги таборитов. — М.: Мысль, 1983.
Когда в Праге в 1419 году на улицах впервые пролилась кровь в битве за церковные обряды, никто не мог поверить, что началась самая жестокая религиозная война того времени. Символом этой войны стала чаша с вином. Почему же чехи пошли на смерть ради такого простого религиозного символа?
Причастие (Евхаристия) в средневековой католической церкви выглядело иначе, чем сейчас. Мирянам позволялось вкушать только хлеб (тело Христово), в то время как вино (кровь Христова) пил исключительно священник. В XIV–XV веках в Чехии многие верующие стали задумываться, почему простой народ лишён этого права. Неужели священники ближе к Богу?
Именно Ян Гус и его последователи первыми заговорили о необходимости вернуть мирянам право причащаться и вином, как это делали первые христиане. Для гуситов это стало принципиальным вопросом: «Почему одни должны быть ближе к Христу, а другие дальше?»
После казни Яна Гуса в 1415 году Чехию охватило возмущение. Гнев выплеснулся не только на католическую церковь, но и на немецкую знать, поддерживавшую римские порядки. Вскоре были сформулированы знаменитые «Четыре пражские статьи»:
Свобода проповеди Евангелия.
Причастие для мирян под обоими видами (хлебом и вином).
Лишение духовенства богатства и возврат церкви к бедности.
Справедливое наказание за грехи для всех, независимо от положения.
Среди всех пунктов именно второй стал символом борьбы — чаша с вином превратилась в знамя сопротивления. Именно за чашу вскоре тысячи людей готовы были идти на смерть.
30 июля 1419 года в Праге произошла первая «Пражская дефенестрация» — католические чиновники были выброшены гуситами из окон городской ратуши. Это событие стало сигналом к началу открытой войны. Смерть короля Вацлава IV вскоре после этих событий окончательно погрузила Чехию в хаос. Королевство разделилось на два лагеря: сторонники папы и те, кто требовал реформы церкви.
С этого момента чаша стала не только символом духовного равенства, но и знамением революции, которая охватила Чехию, Моравию, Силезию и вскоре потрясла всю Европу.
Гуситское движение было уникальным феноменом. Люди, прежде далёкие от войны — ремесленники, крестьяне, горожане, женщины и даже дети — взяли оружие, чтобы защитить свои религиозные убеждения. Так родилась армия, которой Европа ещё не видела: армия простых людей, готовых идти на смерть ради своей веры.
Лидером этой армии стал Ян Жижка, суровый воин с одной слепой глазницей, бывший наёмник и разбойник, ставший самым выдающимся полководцем гуситских войн. Он привёл эту армию к первым победам, заставив дрожать даже рыцарей самого императора.
Европа не могла терпеть открытого неповиновения. Папа Мартин V объявил гуситов «врагами Христа» и призвал европейских монархов к крестовому походу против Чехии. На Чехию двинулись десятки тысяч рыцарей и солдат со всей Европы.
Но гуситы не дрогнули. Вдохновлённые верой и уверенностью в своей правоте, они приготовились к битве за чашу, ставшую для них символом равенства и справедливости.
Первым крупным успехом гуситов стала битва при Судомержи (1420 год). Жижка, командуя несколькими сотнями человек, разгромил превосходящие силы противника. Это было шоком для Европы — как простые крестьяне смогли победить закованных в броню рыцарей?
Ключевым моментом войны стала битва на горе Витков, недалеко от Праги, где в июле 1420 года гуситы под предводительством того же Жижки разгромили крестоносцев. С этих пор о непобедимости гуситов заговорили во всей Европе.
Гуситы воевали ещё долгие годы. В их армии служили женщины, старики и дети, а символом их борьбы неизменно оставалась чаша. Этот символ обозначался на знамёнах, чеканился на монетах и стал эмблемой чешского сопротивления папскому произволу.
Но почему именно чаша стала такой важной? Потому что это был простой и понятный каждому символ равенства перед Богом, справедливости и свободы, за которую гуситы готовы были умереть.
Несмотря на многочисленные победы, гуситская революция в конце концов завершилась компромиссом — «Пражскими компактатами» 1436 года, которые позволили чехам причащаться под двумя видами. Символическая победа была одержана, но о полной свободе и справедливости мечты гуситов так и не сбылись. Постепенно революционный дух угасал, уступая место привычной власти аристократов и церкви.
Тем не менее, чаша навсегда осталась символом борьбы простых людей за право самим решать, во что и как верить. В этом и заключалась главная победа гуситов.
Цикл: «Гуситы — средневековые революционеры», часть 2 из 4.
Следующая статья: Жижка: одноглазый полководец, перед которым дрожала Европа.
В моем Телеграме канале весь цикл сразу, подписывайся.
Подробная история о простом чешском священнике, бросившем вызов всей церковной иерархии. В статье читатели узнают, каким был Ян Гус в жизни, почему его идеи стали такими опасными для католической Европы и почему смерть этого человека стала отправной точкой кровопролитных гуситских войн.
Гус появился на свет около 1369 года в деревне Гусинец, в Южной Чехии, в небогатой крестьянской семье. Его родители были простыми людьми, далекими от образованности и больших надежд. Тогда мало кто мог представить, что этот мальчишка станет символом целой эпохи.
О детстве Яна известно не так много, однако очевидно, что он отличался упорством и тягой к знаниям. Чтобы вырваться из бедности, ему нужно было поступить в Пражский университет — это было сложно, но Ян справился. В университет он пришёл совсем юным, около 1390 года, и с тех пор жизнь его круто изменилась.
Гус быстро завоевал авторитет среди однокурсников и преподавателей благодаря упорному труду и незаурядному уму. Уже в 1393 году он стал бакалавром, а к 1396 году получил степень магистра свободных искусств. Для деревенского парня это было настоящей победой, открывшей ему дорогу в духовенство и преподавание.
В конце XIV века Прага была не только столицей Чехии, но и одним из крупнейших городов Европы, центром торговли, образования и культуры. Однако, за внешней роскошью скрывались глубокие противоречия.
Город разделялся на две части. В одной, наполненной храмами и дворцами, жили знатные горожане, богатые монахи и священники, не знавшие бед и забот. В другой, грязной и тесной, ютились бедняки, ремесленники и крестьяне, приехавшие в город на заработки.
Именно в такой Праге Ян Гус начал своё служение, сначала как преподаватель Пражского университета, а потом как священник в знаменитой Вифлеемской часовне, ставшей впоследствии центром гуситского движения.
Став священником, Гус увидел церковную жизнь изнутри — и был потрясён. Он не мог мириться с тем, что видел: роскошь, коррупция, симония, продажа должностей и индульгенций. Особенно ярко проявлялись эти проблемы в Пражском духовенстве. Священники и монахи, которые должны были быть примерами благочестия, погрязли в разврате, обжорстве и жажде наживы.
Гус начал выступать с обличениями прямо с кафедры Вифлеемской часовни, куда каждое воскресенье стекались тысячи людей. Его голос звучал всё громче и увереннее, а проповеди становились смелее:
«Посмотрите на священников, которые забрали себе богатства, которые принадлежат бедным! Они берут золото даже за отпущение грехов, которые может простить лишь Бог!»
Его слова быстро завоевали сердца горожан, которые узнавали в проповедях Гуса собственную жизнь. Но точно так же быстро они превратили его в ненавистного врага для многих представителей духовенства.
Примерно в это время до Чехии дошли идеи английского реформатора Джона Уиклифа. Английский философ открыто говорил о том, что Папа Римский не имеет права вмешиваться в светские дела, что церковь должна отказаться от богатства и вернуться к евангельской бедности.
Гус внимательно читал и преподавал идеи Уиклифа в университете. Слова англичанина удивительно совпадали с его собственными мыслями. Но именно это и стало для него ловушкой: церковные власти немедленно обвинили его в ереси, связав имя Гуса с уже осуждённым Уиклифом.
Главная причина, почему церковь так боялась Гуса, была проста: он отвергал безусловную власть папы. Ян заявлял, что только Христос — истинный глава Церкви, а не человек, погрязший в земных страстях и пороках. Это был вызов не только папе, но и всему средневековому порядку, в котором церковь обладала абсолютной властью.
В 1410 году Папа Иоанн XXIII издал буллу, в которой официально осудил учение Уиклифа и всех, кто его поддерживал. Ян Гус был отлучён от церкви и объявлен еретиком. Положение его становилось всё опаснее.
Тем не менее, Ян Гус всё ещё верил в возможность примирения. В 1414 году он получил приглашение прибыть на собор в Констанце, где планировалось обсудить разногласия и примириться. Несмотря на риск, Гус отправился в Констанц.
Но вместо диалога его сразу арестовали. Он провёл в тюрьме несколько месяцев, подвергаясь жестокому обращению и унижениям, а затем его судили как еретика. На суде от него требовали лишь одного — отречься от своих убеждений. Гус ответил:
«Если вы покажете, в чём я заблуждаюсь, я отрекусь немедленно. Но я не могу отречься от правды, которую считаю истинной».
6 июля 1415 года Ян Гус был отправлен на костёр.
Смерть Гуса не стала концом его дела, наоборот, она стала лишь началом. Известие о его казни вызвало гнев в Чехии. Его сторонники, гуситы, начали вооружённую борьбу, вылившуюся в многолетнюю войну, охватившую всю страну и вовлёкшую в конфликт почти всю Европу.
Таким образом, простой священник Ян Гус не просто бросил вызов папе, он изменил ход истории. Его идеи о справедливости и свободе до сих пор вдохновляют людей по всему миру, напоминая о том, что иногда одно смелое слово сильнее целых армий.
Источник: "Гус и гуситские войны" Эрнест Дени
Цикл: «Гуситы — средневековые революционеры», часть 1 из 4.
Следующая статья: Война за чашу: почему гуситы не согласились с папой.
После революции страна могла пойти по разным путям. Но элиты снова выбрали худшее — не договор, а войну. И заплатили за это миллионами жизней.
Когда Ленин подписал Брестский мир, казалось, что самое страшное — позади. Война закончена. Власть установлена.
Но всё только начиналось.
Государство рухнуло — и в образовавшийся вакуум устремились те, кто потерял всё: офицеры, помещики, бывшие министры, крестьяне с ружьями и казаки без империи.
Россия погрузилась в самую страшную мясорубку своей истории — Гражданскую войну.
И в этом аду снова сошлись те же игроки, что в феврале 1917-го.
К лету 1918 года Советская власть контролировала только Петроград, Москву и пару железных дорог. Всё остальное — вспыхивало, дробилось, переходило из рук в руки.
На Дону — восставали казаки.
В Сибири — шёл Чехословацкий корпус, бывшие военнопленные Антанты.
В Поволжье — власть переходила от эсеров к красным и обратно.
В Архангельске — высаживались англичане.
В Туркестане — власть захватывали басмачи.
Это была не одна война — это было 15 войн одновременно.
Главные враги большевиков — Белые армии. Казалось бы, идеальные наследники старой России. Генералы Корнилов, Деникин, Колчак, Юденич — опытные, решительные, патриотичные. Но…
У них не было единой идеологии: одни за монархию, другие за республику, третьи просто «против красных».
У них не было земельной реформы: крестьяне сразу почувствовали угрозу возвращения помещиков.
У них не было харизмы Ленина: ни один белый генерал не стал символом для народа.
Белое движение не предлагало будущее — только возврат. А народ хотел перемен.
Антанта пыталась вмешаться. Англичане, французы, японцы — все прислали войска.
Но вместо победы получили унижение:
Солдаты не понимали, за что воюют.
Местное население их ненавидело.
Белые не слушались, грызлись между собой и обвиняли союзников в предательстве.
Вместо благодарности — Россия увидела оккупацию. И выбрала красных.
Список причин огромен. Но главное:
Они были едины. Без споров, парламентов и комитетов.
Они контролировали центр — Москву, дороги, телеграф.
Они обещали землю крестьянам — и дали, хоть и на время.
Они создали армию с нуля — и отдали её Троцкому.
А главное — у них была жажда власти. Без сантиментов.
Гражданская война — это не добро против зла. Это вопрос организационной эффективности. И в этом красные были лучше.
Когда в 1922 году Красная армия взяла Владивосток, война формально закончилась.
На руинах бывшей империи встала новая держава — СССР.
Но ценой стали:
8–10 миллионов погибших (точно не подсчитать).
2 миллиона беженцев за границу.
Голод, эпидемии, гибель экономики и интеллигенции.
В 1917 году элиты могли выбрать путь модернизации, компромисса, конституции.
Они выбрали войну.
Царь — упрямо отвергал реформы.
Либералы — играли в политику, забыв про улицу.
Генералы — презирали народ, за которого якобы сражались.
Большевики — воспользовались моментом, пообещали всё — и взяли всё.
Революции не делают массы. Их совершают элиты, когда не хотят делиться. А власть берут те, кто готов платить самую страшную цену.
Часть 1 — Война элит: кто правил Россией накануне революции
Часть 2 — Контрэлита в действии: как большевики взяли власть
Часть 3 — Сепаратный мир: предательство или спасение?
Часть 4 — Кто поджёг Россию: как началась Гражданская война
Большевики пришли к власти под лозунгом «Мир — народу». Но когда пришло время договариваться, оказалось: за мир с Германией придётся заплатить территорией, союзниками и репутацией.
Представьте: вы только что взяли власть в гигантской стране. Вокруг — гражданская война, саботаж, голод. На фронтах — миллионы солдат, не понимающих, за кого они теперь воюют. И тут — ультиматум: или вы подписываете унизительный мир, или кайзеровская армия идёт на Петроград.
Что вы выберете?
Ленин выбрал мир. И заплатил за него всем, кроме своей власти.
Когда в октябре 1917 года большевики взяли Зимний дворец, война с Германией не остановилась. На фронте — хаос. Солдаты дезертируют, офицеры в панике.
А Германия, между прочим, близка к победе на Восточном фронте.
Лозунг «Мир! Земля! Хлеб!» оказался не просто агитацией — это стало вопросом выживания.
Ленин понимал: если не заключить мир — власть будет потеряна в течение недель.
Переговоры начались в декабре 1917 года. Место — город Брест-Литовск (ныне Брест в Беларуси), занят немцами. С нашей стороны — Троцкий, самый харизматичный из большевиков. С немецкой — военные, дипломаты и циники.
Немцы были в восторге: перед ними сидели дилетанты, которые не понимали правил дипломатии. Большевики читали манифесты, отказывались произносить титулы, и пытались внушать кайзеровским генералам идеи мировой революции.
Троцкий придумал странную формулу:
«Ни мира, ни войны: мы прекращаем военные действия, но договор не подписываем».
Это был блестящий театральный ход — и полный провал с военной точки зрения.
В ответ в феврале 1918 года Германия начала новое наступление. 700 тысяч немецких солдат двинулись на Киев, Нарву и Минск. Петроград снова оказался под угрозой.
Ленин был в бешенстве. Он говорил:
«Чтобы удержать власть, я подпишу мир хоть с чёртом!»
18 февраля Германия официально разорвала перемирие.
23 февраля Совнарком опубликовал ультиматум: «Германия требует мира — немедленно».
В этот день в России впервые появилось выражение: «День защитника Отечества». Тогда же родилась и капитуляция.
3 марта 1918 года договор был подписан. Он стал самым унизительным в истории России.
По договору Россия теряла:
Польшу, Литву, Латвию, часть Белоруссии — под контроль Германии.
Финляндию — независимость.
Украину — как бы "независимое государство", но под немецкой опекой.
Кавказ — армянские и грузинские земли под вопросом.
Фактически, Россия теряла треть населения, четверть промышленности и большую часть экспорта зерна.
После подписания Брестского мира Франция, Великобритания и США объявили большевикам бойкот.
Антанта больше не рассматривала Россию как союзника. Более того — началась интервенция: англичане высаживаются в Архангельске, американцы — во Владивостоке, японцы идут на Дальний Восток.
Миф о мировой революции трещал по швам. Вместо союза с пролетариатом Европы большевики получили изоляцию.
Внутри страны даже их сторонники были в шоке. Левые эсеры вышли из Совета, часть большевиков потребовала отменить договор. Только Ленин стоял насмерть.
«Мы заключили самый позорный мир. Но мы сохранили власть. Всё остальное — потом.»
Это главный вопрос.
С военной точки зрения — нет. Армия развалена.
С политической — да. Можно было рискнуть, но потерять всё.
С моральной — вопрос дискуссионный до сих пор.
Ленин выбрал власть. Это главное.
Брестский мир стал точкой невозврата. Россия перестала быть частью мировой коалиции.
Бывшие союзники стали врагами. Немцы — временными покровителями.
Большевики стали единственной властью — но теперь уже в осаждённой крепости.
Следующей статьей цикла станет рассказ о том, как этот мир стал прологом к Гражданской войне — самой кровавой драме XX века.
Источник: Селезнёв А.А. «Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.)»
В 1917 году все играли в политику — кроме большевиков. Они шли по трупам к власти. Почему они победили, когда рухнуло всё?
Осенью 1917 года Петроград лихорадило. Временное правительство дрожало, как сломанная телега. Демократы спорили о будущем России, генералы срывали наступления, министры писали манифесты…
А в это время один человек сидел в шалаше под Выборгом и готовил переворот. Его звали Владимир Ленин. И у него был план.
Великая революция — это не вспышка народной воли. Это победа меньшинства, которое оказалось единственным, готовым взять всё. Пока либералы и офицеры пытались играть в парламент, большевики действовали как настоящая контрэлита: без сантиментов, быстро и по головам.
Итальянский социолог Вильфредо Парето объяснил это ещё в начале XX века: любая элита стареет, замыкается в себе и теряет связь с активными слоями общества. Тогда появляется новая сила — контрэлита. Она хочет во власть, но её туда не пускают.
Контрэлита — это не «хорошие парни». Это волевые, целеустремлённые группы, готовые пойти на всё.
В России 1917 года такой силой стали большевики. Умеренные социалисты, кадеты, офицеры, монархисты — все были слишком медлительными. А Ленин видел, что в хаосе побеждает тот, кто действует первым.
Ещё в начале года у них почти не было поддержки. В Петрограде популярнее были эсеры и меньшевики. Но большевики были организованы как армия: чёткая дисциплина, вертикаль, личная преданность Ленину.
После Февральской революции их освободили из тюрем. С апреля Ленин начал взрывную кампанию: "Долой Временное правительство", "Вся власть Советам!", "Земля крестьянам!".
Вся его риторика — это язык контрэлиты:
Делегитимизация власти
Обещания прямой выгоды
Игнорирование правил
Ленин презирал демократию в её западном понимании. Его цель — захват и удержание власти любыми средствами.
Тем временем официальная власть тонет в бумаге:
Министр Керенский меняет министров как перчатки.
Объявляется амнистия, но армия разваливается.
Готовится Учредительное собрание, но никто не знает, что делать до него.
В августе генерал Корнилов пробует взять власть в свои руки — и проваливается.
Керенский, испугавшись военного переворота, делает шаг, который решает всё: раздаёт большевикам оружие для обороны Петрограда от Корнилова.
Это как дать спичку тому, кто уже разлил бензин.
Большевики не стали дожидаться выборов.
В ночь с 25 на 26 октября (7–8 ноября по новому стилю) 1917 года они захватывают ключевые здания: телеграф, телефон, мосты, штабы. Штурм Зимнего дворца — больше символ, чем битва: там почти никого не было.
Когда депутаты Временного правительства поняли, что всё кончено — было уже поздно.
Ленин вышел к народу с сухим, но историческим заявлением:
«Временное правительство низложено. Власть перешла к Советам рабочих и солдатских депутатов».
У них был чёткий план. Все остальные спорили — большевики действовали.
Они были готовы к насилию. Моральные сомнения отбрасывались.
Они работали с массами напрямую — агитаторы в казармах, на фабриках, на улицах.
Они не боялись потерять легитимность — ведь власть сама лежала на земле.
Большевики оказались той самой контрэлитой, о которой писал Парето: они не ждали, когда их пригласят во власть — они пришли и взяли её.
Когда в ночь переворота из Зимнего дворца вывели арестованных министров, никто не сопротивлялся. Даже сторонники монархии не подняли восстания. Потому что настоящая борьба уже была проиграна — в умах и в штабах.
Россия перешла в руки новой элиты. Молодой, жёсткой, аморальной. И по-своему — чрезвычайно эффективной.
В следующей статье цикла мы расскажем, как эта победа обернулась самым тяжёлым миром в истории — Брестским договором, и почему весь мир отвернулся от России.
Источник: Селезнёв А.А. «Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.)»
1917 год вошёл в учебники как народная революция. Но на самом деле империю уничтожили не массы, а те, кто должен был её защищать: министры, генералы, банкиры и князья.
«Мы служим царю!» — с этими словами в 1917 году офицеры брали под руки Николая II… чтобы потребовать его отречения.
Февральская революция давно превратилась в миф о «восставшем народе». Но в реальности всё было куда грязнее и интригующе: Российскую империю не свергли снизу — её разрушили сверху.
Те, кто сидел за роскошными столами и подписывал бумаги с золотыми гербами, втайне мечтали об одном: отодвинуть самодержца и занять его место. И когда пришёл момент — не дрогнули.
Империя жила на автопилоте. Царь Николай II уехал на фронт и стал Верховным главнокомандующим, не имея ни военного, ни стратегического мышления. Управление страной он доверил супруге — Александре Фёдоровне.
Царица — «немка» в глазах общественности — всё чаще полагалась на «святого» Григория Распутина, а правительство превратилось в театр абсурда.
Министры сменялись с бешеной скоростью. Один — психически нестабилен, другой — марионетка, третий — агент чужих интересов. За полтора года до революции в России сменилось четыре председателя Совета министров и семь министров внутренних дел.
Это была агония. Но не народа — а власти.
Князья, камер-юнкеры, генералы от кавалерии — они жили в особом мире: балы, чины, интриги. Но многие ощущали, что «старый порядок» слабеет.
Некоторые хотели спасти трон, заменив царя кем-то из Романовых. Например, великий князь Николай Николаевич — популярный в армии. Другие же просто хотели, чтобы их оставили в покое с титулами и имениями.
Их девиз: «Конституционная монархия и нормальный рынок». Эти люди верили, что Россия должна стать чем-то вроде Британской империи.
Львов, Милюков, Керенский — они не хотели революции, но ненавидели самодержавие.
С 1915 года в Думе началась борьба за «ответственное министерство» — то есть правительство, подотчётное парламенту. Но Николай II отверг даже компромиссы.
Армия к 1917 году была на грани. На фронте — кровь и тиф. В тылу — коррупция и голод. Генералы, особенно Алексеев, понимали: если не сменить власть — фронт рухнет.
Они не были революционерами. Но они первыми сказали: "Империя с этим царём — обречена".
В 1916 году в кулуарах Госдумы, Ставки и частных салонах шли тихие разговоры: «Царь неадекватен. Надо что-то делать».
Был ли заговор? Нет. Было хуже — молчаливый консенсус: самодержавие должно уйти. И когда в феврале 1917 года начались беспорядки — никто его не стал спасать.
Александр Гучков, лидер октябристов, сказал:
«В Думе и армии все готовы. Нужно только, чтобы началось».
Генерал Русский, командующий Северным фронтом, был одним из тех, кто заставил Николая подписать отречение.
Генерал Алексеев — неформальный лидер армии — организовал поток телеграмм от командующих фронтами с просьбой отречься.
Главный парадокс: в начале февраля 1917 года в Петрограде ещё не было революции. Были голодные очереди, бастующие рабочие, спекулянты и холод. Но армия была на фронте, полиция — на местах, чиновники — на постах.
Никто не знал, что через месяц империи не станет. Но верхушка — догадывалась. И готовилась.
Когда в начале марта толпы вышли на улицы, это было удобное прикрытие. Элиты не спасали трон — они его оттолкнули, чтобы не утонуть вместе с ним.
2 марта 1917 года Николай II подписал отречение. Не под давлением рабочих или восставших батальонов. А по требованию своих же генералов.
Он остался в одиночестве. Его брат, Михаил Александрович, отказался принимать престол. Церковь промолчала. Дума зааплодировала. Армия подчинялась новым властям.
Революция началась — в кабинете, а не на баррикаде.
Февраль 1917 года — это не народное восстание, а элитный переворот. Старые элиты ослабли, новые были полны решимости. Проблема в том, что ни у тех, ни у других не было внятного плана.
Власть упала, как тяжёлый меч с пояса — и её поднял тот, кто был готов взять её грязными руками.
В следующей статье цикла мы расскажем, как большевики — маргинальная контрэлита — воспользовались ситуацией и сломали игру по правилам.
Источник: Селезнёв А.А. «Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.)»