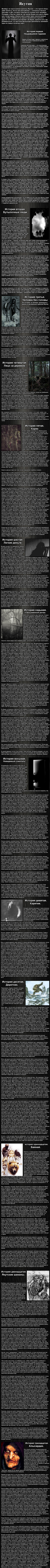CreepyStory
191К
рейтинг
16К подписчиков
0 подписок
873 поста
160 в горячем
Показания Рэндольфа Картера.
Еще раз повторяю, джентльмены: все ваше расследование ни к чему не приведет.
Держите меня здесь хоть целую вечность; заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству, которое вы именуете правосудием, но вы не услышите от меня ничего нового.
Я рассказал вам все, что помню, рассказал как на духу, не исказив и не сокрыв ни единого факта, и если что-то осталось для вас неясным, то виною тому мгла, застлавшая мне рассудок, и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу.
Повторяю: мне неизвестно, что случилось с Харли Уорреном, хотя, мне кажется, по крайней мере, я надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытьи, если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному.
Да, в течение пяти лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли в его дерзких изысканиях в области неведомого. Не стану также отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого, на Гейнсвильском пике, откуда мы, по его словам, направлялись в сторону Трясины Большого Кипариса
Сам я, правда, всех этих подробностей почти не помню. То, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить даже под присягой, поскольку все эти предметы играли немаловажную роль в той нелепой и чудовищной истории, отдельные подробности которой глубоко врезались мне в память, как бы ни была она слаба и ненадежна.
Относительно же происшедшего впоследствии и того, почему меня обнаружили наутро одного и в невменяемом состоянии на краю болота, клянусь, мне неизвестно ничего, помимо того, что я уже устал вам повторять.
Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный много кошмарный эпизод. Но я только поведал о том, что видел собственными глазами, и мне нечего добавить. Было это видением или бредом, о, как бы мне хотелось, чтобы это было именно так! Я не знаю, но это все, что осталось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам, или его тень, или та безымянная сущность, которую я не в силах описать.
Повторяю, я не только знал, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и некоторым образом участвовал в них. Из его обширной коллекции старинных редких книг на запретные темы я перечитал все те, что были написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, было очень мало по сравнению с фолиантами, испещренными абсолютно мне неизвестными знаками. Большинство, насколько я могу судить, арабскими, но та гробовдохновенная книга, что привела нас к чудовищной развязке, та книга, которую он унес с собой в кармане, была написана иероглифами, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга.
Относительно же характера наших штудий, я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И, по правде говоря, я даже рад своей забывчивости, потому что это были жуткие занятия; я предавался им скорее с деланным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня, а временами я его даже боялся. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия. Он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах, неподвластные тлену.
Но сегодня я уже не боюсь его; вероятно, он столкнулся с такими ужасами, рядом с которыми мой страх ничто. Сегодня я боюсь уже не за себя, а за него.
Еще раз говорю, что я не имею достаточно ясного представления о наших намерениях в ту ночь. Несомненно лишь то, что они были самым тесным образом связаны с книгой, которую Уоррен захватил с собой, с той самой древней книгой, написанной непонятным алфавитом, что пришла ему по почте из Индии месяц тому назад. Но, готов поклясться, я не знаю, что именно мы предполагали найти.
Свидетель показал, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, откуда мы держали путь в сторону Трясины Большого Кипариса. Возможно, так оно и было, но мне это как-то слабо запомнилось.
Картина, врезавшаяся мне в душу и опалившая ее, состоит всего лишь из одной сцены. Надо полагать, было уже далеко за полночь, так как ущербный серп луны стоял высоко в окутанных мглой небесах.
Местом Действия было старое кладбище, настолько старое, что я затрепетал, глядя на многообразные приметы глубокой древности. Находилось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, бурьяном и причудливо-стелющимися травами. Неприятный запах, наполнявший лощину, абсурдным образом связался в моем праздном воображении с гниющим камнем. Со всех сторон нас обступали дряхлость и запустение, и меня ни на минуту не покидала мысль, что мы с Уорреном первые живые существа, нарушившие многовековое могильное безмолвие.
Ущербная луна над краем ложбины тускло проглядывала сквозь нездоровые испарения, которые, казалось, струились из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом, неверном свете я различал зловещие очертания старинных плит, урн, кенотафов, сводчатых входов в склепы, крошащихся, замшелых, потемневших от времени и наполовину скрытых в буйном изобилии вредоносной растительности.
Первое впечатление от этого чудовищного некрополя сложилось у меня в тот момент, когда мы с Уорреном остановились перед какой-то ветхой гробницей и скинули на землю поклажу, по-видимому, принесенную нами с собой. Я помню, что у меня было две лопаты и электрический фонарь, а у моего спутника точно такой же фонарь и переносной телефонный аппарат. Между нами не было произнесено ни слова, ибо и место, и наша цель были нам как будто известны.
Не теряя времени, мы взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипший грунт со старинного плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы отошли назад, чтобы взглянуть со стороны на картину, представшую нашему взору. Уоррен, похоже, производил в уме какие-то расчеты. Вернувшись к могиле, он взял лопату и, орудуя ею как рычагом, попытался приподнять плиту, расположенную ближе других к груде камней, которая в свое время, вероятно, представляла собою памятник. У него ничего не вышло, и он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями нам удалось расшатать плиту, приподнять ее и поставить на бок.
На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого вырвалось скопище настолько тошнотворных миазмов, что мы в ужасе отпрянули назад.
Когда спустя некоторое время мы снова приблизились к яме, испарения стали уже менее насыщеными. Наши фонари осветили верхнюю часть каменной лестницы, сочащейся какой-то злокачественной сукровицей подземных глубин. По бокам она была ограничена влажными стенами с налетом селитры. Именно в этот момент прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова. Нарушил молчание Уоррен, и голос его приятный, бархатный тенор был, несмотря на кошмарную обстановку, таким же спокойным, как всегда.
— Мне очень жаль, — сказал он, — но я вынужден просить тебя остаться наверху. Я совершил бы преступление, если бы позволил человеку с таким слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты даже не представляешь, несмотря на все, прочитанное и услышанное от меня, что именно суждено мне увидеть и совершить. Это страшная миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего того, что мне доведется увидеть внизу, вернуться в мир живым и в здравом уме. Я не хочу тебя обидеть и, видит Бог, я рад, что ты со мной. Но вся ответственность за это предприятие, в определенном смысле, лежит на мне, а я не считаю себя вправе увлекать такой комок нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, как видишь, провода у меня хватит до центра земли и обратно.
Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах, и я хорошо помню, как пытался увещевать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глуби, но он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем.
Держите меня здесь хоть целую вечность; заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству, которое вы именуете правосудием, но вы не услышите от меня ничего нового.
Я рассказал вам все, что помню, рассказал как на духу, не исказив и не сокрыв ни единого факта, и если что-то осталось для вас неясным, то виною тому мгла, застлавшая мне рассудок, и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу.
Повторяю: мне неизвестно, что случилось с Харли Уорреном, хотя, мне кажется, по крайней мере, я надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытьи, если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному.
Да, в течение пяти лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли в его дерзких изысканиях в области неведомого. Не стану также отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого, на Гейнсвильском пике, откуда мы, по его словам, направлялись в сторону Трясины Большого Кипариса
Сам я, правда, всех этих подробностей почти не помню. То, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить даже под присягой, поскольку все эти предметы играли немаловажную роль в той нелепой и чудовищной истории, отдельные подробности которой глубоко врезались мне в память, как бы ни была она слаба и ненадежна.
Относительно же происшедшего впоследствии и того, почему меня обнаружили наутро одного и в невменяемом состоянии на краю болота, клянусь, мне неизвестно ничего, помимо того, что я уже устал вам повторять.
Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный много кошмарный эпизод. Но я только поведал о том, что видел собственными глазами, и мне нечего добавить. Было это видением или бредом, о, как бы мне хотелось, чтобы это было именно так! Я не знаю, но это все, что осталось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам, или его тень, или та безымянная сущность, которую я не в силах описать.
Повторяю, я не только знал, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и некоторым образом участвовал в них. Из его обширной коллекции старинных редких книг на запретные темы я перечитал все те, что были написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, было очень мало по сравнению с фолиантами, испещренными абсолютно мне неизвестными знаками. Большинство, насколько я могу судить, арабскими, но та гробовдохновенная книга, что привела нас к чудовищной развязке, та книга, которую он унес с собой в кармане, была написана иероглифами, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга.
Относительно же характера наших штудий, я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И, по правде говоря, я даже рад своей забывчивости, потому что это были жуткие занятия; я предавался им скорее с деланным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня, а временами я его даже боялся. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия. Он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах, неподвластные тлену.
Но сегодня я уже не боюсь его; вероятно, он столкнулся с такими ужасами, рядом с которыми мой страх ничто. Сегодня я боюсь уже не за себя, а за него.
Еще раз говорю, что я не имею достаточно ясного представления о наших намерениях в ту ночь. Несомненно лишь то, что они были самым тесным образом связаны с книгой, которую Уоррен захватил с собой, с той самой древней книгой, написанной непонятным алфавитом, что пришла ему по почте из Индии месяц тому назад. Но, готов поклясться, я не знаю, что именно мы предполагали найти.
Свидетель показал, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, откуда мы держали путь в сторону Трясины Большого Кипариса. Возможно, так оно и было, но мне это как-то слабо запомнилось.
Картина, врезавшаяся мне в душу и опалившая ее, состоит всего лишь из одной сцены. Надо полагать, было уже далеко за полночь, так как ущербный серп луны стоял высоко в окутанных мглой небесах.
Местом Действия было старое кладбище, настолько старое, что я затрепетал, глядя на многообразные приметы глубокой древности. Находилось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, бурьяном и причудливо-стелющимися травами. Неприятный запах, наполнявший лощину, абсурдным образом связался в моем праздном воображении с гниющим камнем. Со всех сторон нас обступали дряхлость и запустение, и меня ни на минуту не покидала мысль, что мы с Уорреном первые живые существа, нарушившие многовековое могильное безмолвие.
Ущербная луна над краем ложбины тускло проглядывала сквозь нездоровые испарения, которые, казалось, струились из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом, неверном свете я различал зловещие очертания старинных плит, урн, кенотафов, сводчатых входов в склепы, крошащихся, замшелых, потемневших от времени и наполовину скрытых в буйном изобилии вредоносной растительности.
Первое впечатление от этого чудовищного некрополя сложилось у меня в тот момент, когда мы с Уорреном остановились перед какой-то ветхой гробницей и скинули на землю поклажу, по-видимому, принесенную нами с собой. Я помню, что у меня было две лопаты и электрический фонарь, а у моего спутника точно такой же фонарь и переносной телефонный аппарат. Между нами не было произнесено ни слова, ибо и место, и наша цель были нам как будто известны.
Не теряя времени, мы взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипший грунт со старинного плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы отошли назад, чтобы взглянуть со стороны на картину, представшую нашему взору. Уоррен, похоже, производил в уме какие-то расчеты. Вернувшись к могиле, он взял лопату и, орудуя ею как рычагом, попытался приподнять плиту, расположенную ближе других к груде камней, которая в свое время, вероятно, представляла собою памятник. У него ничего не вышло, и он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями нам удалось расшатать плиту, приподнять ее и поставить на бок.
На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого вырвалось скопище настолько тошнотворных миазмов, что мы в ужасе отпрянули назад.
Когда спустя некоторое время мы снова приблизились к яме, испарения стали уже менее насыщеными. Наши фонари осветили верхнюю часть каменной лестницы, сочащейся какой-то злокачественной сукровицей подземных глубин. По бокам она была ограничена влажными стенами с налетом селитры. Именно в этот момент прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова. Нарушил молчание Уоррен, и голос его приятный, бархатный тенор был, несмотря на кошмарную обстановку, таким же спокойным, как всегда.
— Мне очень жаль, — сказал он, — но я вынужден просить тебя остаться наверху. Я совершил бы преступление, если бы позволил человеку с таким слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты даже не представляешь, несмотря на все, прочитанное и услышанное от меня, что именно суждено мне увидеть и совершить. Это страшная миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего того, что мне доведется увидеть внизу, вернуться в мир живым и в здравом уме. Я не хочу тебя обидеть и, видит Бог, я рад, что ты со мной. Но вся ответственность за это предприятие, в определенном смысле, лежит на мне, а я не считаю себя вправе увлекать такой комок нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, как видишь, провода у меня хватит до центра земли и обратно.
Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах, и я хорошо помню, как пытался увещевать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глуби, но он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем.
Переход.
Мои друзья Поль и Марджери Гленхэм - неудавшиеся художники, а может быть, во имя милосердия лучше назвать их непреуспевающими. Впрочем, даже неудачи доставляют им больше удовольствия, чем большинству преуспевающих художников успех. А потому с ними приятно общаться, и в этом одна из причин, почему я, приезжая во Францию, охотно останавливаюсь у них. Их обветшалый дом в Провансе - средоточие беспорядка: мешки с картофелем, пучки сушеных трав, плети чеснока и горы сухой кукурузы чередуются с кипами незавершенных акварелей и грудами страховидных полотен Марджери вперемешку со странными неандертальскими скульптурами Поля. Среди этого подобия деревенской ярмарки бродят коты всех пород и мастей и вереницы собак - от ирландского волкодава ростом с теленка до старого английского бульдога с голосом Стефенсоновой "Ракеты". Все стены украшены клетками - обителью канареек, которые ретиво распевают чуть не круглые сутки, мешая людям разговаривать. Словом, в доме царит теплая, дружеская, какофоническая, чрезвычайно приятная атмосфера.
В тот день я приехал под вечер усталый после долгого путешествия, и Поль тотчас взялся приводить меня в норму при помощи горячего бренди и гигантского лимона. Мне посчастливилось вовремя очутиться под их кровом, ибо последние полчаса летнее небо над Провансом было застлано тяжелой черной пеленой грозовых туч, и гром отдавался среди скал так, будто по деревянной лестнице катились миллионы камней. Только я юркнул в теплую шумную кухню, наполненную соблазнительными запахами стряпни Марджери, как хлынул проливной дождь. Дробь капель о черепичную крышу вместе с ударами грома, от которых содрогалось даже прочное каменное строение, пробудил дух соперничества у канареек, и они принялись петь все разом. В жизни не припомню такой шумной грозы.
- Еще кружечку, дружище? - справился Поль с надеждой в голосе.
- Нет-нет! - перекричала Марджери канареечные трели и гул дождя. - Еда готова, холодная будет уже не такая вкусная. Поль, неси вино. Джерри, дорогой, садись за стол.
- Вино, вино, даешь вино! У меня припасено для тебя нечто особенное, дружище. - С этими словами Поль спустился в погреб, чтобы тут же вернуться с охапкой бутылок, которые он благоговейно поставил на стол предо мной. - Гигонда - мое личное открытие, бронтозаврова кровь, дружище, поверь мне, прямо из вен доисторического чудовища. Очень славно пойдет с трюфелями и индейкой, приготовленными Марджери.
Откупорив одну бутылку, он щедрой рукой налил темно-красного вина в объемистый бокал. Поль был прав. Вино красным бархатом легло на язык, а дойдя до горла, вызвало настоящий фейерверк в мозгу.
- Ну как, здорово? - осведомился Поль, изучая мое лицо. - Я обнаружил его в маленьком погребке в районе Карпентрас. Стояла дьявольская жара, а в погребке было так прохладно, так уютно, что я сам не заметил, как выдул две бутылки. Не вино, а чистый соблазн. Разумеется, стоило мне выйти на солнце опять, как меня будто кувалдой огрели. Пришлось Марджери сесть за руль.
- Мне было так стыдно за него, - сказала Марджери, ставя передо мной тарелку с трюфелем величиной с персик, запеченным в тонкую, хрусткую корочку теста. - Он заплатил за вино хозяину, поклонился и... упал ничком на землю. Пришлось хозяину с сыном вдвоем заталкивать его в машину. Ужасная картина.
- Ерунда, - возразил Поль. - Хозяин был счастлив. Лучшего рейтинга он не мог пожелать.
- Это тебе так кажется, - возразила Марджери. - Ладно, Джерри, ешь, пока не остыло.
Разрезав золотистый шарик, я ощутил запах трюфеля, тонкий аромат сырого леса, соединивший в себе запахи миллионов тлеющих листьев. С красным вином в придачу трапеза была просто божественной. Мы молча принялись уписывать трюфели, слушая дробный стук дождя по черепице, раскаты грома и экстатические трели канареек. Бульдог, невесть почему с ходу проникшийся ко мне глубокой симпатией, сидел подле моего стула и не сводил с меня выпуклых коричневых глаз, тихо посапывая.
- Великолепно, Марджери, - произнес я, когда последний кусочек хрустящей корки растаял снежинкой на моем языке. - Право же, при твоем кулинарном искусстве и чутье Поля на вина, открой вы ресторанчик, в два счета заслужили бы три звездочки у "Мишлена".
- Спасибо, дорогой, - отозвалась Марджери, потягивая вино, - но я предпочитаю готовить для узкого круга гурманов, чем для толпы обжор.
- Она права, тут ничего не возразишь, - подхватил Поль, не уставая наполнять наши бокалы.
Сильнейший раскат грома прямо над крышей прервал нашу беседу, даже канарейки на минуту смолкли, устрашенные такой мощью. Когда гром стих, Марджери указала вилкой на супруга.
- Не забудь показать Джерри эту штуковину.
- Штуковину? - не понял Поль. - Какую еще штуковину?
- Ты знаешь, - нетерпеливо сказала Марджери, - эту твою штуковину... твою рукопись... самое подходящее чтение для него в такую ночь.
- А, рукопись... конечно! - горячо произнес Поль. - В самом деле, ночь весьма подходящая.
- Отказываюсь, - возразил я. - Хватит с меня вашей живописи и ваших скульптур. Будь я проклят, если еще соглашусь читать ваши литературные потуги.
- Ты темный человек, - добродушно молвила Марджери. - К тому же автор - не Поль, а кто-то другой.
- По-моему, после такого пренебрежительного отзыва о моем искусстве он не заслуживает того, чтобы ему доверили эту рукопись, - сказал Поль. - Она слишком хороша.
- Но что это за рукопись? - спросил я.
- Очень своеобразное произведение, я обнаружил его... - начал Поль, но Марджери перебила его:
В тот день я приехал под вечер усталый после долгого путешествия, и Поль тотчас взялся приводить меня в норму при помощи горячего бренди и гигантского лимона. Мне посчастливилось вовремя очутиться под их кровом, ибо последние полчаса летнее небо над Провансом было застлано тяжелой черной пеленой грозовых туч, и гром отдавался среди скал так, будто по деревянной лестнице катились миллионы камней. Только я юркнул в теплую шумную кухню, наполненную соблазнительными запахами стряпни Марджери, как хлынул проливной дождь. Дробь капель о черепичную крышу вместе с ударами грома, от которых содрогалось даже прочное каменное строение, пробудил дух соперничества у канареек, и они принялись петь все разом. В жизни не припомню такой шумной грозы.
- Еще кружечку, дружище? - справился Поль с надеждой в голосе.
- Нет-нет! - перекричала Марджери канареечные трели и гул дождя. - Еда готова, холодная будет уже не такая вкусная. Поль, неси вино. Джерри, дорогой, садись за стол.
- Вино, вино, даешь вино! У меня припасено для тебя нечто особенное, дружище. - С этими словами Поль спустился в погреб, чтобы тут же вернуться с охапкой бутылок, которые он благоговейно поставил на стол предо мной. - Гигонда - мое личное открытие, бронтозаврова кровь, дружище, поверь мне, прямо из вен доисторического чудовища. Очень славно пойдет с трюфелями и индейкой, приготовленными Марджери.
Откупорив одну бутылку, он щедрой рукой налил темно-красного вина в объемистый бокал. Поль был прав. Вино красным бархатом легло на язык, а дойдя до горла, вызвало настоящий фейерверк в мозгу.
- Ну как, здорово? - осведомился Поль, изучая мое лицо. - Я обнаружил его в маленьком погребке в районе Карпентрас. Стояла дьявольская жара, а в погребке было так прохладно, так уютно, что я сам не заметил, как выдул две бутылки. Не вино, а чистый соблазн. Разумеется, стоило мне выйти на солнце опять, как меня будто кувалдой огрели. Пришлось Марджери сесть за руль.
- Мне было так стыдно за него, - сказала Марджери, ставя передо мной тарелку с трюфелем величиной с персик, запеченным в тонкую, хрусткую корочку теста. - Он заплатил за вино хозяину, поклонился и... упал ничком на землю. Пришлось хозяину с сыном вдвоем заталкивать его в машину. Ужасная картина.
- Ерунда, - возразил Поль. - Хозяин был счастлив. Лучшего рейтинга он не мог пожелать.
- Это тебе так кажется, - возразила Марджери. - Ладно, Джерри, ешь, пока не остыло.
Разрезав золотистый шарик, я ощутил запах трюфеля, тонкий аромат сырого леса, соединивший в себе запахи миллионов тлеющих листьев. С красным вином в придачу трапеза была просто божественной. Мы молча принялись уписывать трюфели, слушая дробный стук дождя по черепице, раскаты грома и экстатические трели канареек. Бульдог, невесть почему с ходу проникшийся ко мне глубокой симпатией, сидел подле моего стула и не сводил с меня выпуклых коричневых глаз, тихо посапывая.
- Великолепно, Марджери, - произнес я, когда последний кусочек хрустящей корки растаял снежинкой на моем языке. - Право же, при твоем кулинарном искусстве и чутье Поля на вина, открой вы ресторанчик, в два счета заслужили бы три звездочки у "Мишлена".
- Спасибо, дорогой, - отозвалась Марджери, потягивая вино, - но я предпочитаю готовить для узкого круга гурманов, чем для толпы обжор.
- Она права, тут ничего не возразишь, - подхватил Поль, не уставая наполнять наши бокалы.
Сильнейший раскат грома прямо над крышей прервал нашу беседу, даже канарейки на минуту смолкли, устрашенные такой мощью. Когда гром стих, Марджери указала вилкой на супруга.
- Не забудь показать Джерри эту штуковину.
- Штуковину? - не понял Поль. - Какую еще штуковину?
- Ты знаешь, - нетерпеливо сказала Марджери, - эту твою штуковину... твою рукопись... самое подходящее чтение для него в такую ночь.
- А, рукопись... конечно! - горячо произнес Поль. - В самом деле, ночь весьма подходящая.
- Отказываюсь, - возразил я. - Хватит с меня вашей живописи и ваших скульптур. Будь я проклят, если еще соглашусь читать ваши литературные потуги.
- Ты темный человек, - добродушно молвила Марджери. - К тому же автор - не Поль, а кто-то другой.
- По-моему, после такого пренебрежительного отзыва о моем искусстве он не заслуживает того, чтобы ему доверили эту рукопись, - сказал Поль. - Она слишком хороша.
- Но что это за рукопись? - спросил я.
- Очень своеобразное произведение, я обнаружил его... - начал Поль, но Марджери перебила его:
Голос в ночи.
Была темная беззвездная ночь. Штиль застал нас в северной части Тихого океана. Точного нашего местонахождения я не знал, потому что всю эту утомительную безветренную неделю солнце скрывалось за тонкой дымкой, которая словно плыла над самыми мачтами, время от времени опускаясь ниже и укутывая окружающее нас море.
Поскольку ветра не было, мы закрепили румпель, и на палубе я пребывал в одиночестве. Вся остальная команда – двое мужчин и парень – отсыпалась в носовом кубрике, а Уилл, мой друг и владелец этого маленького судна, спал в своей маленькой каюте на корме.
Внезапно из темноты до меня донесся возглас:
– Эй, на шхуне!
Он прозвучал настолько неожиданно, что от удивления я даже не отозвался сразу.
Голос, странно хриплый и словно нечеловеческий, вновь послышался откуда-то из темноты со стороны левого борта:
– Эй, на шхуне!
– Эй! – крикнул я в ответ, успев прийти в себя. – Кто вы такой? Что вам надо?
– Вам нечего меня бояться, – отозвался странный голос, владелец которого, вероятно, заметил в моих интонациях неуверенность. – Я всего лишь старый... человек.
Пауза прозвучала совершенно неуместно, но лишь позднее до меня дошел ее смысл.
– Тогда почему вы не подплываете ближе? – спросил я несколько раздраженно, потому что мне не понравился его намек на то, что я слегка испугался.
– Я... не могу. Это опасно. Я...
Голос неожиданно оборвался, и наступила тишина.
– О чем это вы? – спросил я, еще больше удивившись. – Что именно опасно? Где вы сейчас?
Я немного подождал, но ответа не услышал. А потом, охваченный внезапным неопределенным подозрением, быстро подошел к нактоузу и взял зажженный фонарь. Одновременно я постучал в палубу пяткой, чтобы разбудить Уилла. Затем подошел к борту и направил конус желтого света в молчаливое пространство за фальшбортом. Едва я это сделал, как услышал короткий сдавленный крик, а затем всплеск, словно кто-то резко погрузил в воду весла. Не могу утверждать наверняка, что разглядел что-то на воде. Пожалуй, лишь при первой вспышке света мне померещился какой-то силуэт, тут же исчезнувший.
– Эй, вы! – крикнул я. – Что это еще за глупости?
Но в ответ я услышал лишь плеск весел удаляющейся в темноту лодки.
– Что случилось, Джордж? – спросил высунувшийся из люка Уилл.
– Иди сюда, Уилл! – позвал я.
– Так что случилось? – повторил он, пересекая палубу.
Я рассказал ему о странном происшествии. Он задал несколько вопросов, а затем, после секундного молчания, поднес к губам сложенные рупором ладони и крикнул:
– Эй, на лодке!
Издалека до нас долетел ответный крик, хотя и очень слабый, и мой компаньон крикнул снова. Наконец, после недолгой тишины, до наших ушей донесся слабый плеск весел. Уилл крикнул еще раз.
На этот раз мы услышали ответ.
– Уберите свет.
– Черта с два, – пробормотал я, но Уилл попросил меня исполнить это пожелание, и я опустил фонарь на палубу за фальшбортом.
– Подплывите ближе, – попросил Уилл, и плеск весел возобновился. Затем, на расстоянии примерно футов тридцати, лодка остановилась.
– Плывите к борту, – пригласил Уилл. – Вам здесь нечего и некого бояться.
– А вы обещаете, что не станете на меня светить?
– Да что с вами такого, раз вы так дьявольски боитесь света? – не выдержал я.
– Все дело в том... – начал было голос, но тут же смолк.
– В чем? – быстро переспросил я.
Уилл положил руку мне на плечо.
– Помолчи минутку, старина, – негромко проговорил он. – Я сам с ним разберусь.
Он перегнулся через борт.
– Послушайте, мистер, – сказал он, – очень уж странно, что вы вот так взяли и наткнулись на нас прямо посреди Тихого океана. А откуда нам знать, что вы не задумали какой-нибудь хитрый трюк? Вот вы говорите, что в лодке вы один. А как мы в этом убедимся, если не посветим на вас, а? И вообще, почему вы так боитесь света?
Когда Уилл умолк, я опять услышал плеск весел. Вскоре незнакомец отозвался, но уже с гораздо большего расстояния, и в его голосе прозвучали безнадежность и отчаяние:
– Мне очень... очень жаль! Я не стал бы вас беспокоить, но я голоден и... и она тоже.
Он замолчал, и мы услышали затихающий плеск весел.
– Стойте! – выкрикнул Уилл. – Я вовсе не хотел вас прогонять. Вернитесь! Если вы не любите свет, то мы спрячем фонарь.
Он повернулся ко мне:
– Слушай, это чертовски странная уловка, но, думаю, нам-то бояться нечего?
– Вряд ли. По-моему, бедняга этот с потерпевшего крушение корабля, только он совсем свихнулся.
Звуки весел зазвучали ближе.
– Отнеси фонарь обратно к нактоузу, – попросил Уилл, а сам склонился над бортом и стал вслушиваться. Я поставил фонарь на место и вернулся к Уиллу. Шум весел прекратился на расстоянии дюжины ярдов.
– Может, сейчас вы подплывете к борту? – спокойным голосом спросил Уилл. – Мы поставили фонарь обратно в нактоуз.
– Я... не могу, – ответил голос. – Не могу подплыть ближе. Я даже не смогу заплатить вам за... провизию.
– Ничего, – сказал Уилл и нерешительно смолк. – Мы дадим вам ее столько, сколько сможете увезти.
– Вы очень добры! – воскликнул незнакомец. – Пусть Господь, который все понимает, вознаградит вас... – Его охрипший от волнения голос прервался.
– А... леди? – резко произнес Уилл. – Она не...
– Я оставил ее на острове.
– На каком острове? – спросил я.
– Я не знаю его названия. О, если бы Господь...
– А не могли бы мы послать за ней лодку? – спросил Уилл.
– Нет! – с неожиданной страстностью ответил незнакомец. – Боже, нет! – Помолчав, он с упреком добавил: – Я рискнул только из-за нашей нужды... потому что из-за ее мучений невыносимо страдаю и я...
– Не волнуйтесь, я не держу на вас обиды! – воскликнул Уилл. – Кто бы вы ни были, подождите минутку, я сейчас чего-нибудь принесу.
Через пару минут он вернулся с продуктами и подошел к борту.
– А не могли бы вы подплыть за едой поближе? – спросил он.
– Нет... не могу, – ответил голос, и мне показалось, что в его интонации прозвучало страстное, но с трудом подавляемое желание. До меня внезапно дошло, что бедный старик в темноте действительно страдает, отчаянно нуждаясь в том, что держит в руках Уилл, и тем не менее из-за какого-то непонятного страха не может приблизиться к борту шхуны и получить желаемое. И одновременно с этим озарением я окончательно понял, что Невидимка вовсе не безумен и, в полном умственном здравии, противостоит какому-то невыносимому ужасу.
– Да будь я проклят, Уилл! – воскликнул я, переполненный самыми различными чувствами, среди которых преобладало сострадание. – Принеси ящик. Сложим в него продукты, спустим на воду, и тогда он их подберет.
Так мы и поступили, а потом багром оттолкнули ящик от борта в темноту. Через минуту мы услышали негромкий возглас Невидимки и поняли, что он отыскал ящик.
Чуть позднее он крикнул нам слова прощания, добавив к ним такое сердечное благословение, которого, я уверен, мы вовсе не заслуживали. А затем, не теряя времени даром, он снова заработал в темноте веслами.
– Шустро он смотался, – заметил Уилл, наверное, слегка обидевшись.
– Подожди, – отозвался я. – По-моему, он еще вернется. Наверняка ему очень нужна еда.
– А там еще и дама, – добавил Уилл.
Помолчав секунду, он произнес:
Поскольку ветра не было, мы закрепили румпель, и на палубе я пребывал в одиночестве. Вся остальная команда – двое мужчин и парень – отсыпалась в носовом кубрике, а Уилл, мой друг и владелец этого маленького судна, спал в своей маленькой каюте на корме.
Внезапно из темноты до меня донесся возглас:
– Эй, на шхуне!
Он прозвучал настолько неожиданно, что от удивления я даже не отозвался сразу.
Голос, странно хриплый и словно нечеловеческий, вновь послышался откуда-то из темноты со стороны левого борта:
– Эй, на шхуне!
– Эй! – крикнул я в ответ, успев прийти в себя. – Кто вы такой? Что вам надо?
– Вам нечего меня бояться, – отозвался странный голос, владелец которого, вероятно, заметил в моих интонациях неуверенность. – Я всего лишь старый... человек.
Пауза прозвучала совершенно неуместно, но лишь позднее до меня дошел ее смысл.
– Тогда почему вы не подплываете ближе? – спросил я несколько раздраженно, потому что мне не понравился его намек на то, что я слегка испугался.
– Я... не могу. Это опасно. Я...
Голос неожиданно оборвался, и наступила тишина.
– О чем это вы? – спросил я, еще больше удивившись. – Что именно опасно? Где вы сейчас?
Я немного подождал, но ответа не услышал. А потом, охваченный внезапным неопределенным подозрением, быстро подошел к нактоузу и взял зажженный фонарь. Одновременно я постучал в палубу пяткой, чтобы разбудить Уилла. Затем подошел к борту и направил конус желтого света в молчаливое пространство за фальшбортом. Едва я это сделал, как услышал короткий сдавленный крик, а затем всплеск, словно кто-то резко погрузил в воду весла. Не могу утверждать наверняка, что разглядел что-то на воде. Пожалуй, лишь при первой вспышке света мне померещился какой-то силуэт, тут же исчезнувший.
– Эй, вы! – крикнул я. – Что это еще за глупости?
Но в ответ я услышал лишь плеск весел удаляющейся в темноту лодки.
– Что случилось, Джордж? – спросил высунувшийся из люка Уилл.
– Иди сюда, Уилл! – позвал я.
– Так что случилось? – повторил он, пересекая палубу.
Я рассказал ему о странном происшествии. Он задал несколько вопросов, а затем, после секундного молчания, поднес к губам сложенные рупором ладони и крикнул:
– Эй, на лодке!
Издалека до нас долетел ответный крик, хотя и очень слабый, и мой компаньон крикнул снова. Наконец, после недолгой тишины, до наших ушей донесся слабый плеск весел. Уилл крикнул еще раз.
На этот раз мы услышали ответ.
– Уберите свет.
– Черта с два, – пробормотал я, но Уилл попросил меня исполнить это пожелание, и я опустил фонарь на палубу за фальшбортом.
– Подплывите ближе, – попросил Уилл, и плеск весел возобновился. Затем, на расстоянии примерно футов тридцати, лодка остановилась.
– Плывите к борту, – пригласил Уилл. – Вам здесь нечего и некого бояться.
– А вы обещаете, что не станете на меня светить?
– Да что с вами такого, раз вы так дьявольски боитесь света? – не выдержал я.
– Все дело в том... – начал было голос, но тут же смолк.
– В чем? – быстро переспросил я.
Уилл положил руку мне на плечо.
– Помолчи минутку, старина, – негромко проговорил он. – Я сам с ним разберусь.
Он перегнулся через борт.
– Послушайте, мистер, – сказал он, – очень уж странно, что вы вот так взяли и наткнулись на нас прямо посреди Тихого океана. А откуда нам знать, что вы не задумали какой-нибудь хитрый трюк? Вот вы говорите, что в лодке вы один. А как мы в этом убедимся, если не посветим на вас, а? И вообще, почему вы так боитесь света?
Когда Уилл умолк, я опять услышал плеск весел. Вскоре незнакомец отозвался, но уже с гораздо большего расстояния, и в его голосе прозвучали безнадежность и отчаяние:
– Мне очень... очень жаль! Я не стал бы вас беспокоить, но я голоден и... и она тоже.
Он замолчал, и мы услышали затихающий плеск весел.
– Стойте! – выкрикнул Уилл. – Я вовсе не хотел вас прогонять. Вернитесь! Если вы не любите свет, то мы спрячем фонарь.
Он повернулся ко мне:
– Слушай, это чертовски странная уловка, но, думаю, нам-то бояться нечего?
– Вряд ли. По-моему, бедняга этот с потерпевшего крушение корабля, только он совсем свихнулся.
Звуки весел зазвучали ближе.
– Отнеси фонарь обратно к нактоузу, – попросил Уилл, а сам склонился над бортом и стал вслушиваться. Я поставил фонарь на место и вернулся к Уиллу. Шум весел прекратился на расстоянии дюжины ярдов.
– Может, сейчас вы подплывете к борту? – спокойным голосом спросил Уилл. – Мы поставили фонарь обратно в нактоуз.
– Я... не могу, – ответил голос. – Не могу подплыть ближе. Я даже не смогу заплатить вам за... провизию.
– Ничего, – сказал Уилл и нерешительно смолк. – Мы дадим вам ее столько, сколько сможете увезти.
– Вы очень добры! – воскликнул незнакомец. – Пусть Господь, который все понимает, вознаградит вас... – Его охрипший от волнения голос прервался.
– А... леди? – резко произнес Уилл. – Она не...
– Я оставил ее на острове.
– На каком острове? – спросил я.
– Я не знаю его названия. О, если бы Господь...
– А не могли бы мы послать за ней лодку? – спросил Уилл.
– Нет! – с неожиданной страстностью ответил незнакомец. – Боже, нет! – Помолчав, он с упреком добавил: – Я рискнул только из-за нашей нужды... потому что из-за ее мучений невыносимо страдаю и я...
– Не волнуйтесь, я не держу на вас обиды! – воскликнул Уилл. – Кто бы вы ни были, подождите минутку, я сейчас чего-нибудь принесу.
Через пару минут он вернулся с продуктами и подошел к борту.
– А не могли бы вы подплыть за едой поближе? – спросил он.
– Нет... не могу, – ответил голос, и мне показалось, что в его интонации прозвучало страстное, но с трудом подавляемое желание. До меня внезапно дошло, что бедный старик в темноте действительно страдает, отчаянно нуждаясь в том, что держит в руках Уилл, и тем не менее из-за какого-то непонятного страха не может приблизиться к борту шхуны и получить желаемое. И одновременно с этим озарением я окончательно понял, что Невидимка вовсе не безумен и, в полном умственном здравии, противостоит какому-то невыносимому ужасу.
– Да будь я проклят, Уилл! – воскликнул я, переполненный самыми различными чувствами, среди которых преобладало сострадание. – Принеси ящик. Сложим в него продукты, спустим на воду, и тогда он их подберет.
Так мы и поступили, а потом багром оттолкнули ящик от борта в темноту. Через минуту мы услышали негромкий возглас Невидимки и поняли, что он отыскал ящик.
Чуть позднее он крикнул нам слова прощания, добавив к ним такое сердечное благословение, которого, я уверен, мы вовсе не заслуживали. А затем, не теряя времени даром, он снова заработал в темноте веслами.
– Шустро он смотался, – заметил Уилл, наверное, слегка обидевшись.
– Подожди, – отозвался я. – По-моему, он еще вернется. Наверняка ему очень нужна еда.
– А там еще и дама, – добавил Уилл.
Помолчав секунду, он произнес:
Вода была мокра насквозь.
У меня было ощущение, что мы омерзительно противоречим тихой безмятежности, окружавшей нас. На чистой синеве неба не было ни единой тучки или птицы, ничто не нарушало тишины широко раскинувшегося пляжа, где мы были одни. Море, сиявшее в лучах восходящего солнца, манило своей чистотой. Хотелось броситься в его волны и умыться, но я боялся его испачкать.
Мы - грязь и больше ничего, подумал я. Мы - стайка уродливых липких жучков, ползущих по чистой и гладкой поверхности мрамора. На месте Бога я бы глянул вниз, увидел, как мы тащим на себе дурацкие корзинки для пикников да яркие нелепые одеяла, наступил бы на нас ногой и раздавил всех в лепешку.
В таком месте надо быть влюбленными или монахами, но мы были всего лишь кучкой скучающих и скучных пьяниц. Когда находишься рядом с Карлом, невозможно не напиться. Добрый, прижимистый старина Карл — великий провокатор. Он использует выпивку, как садист использует кнут. Он пристает к тебе с предложением выпить до тех пор, пока ты не начинаешь рыдать, сходить с ума или же, напившись, падаешь замертво; этот процесс доставляет Карлу величайшее наслаждение.
Мы пили всю ночь, а когда наступило утро, кому-то из нас — кажется, Мэнди — пришла в голову блестящая идея устроить пикник. Естественно, все нашли эту мысль превосходной, все были в прекрасном настроении, быстро упаковали корзинки, не забыв о выпивке, набились в машину и вскоре уже были на пляже — кричали, размахивали руками и искали место, где можно устроить нашу идиотскую пирушку.
Отыскав широкий плоский камень, мы решили, что это будет стол, и выгрузили на него наши запасы — наспех подобранную коллекцию пакетов с едой и бутылок со спиртным.
Наряду с прочими продуктами кто-то сунул в корзину банку колбасного фарша. При виде этой банки на меня внезапно нахлынула волна странной тоски. Я вспомнил войну и себя, молоденького солдатика марширующего по Италии. Вспомнил, как давно это было и как мало я сделал из того, о чем мечтал в те годы.
Открыв банку с фаршем, я отошел в сторонку, чтобы с ней предаться воспоминаниям, однако длилось это недолго. Люди из компании Карла не любят одиночества и не любят воспоминаний, поэтому им трудно представить, что кому-то на свете это нравится.
Моей спасительницей стала Ирен, всегда отличавшаяся особой чувствительностью: Ирен не в силах видеть одинокого человека, поскольку для нее самой одиночество несколько раз едва не закончилось весьма печально. Одиночество — и пилюли, чтобы покончить с этими страданиями…
— Что с тобой, Фил? — спросила она.
— Ничего, — ответил я, разглядывая нанизанный на вилку кусок розового фарша. — Вкус такой же, как и прежде. Ничего не изменилось.
Она осторожно опустилась на песок рядом со мной, стараясь не расплескать ни единой капли виски из своего стакана — должно быть, миллионного по счету.
— Фил, — сказала она, — меня беспокоит Мэнди. Она выглядит такой несчастной!
Я взглянул на Мэнди. Запрокинув голову, она заливалась смехом от очередной шутки Карла. Тот, улыбаясь, смотрел на нее; его зубы поблескивали, а глубоко посаженные глаза казались мертвыми, как всегда.
— А с чего ей быть счастливой? — спросил я. — Господи боже, да что у нее есть такого, чтобы чувствовать себя счастливой?
— О, Фил, — сказала Ирен. — Тебе нравится изображать ужасного циника. Она ведь жива, разве этого мало?
Я взглянул на Ирен, размышляя, что она имеет в виду — она, столько раз пытавшаяся свести счеты с жизнью. Я решил, что никогда этого не узнаю. Еще я понял, что совсем не хочу колбасного фарша. Обернулся, чтобы зашвырнуть его подальше, внеся тем самым свою лепту в загрязнение пляжа, — и вот тут-то их и увидел.
Они находились далеко, фигурки не больше точки, однако в их облике было что-то странное, заметное даже с большого расстояния.
— А мы здесь не одни, — сказал я.
Ирен взглянула в ту сторону.
— Эй, смотрите! — крикнула она. — Здесь еще кто-то есть!
Все посмотрели туда, куда она показывала.
— Это еще кто? — спросил Карл. — Они не знают, что этот пляж — моя собственность?
И рассмеялся.
У Карла две страсти: собственность и власть. Когда напивается, он корчит из себя правителя мира.
— Покажи им, кто здесь главный, Карл! — сказал Хорес.
У Хореса всегда в запасе искрометные шуточки вроде этой, на все случаи жизни. Долговязый, лысый, с огромным адамовым яблоком, он, как и я, работает на Карла. Честно говоря, мне было бы жаль Хореса, если бы не гаденькое подозрение, что ему просто нравится пресмыкаться. Хорес поднял тощий кулак и погрозил парочке, расположившейся на пляже.
— Вы бы валили отсюда! — крикнул он. — Это частная собственность!
— Слушай, когда ты заткнешься и перестанешь быть идиотом? — спросила его Мэнди. — Нельзя так разговаривать с незнакомыми людьми. Кстати, не исключено, что это их собственность.
Не знаю, как это вышло, но Мэнди — жена Хореса. Между прочим, его дети разговаривают с ним примерно так же. Хорес тут же замолчал и принялся застегивать свою ветровку, поскольку, во-первых, похолодало, а во-вторых, ему приказали замолчать.
В нашу сторону двинулись две фигуры. Одна, высокая и грузная, двигалась какой-то странной раскачивающейся походкой. Вторая, низенькая и сутулая, выписывала замысловатые зигзаги, шагая рядом со своим огромным, как башня, спутником.
— Они идут к нам, — сказал я.
Внезапно налетевший холодный ветер и приближение двух незнакомцев оказало на нас какое-то странное впечатление. Мы притихли и молча наблюдали, как они идут. Чем ближе они подходили, тем более странной казалась нам их внешность.
— Господи боже! — воскликнула Ирен. — У низенького-то квадратная шляпа!
— Мне кажется, она сложена из газеты, — заметила, прищурившись, Мэнди. — Ну да, это газета, сложенная газета.
— Нет, вы только поглядите на усы этого высоченного негодяя! — сказал Карл. — Я таких зарослей в жизни не видел.
— Они мне что-то напоминают, — проговорил я.
Все посмотрели на меня.
Да это же Морж и Плотник…
— Они похожи на Моржа и Плотника, — сказал я.
Мы - грязь и больше ничего, подумал я. Мы - стайка уродливых липких жучков, ползущих по чистой и гладкой поверхности мрамора. На месте Бога я бы глянул вниз, увидел, как мы тащим на себе дурацкие корзинки для пикников да яркие нелепые одеяла, наступил бы на нас ногой и раздавил всех в лепешку.
В таком месте надо быть влюбленными или монахами, но мы были всего лишь кучкой скучающих и скучных пьяниц. Когда находишься рядом с Карлом, невозможно не напиться. Добрый, прижимистый старина Карл — великий провокатор. Он использует выпивку, как садист использует кнут. Он пристает к тебе с предложением выпить до тех пор, пока ты не начинаешь рыдать, сходить с ума или же, напившись, падаешь замертво; этот процесс доставляет Карлу величайшее наслаждение.
Мы пили всю ночь, а когда наступило утро, кому-то из нас — кажется, Мэнди — пришла в голову блестящая идея устроить пикник. Естественно, все нашли эту мысль превосходной, все были в прекрасном настроении, быстро упаковали корзинки, не забыв о выпивке, набились в машину и вскоре уже были на пляже — кричали, размахивали руками и искали место, где можно устроить нашу идиотскую пирушку.
Отыскав широкий плоский камень, мы решили, что это будет стол, и выгрузили на него наши запасы — наспех подобранную коллекцию пакетов с едой и бутылок со спиртным.
Наряду с прочими продуктами кто-то сунул в корзину банку колбасного фарша. При виде этой банки на меня внезапно нахлынула волна странной тоски. Я вспомнил войну и себя, молоденького солдатика марширующего по Италии. Вспомнил, как давно это было и как мало я сделал из того, о чем мечтал в те годы.
Открыв банку с фаршем, я отошел в сторонку, чтобы с ней предаться воспоминаниям, однако длилось это недолго. Люди из компании Карла не любят одиночества и не любят воспоминаний, поэтому им трудно представить, что кому-то на свете это нравится.
Моей спасительницей стала Ирен, всегда отличавшаяся особой чувствительностью: Ирен не в силах видеть одинокого человека, поскольку для нее самой одиночество несколько раз едва не закончилось весьма печально. Одиночество — и пилюли, чтобы покончить с этими страданиями…
— Что с тобой, Фил? — спросила она.
— Ничего, — ответил я, разглядывая нанизанный на вилку кусок розового фарша. — Вкус такой же, как и прежде. Ничего не изменилось.
Она осторожно опустилась на песок рядом со мной, стараясь не расплескать ни единой капли виски из своего стакана — должно быть, миллионного по счету.
— Фил, — сказала она, — меня беспокоит Мэнди. Она выглядит такой несчастной!
Я взглянул на Мэнди. Запрокинув голову, она заливалась смехом от очередной шутки Карла. Тот, улыбаясь, смотрел на нее; его зубы поблескивали, а глубоко посаженные глаза казались мертвыми, как всегда.
— А с чего ей быть счастливой? — спросил я. — Господи боже, да что у нее есть такого, чтобы чувствовать себя счастливой?
— О, Фил, — сказала Ирен. — Тебе нравится изображать ужасного циника. Она ведь жива, разве этого мало?
Я взглянул на Ирен, размышляя, что она имеет в виду — она, столько раз пытавшаяся свести счеты с жизнью. Я решил, что никогда этого не узнаю. Еще я понял, что совсем не хочу колбасного фарша. Обернулся, чтобы зашвырнуть его подальше, внеся тем самым свою лепту в загрязнение пляжа, — и вот тут-то их и увидел.
Они находились далеко, фигурки не больше точки, однако в их облике было что-то странное, заметное даже с большого расстояния.
— А мы здесь не одни, — сказал я.
Ирен взглянула в ту сторону.
— Эй, смотрите! — крикнула она. — Здесь еще кто-то есть!
Все посмотрели туда, куда она показывала.
— Это еще кто? — спросил Карл. — Они не знают, что этот пляж — моя собственность?
И рассмеялся.
У Карла две страсти: собственность и власть. Когда напивается, он корчит из себя правителя мира.
— Покажи им, кто здесь главный, Карл! — сказал Хорес.
У Хореса всегда в запасе искрометные шуточки вроде этой, на все случаи жизни. Долговязый, лысый, с огромным адамовым яблоком, он, как и я, работает на Карла. Честно говоря, мне было бы жаль Хореса, если бы не гаденькое подозрение, что ему просто нравится пресмыкаться. Хорес поднял тощий кулак и погрозил парочке, расположившейся на пляже.
— Вы бы валили отсюда! — крикнул он. — Это частная собственность!
— Слушай, когда ты заткнешься и перестанешь быть идиотом? — спросила его Мэнди. — Нельзя так разговаривать с незнакомыми людьми. Кстати, не исключено, что это их собственность.
Не знаю, как это вышло, но Мэнди — жена Хореса. Между прочим, его дети разговаривают с ним примерно так же. Хорес тут же замолчал и принялся застегивать свою ветровку, поскольку, во-первых, похолодало, а во-вторых, ему приказали замолчать.
В нашу сторону двинулись две фигуры. Одна, высокая и грузная, двигалась какой-то странной раскачивающейся походкой. Вторая, низенькая и сутулая, выписывала замысловатые зигзаги, шагая рядом со своим огромным, как башня, спутником.
— Они идут к нам, — сказал я.
Внезапно налетевший холодный ветер и приближение двух незнакомцев оказало на нас какое-то странное впечатление. Мы притихли и молча наблюдали, как они идут. Чем ближе они подходили, тем более странной казалась нам их внешность.
— Господи боже! — воскликнула Ирен. — У низенького-то квадратная шляпа!
— Мне кажется, она сложена из газеты, — заметила, прищурившись, Мэнди. — Ну да, это газета, сложенная газета.
— Нет, вы только поглядите на усы этого высоченного негодяя! — сказал Карл. — Я таких зарослей в жизни не видел.
— Они мне что-то напоминают, — проговорил я.
Все посмотрели на меня.
Да это же Морж и Плотник…
— Они похожи на Моржа и Плотника, — сказал я.
Время шестерёнок.
Незаконнорожденный Фаберже был в ярости. По дому летали инструменты, хлопали двери, сотрясались стены и пол. Ювелир изрыгнул поток такой едкой ругани, что со стен должна была осыпаться и без того облупившаяся краска. Отказали. Ему. ЕМУ. Наследника знаменитейших ювелиров мира, творцов таких чудес, которые можно видеть только во сне, выкинули взашей за ворота, словно последнего нищего. Хуже того, его выкинул какой-то ничтожный, разряженный, безмозглый слуга, и его подношению даже не было дано приблизиться к царскому порогу.
Фаберже с яростью кинул молоток в стену. Молоток застрял, а ювелир продолжал буйствовать в кипящем гневе. Созданное им яйцо, идеальное продолжение знаменитых яиц Фаберже, которые дарили цесаревичам и великим княжнам, было разбито, растёрто в мелкую пыль по всему полу. На это творение ушёл почти год, и его нервам, связям и финансам был нанесён ощутимый ущерб. Яйцо блестело драгоценными металлами, и каждый сантиметр был расписан сценками из сказок про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного. Их холодные глаза были сделаны из чистого бриллианта, а глаза испуганных детей - из мягкого жемчуга.
За крохотной потайной дверцей в нарисованной избушке на курьих ножках разворачивалась ужасная заводная драма в миниатюре. Открывались крохотные дверцы, разворачивалась битва между героем и злодеем, румяный здоровяк сражался с вековым Кощеем. Жуткая сцена - в самый раз для жестокосердного мальчика, каким, как всем известно, и был младший сын царской семьи. И всё это было разбито в прах милостью какого-то придворного идиота, который был "возмущён в лучших чувствах" и "не мог позволить этому испортить тонкую, нежную натуру цесаревича". Свинья с куриным сердцем, ему хватило наглости приказать страже вытурить его за ворота.
Поток гнева начал иссякать, и ювелир прислонился к стене, обмяк, уткнулся больной головой. Мастерская, в которой он и жил, была разгромлена. Более-менее целыми остались только верхние полки. Он со всхлипом поглядел на свои бесполезные руки. Его величайшее творение, равного которому он уже точно не создаст. Фаберже закатил глаза к потолку, бездумно подыскивая балку потолще, которая уж точно выдержит его вес. Тут его взгляд упал на розу из шестерёнок, притаившуюся в дальнем углу верхней полки. Поверни стебель - и она раскроется, а потом сложится сама в себя, обернётся птицей и будет чирикать. Красными, лихорадочными глазами ювелир смотрел на розу, а в его мозгу зашевелилась идея.
Он поднялся, снял с полки розу, завёл её и начал любоваться танцем изменения. Именно изменение постоянно доставляло радость. Раскрытие секрета. Экстерьер яиц обычно оставлялся без внимания в пылу охоты за тайной внутри них. Тайны. Изменения. На его измождённом и мрачном лице зародилась диковатая улыбка. Он построит им такое чудо, какого ещё не видел мир, и никогда больше не увидит. Он сотворит такое сокровище, которое будут беречь и хранить веками, даже тогда, когда все цари сгниют в своих забытых могилах.
Он начал с разбитого часового механизма. Ювелир оббегал все мастерские, все свалки, отыскал все часы, механизмы и игрушки, где была хоть одна шестерёнка. Мастерская быстро наполнилась бесчисленными стопками шестерёнок, шкивов, маховиков и пружин, аккуратно сложенные детали громоздились под самый потолок. Разрастались и чертежи - два листа превратились в пять, потом в восемь, потом - в двадцать. Вскоре он принялся чертить на стенах и на тех узеньких полосках пола, которые ещё не скрылись под массой шестерёнок.
Друзей у него было немного, но даже среди них поползли слухи. Ювелир отощал и осунулся сверх всякой меры, в глазах горел безумный огонь, а речь обычно сводилась к тихому бормотанию. Те, кто заходил к нему, едва могли пролезть в дверь, но и их быстро прогонял густой запах масла и ржавчины. Все запасы ювелирных изделий и деталей давно иссякли, равно как и источники дохода. Фаберже начал продавать мебель, потом одежду - ровно столько, чтобы хватало на скромную порцию еды. Начались пересуды об одержимости бесами и чернокнижии.
Участь изгоя ювелира не пугала, и в чём-то даже привлекала. Он давно не любил слишком любезных, слишком открытых, а всякие разговоры и общественная деятельность только отвлекали от Дела. Отказавшись от такого дурного дела как сон, он посвятил Делу ещё больше времени, а чтобы заткнуть унылые жалобы соседей на ночной шум, хватало одного мрачного взгляда. Творение обретало форму, миллионы деталей переходили из общей кучи в ту конструкцию, которая заняла большую часть его маленькой комнаты. В её безмолвном сердце ювелир впервые за многие недели впал в какое-то подобие сна и слушал призрачное тиканье того, что скоро обещало родиться.
Он вложил в Дело всё, что у него было, всего себя. Он говорил с ним, упрашивал, костерил, шептал и кричал. Не раз и не два он получал ранения от соскочивших осей и ни с того ни с сего закрутившихся шестерёнок. Кровью и гноем поливал он свои стамески, шила и отвёртки, а его руки трескались, шли пузырями, зарастали и снова трескались. Он спрашивал у конструкции, что она думает по поводу её будущего деревянного облачения. Поставить здесь окно, или, может, башенку? Кого за деревце посадить - кролика или крысу? Когда дело его рук впервые завелось, и от его дрожания с крыши посыпалась пыль, он обнял созданный им из дерева и металла ужас с большей страстью, чем когда-либо обнимал женщину.
Наконец всё было готово. Чтобы вынести Дело из дома, пришлось снести стену и нанять тридцать крепких грузчиков. Ювелир прикоснулся к своему творению с такой нежностью и обожанием, с какой отец касается крохотных пальчиков своего ребёнка. Это уже было не просто даром или подношением для облечённых властью. Здесь было всё, чего ему было не дано познать. Любовь к женщине, к ребёнку, к матери - в это прекрасное и ужасное творение он вложил всё, что было в его измученной душе.
Фаберже с яростью кинул молоток в стену. Молоток застрял, а ювелир продолжал буйствовать в кипящем гневе. Созданное им яйцо, идеальное продолжение знаменитых яиц Фаберже, которые дарили цесаревичам и великим княжнам, было разбито, растёрто в мелкую пыль по всему полу. На это творение ушёл почти год, и его нервам, связям и финансам был нанесён ощутимый ущерб. Яйцо блестело драгоценными металлами, и каждый сантиметр был расписан сценками из сказок про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного. Их холодные глаза были сделаны из чистого бриллианта, а глаза испуганных детей - из мягкого жемчуга.
За крохотной потайной дверцей в нарисованной избушке на курьих ножках разворачивалась ужасная заводная драма в миниатюре. Открывались крохотные дверцы, разворачивалась битва между героем и злодеем, румяный здоровяк сражался с вековым Кощеем. Жуткая сцена - в самый раз для жестокосердного мальчика, каким, как всем известно, и был младший сын царской семьи. И всё это было разбито в прах милостью какого-то придворного идиота, который был "возмущён в лучших чувствах" и "не мог позволить этому испортить тонкую, нежную натуру цесаревича". Свинья с куриным сердцем, ему хватило наглости приказать страже вытурить его за ворота.
Поток гнева начал иссякать, и ювелир прислонился к стене, обмяк, уткнулся больной головой. Мастерская, в которой он и жил, была разгромлена. Более-менее целыми остались только верхние полки. Он со всхлипом поглядел на свои бесполезные руки. Его величайшее творение, равного которому он уже точно не создаст. Фаберже закатил глаза к потолку, бездумно подыскивая балку потолще, которая уж точно выдержит его вес. Тут его взгляд упал на розу из шестерёнок, притаившуюся в дальнем углу верхней полки. Поверни стебель - и она раскроется, а потом сложится сама в себя, обернётся птицей и будет чирикать. Красными, лихорадочными глазами ювелир смотрел на розу, а в его мозгу зашевелилась идея.
Он поднялся, снял с полки розу, завёл её и начал любоваться танцем изменения. Именно изменение постоянно доставляло радость. Раскрытие секрета. Экстерьер яиц обычно оставлялся без внимания в пылу охоты за тайной внутри них. Тайны. Изменения. На его измождённом и мрачном лице зародилась диковатая улыбка. Он построит им такое чудо, какого ещё не видел мир, и никогда больше не увидит. Он сотворит такое сокровище, которое будут беречь и хранить веками, даже тогда, когда все цари сгниют в своих забытых могилах.
Он начал с разбитого часового механизма. Ювелир оббегал все мастерские, все свалки, отыскал все часы, механизмы и игрушки, где была хоть одна шестерёнка. Мастерская быстро наполнилась бесчисленными стопками шестерёнок, шкивов, маховиков и пружин, аккуратно сложенные детали громоздились под самый потолок. Разрастались и чертежи - два листа превратились в пять, потом в восемь, потом - в двадцать. Вскоре он принялся чертить на стенах и на тех узеньких полосках пола, которые ещё не скрылись под массой шестерёнок.
Друзей у него было немного, но даже среди них поползли слухи. Ювелир отощал и осунулся сверх всякой меры, в глазах горел безумный огонь, а речь обычно сводилась к тихому бормотанию. Те, кто заходил к нему, едва могли пролезть в дверь, но и их быстро прогонял густой запах масла и ржавчины. Все запасы ювелирных изделий и деталей давно иссякли, равно как и источники дохода. Фаберже начал продавать мебель, потом одежду - ровно столько, чтобы хватало на скромную порцию еды. Начались пересуды об одержимости бесами и чернокнижии.
Участь изгоя ювелира не пугала, и в чём-то даже привлекала. Он давно не любил слишком любезных, слишком открытых, а всякие разговоры и общественная деятельность только отвлекали от Дела. Отказавшись от такого дурного дела как сон, он посвятил Делу ещё больше времени, а чтобы заткнуть унылые жалобы соседей на ночной шум, хватало одного мрачного взгляда. Творение обретало форму, миллионы деталей переходили из общей кучи в ту конструкцию, которая заняла большую часть его маленькой комнаты. В её безмолвном сердце ювелир впервые за многие недели впал в какое-то подобие сна и слушал призрачное тиканье того, что скоро обещало родиться.
Он вложил в Дело всё, что у него было, всего себя. Он говорил с ним, упрашивал, костерил, шептал и кричал. Не раз и не два он получал ранения от соскочивших осей и ни с того ни с сего закрутившихся шестерёнок. Кровью и гноем поливал он свои стамески, шила и отвёртки, а его руки трескались, шли пузырями, зарастали и снова трескались. Он спрашивал у конструкции, что она думает по поводу её будущего деревянного облачения. Поставить здесь окно, или, может, башенку? Кого за деревце посадить - кролика или крысу? Когда дело его рук впервые завелось, и от его дрожания с крыши посыпалась пыль, он обнял созданный им из дерева и металла ужас с большей страстью, чем когда-либо обнимал женщину.
Наконец всё было готово. Чтобы вынести Дело из дома, пришлось снести стену и нанять тридцать крепких грузчиков. Ювелир прикоснулся к своему творению с такой нежностью и обожанием, с какой отец касается крохотных пальчиков своего ребёнка. Это уже было не просто даром или подношением для облечённых властью. Здесь было всё, чего ему было не дано познать. Любовь к женщине, к ребёнку, к матери - в это прекрасное и ужасное творение он вложил всё, что было в его измученной душе.
Домофон.
Дом, где Славику удалось купить квартиру, был старым, еще довоенным. Двухэтажный, с эркером и арочными окнами, со стенами в метр толщиной на яичной сцепке — так уже не строят. Первые пару месяцев Славка только выгребал старый хлам на помойку — горы религиозной литературы, какие-то обереги, кресты. Говорят, прежний владелец был какой-то псих и его нашли в середине февраля окоченевшим от холода, в комнате с распахнутыми на улицу окнами. Должно быть, многим потенциальным покупателям это не нравилось, и цена все падала и падала. А Славику-то что — он в призраков не верил, и вообще к мистической ерунде относился с большим недоверием.
Ну вот, наконец, голые стены и минимум мебели — поклеил обои, купил диван — можно перебираться, и уже на месте доделками заниматься. Перевез Славка свои пожитки и справил новоселье. Первые несколько ночей спал как убитый, ничего не слышал, а где-то спустя неделю проснулся от пищания домофона. Посмотрел на часы — три часа ночи. Что за ерунда?
Надо сказать, домофон — одна из немногих вещей, удививших Славку в этом доме. Новенький аппарат, с внешней камерой и маленьким экраном, дорогой. Сказали, его поставил прежний хозяин квартиры, страшный параноик, опасавшийся каких-то гостей.
Так вот, смотрит Славик на экран — и не видит ничего. Мошки летают в свете фонаря, мотыльки — и только. На всякий случай нажал кнопку разговора, спросил, кто там, но ответа не было. В трубке что-то потрескивало, издалека доносился собачий лай и шум поезда. Обычная летняя ночь. Славка плюнул и лег досыпать.
Днем происшествие забылось за кучей дел и беготней, просто не было времени думать, поэтому ночью он не понял сразу, что именно его разбудило.
Пищал домофон.
Славка дернул трубку, еще не совсем проснувшись:
— Да кого там носит-то ночами?!
Но в ответ снова было лишь стрекотание ночных сверчков и тихие потрескивания в трубке.
С тех пор звонки в домофон были почти каждую ночь, иногда по нескольку раз. Всегда в промежуток с двух до четырех часов ночи. Славка уже и орал, и выбегал на улицу, и мастера по домофонам вызывал — безрезультатно.
Подошло к концу лето, наступила осень. Ночи стали холодными и долгими. Вот уже несколько ночей подряд Славка спал спокойно, никто не звонил ему в домофон, и он уже подумал, что все, надоело хулиганам. Однако не тут-то было.
Очередной звонок раздался очень не вовремя — у Славика была его подружка Лика.
— Чертовы дети, — ругнулся он, подойдя к прибору. В этот раз потрескивания были как будто ближе, и по экранчику бежала легкая рябь. Славка прислушивался — ему показалось, что он различает чей-то шепот среди помех.
— Прекратите хулиганить, уроды! — зарычал он в трубку и вернулся на диван.
Теперь звонки снова случались каждую ночь, и помех становилось больше. Днем и вечером домофон работал исправно, да и мастер подтверждал, что прибор не сломан и нигде не замыкает. Несколько раз звонки случались при посторонних — Лика их слышала, но не различала ничего, кроме помех, однажды чертовщину видел Миха, оставшийся ночевать у Славки из-за ссоры с женой.
Первый снег выпал в начале ноября. Славка вернулся домой поздно, когда все жильцы уже были дома. Дорожку к подъезду замело, и его следы были единственными, нарушавшими белизну. Хотя… у входа Славка остановился и едва не выронил пакет с продуктами. Возле самой двери следы были, несколько. Маленькие следы детских босых ножек на снегу. Прямо под домофоном.
Осмотревшись, он убедился, что следы никуда не ведут — словно бы босой ребенок появился из ниоткуда, потоптался и исчез.
Славка в три прыжка влетел на второй этаж, заперся в квартире и залпом выпил полстакана водки. По спине бежал противный холодок, хоть парень он был не из робких. Хорошенько подумав, Славка даже успокоился. Ну, следы. Наверное, тоже дурацкая шутка. Может, ему кто-то мстит? Например, бывшая. На всякий случай выключив домофон, Славка лег спать.
Но в половине третьего ночи он проснулся от сигнала домофона. Славка опасался подойти и посмотреть, но сделал над собой усилие. На экране были сплошные помехи, но ему казалось, что там кто-то движется. В трубку шептали неразборчиво, а потом запели песенку, тоненьким детским голоском, подернутым потрескиванием помех. Волосы зашевелились у него на голове. Славка бросил трубку и дернул провод домофона, однако прежде чем тот пискнул и погас, на экране явно показалось на секунду лицо ребенка, очень бледное, с ввалившимися глазами и тяжелыми тенями вокруг них.
Славка кубарем кинулся на кухню, он хлестал водку из горла и не чувствовал жжения алкоголя. Ему было так жутко, как никогда в жизни. С трудом дождавшись утра, Славка помчался в поликлинику на прием к психиатру. Доктор выслушал его, прописал какие-то лекарства, и посоветовал больше спать, бывать на свежем воздухе и не есть тяжелой пищи на ночь. А если домофон так раздражает — его можно просто демонтировать.
Воодушевленный этой идеей, Славка поскакал домой. Он взял молоток и лупил по ненавистному прибору, пока не разбил прочный корпус. Оторвать ящик от стены не получалось, но Славка перерезал все провода — даже тот, что вел к трубке, и часть деталей теперь валялась на полу.
К вечеру начался снегопад и потеплело. Славик не спал, ожидая звонка, но разбитый прибор молчал. Под утро сон сморил хозяина квартиры, и проснулся он днем вполне спокойный. Оттепель продержалась несколько дней, нападало много снега, потом снова стало холодать. В город пришла зима.
Морозным утром Славка встретил на лестнице соседку из тех, религиозных фанатиков. Она торжественно вручила ему церковную свечку, бумажную иконку и крестик.
— Молитесь, молодой человек. Бог милостив, он услышит. Молитесь!
Спорить с фанатичкой Славка не стал, взял предложенное и поблагодарил. Кинул все в машине, да так и забыл там.
Вечером, возвращаясь домой, он увидел ребенка у подъезда. Кажется, это была девочка — длинные спутанные волосы стояли замерзшим колом, она вся была синяя от холода и почти совсем голая, только неряшливо повязанная грязная пеленка немного скрывала ее тело. Девочка медленно нажимала на кнопки домофона, но тот звонил, а никто не отвечал. Должно быть, хозяев не было дома.
Рядом залилась лаем собака, Славка дернулся на звук, а когда обернулся, жуткого ребенка уже не было.
На негнущихся ногах Славка влетел в подъезд, долго не мог попасть в замок ключом, ему все казалось, что ребенок стоит за его спиной. Соседская дверь приоткрылась, выглянула соседка, что утром давала ему свечку.
— Что, видел ее?
— К-кого? — дал петуха от страха Славик.
— Катю. Видел ее? — должно быть, вид трясущегося Славки не оставлял сомнений, потому что она распахнула дверь шире, приглашая. — Заходи.
Славка послушно прошел на кухню, увешанную детскими вещами; там пахло супом и кошкой.
— Не шуми, детей разбудишь, — соседка плюхнула на плиту чайник и замерла, глядя на гостя, — расскажу тебе.
— Кто такая Катя?
— Вот слушай. Раньше, в советское время, квартиры эти строили для академиков. Мой отец ее получил тогда. А в твоей квартире жила семья ученых с маленькой дочкой. Света ее звали. Балованная девка была, ой! Все у нее было, и одежда импортная, и игрушки, и Барби эта, прости Господи. Так и росла, не зная горя, красивая, да только о жизни не знала ничего. Ей только стукнуло восемнадцать, когда родителей Бог прибрал — разбились на машине, насмерть. Света сперва плакала и грустила, а потом волю-то почуяла, и закружило ее — гулянки, компашки, пьянки. Институт бросила, все сбережения родительские спустила, вещи из дома продавать начала. Мы и говорить с ней пытались, и заставлять — а у нее один ответ, мол, совершеннолетняя, делаю что хочу.
Вот и догулялась, забеременела от кого-то. Сперва даже вроде исправилась, поутихла, уборщицей в садике подрабатывала, ну и мы ей помогали чем могли. Родила она девочку в ноябре, назвала Катей. А после Нового Года появился у Светки дружок какой-то. Вроде не пьют, не шумят. А потом встретили Свету на лестнице — глаза ввалились, руки в синяках, ломка. На наркотики ее подсадил дружок-то. Опять у них веселье началось, все ходили люди какие-то, тихие, прятались. А я тогда санитаркой в больнице работала, сутками. Иду я с работы — а у подъезда сверток лежит странный. Я ткнула его — а там Катя трехмесячная, ледяная совсем. Орала она им, мешала. Вынесли на минутку и забыли забрать, — соседкин равномерный голос дрогнул.
Чайник на плите свистел, женщина плеснула кипятка в чашку Славика. Тикали часы, показывая половину первого ночи.
— Забрали их обоих, уж не знаю, лечили или в тюрьму. Не видели мы больше ни Светы, ни хахаля ее. Квартиру продали, только не очень скоро. А зимой стали слышать ночами детский плач под дверью подъезда. Думали, кажется нам, потом весна пришла и вроде стихло. А на следующую зиму снова ребенок плакал, но постарше уже. И соседка моя снизу, баба Зина, видела, как ползает там, у двери, ребенок, лет двух. Через год ее увидела я.
— Вы думаете это мертвый младенец? Бред какой-то, — Славка не мог заставить себя проглотить чай.
— Да знаю я, что бред. Но это точно она, Катя. Я ее на руках держала, кормила сама. Каждый год возвращается чуть старше и смышленее, и все домой просится. Сперва не могла двери открывать, а в прошлые годы уже по лестнице бродила. Потом кодовые замки поставили, и потише стало, плакала только под дверью и скреблась, пока не выучилась дверь открывать, — соседка вздохнула, — Уж мы и батюшку приглашали, и дом святили, все равно ходит морок. В этом году ей стукнуло семь. Предшественник твой ее боялся, даже домофон поставил себе лично, у нас-то только ключи есть. А Кате, должно быть, понравилась игрушка, ночами теперь часто пищит им.
Ну вот, наконец, голые стены и минимум мебели — поклеил обои, купил диван — можно перебираться, и уже на месте доделками заниматься. Перевез Славка свои пожитки и справил новоселье. Первые несколько ночей спал как убитый, ничего не слышал, а где-то спустя неделю проснулся от пищания домофона. Посмотрел на часы — три часа ночи. Что за ерунда?
Надо сказать, домофон — одна из немногих вещей, удививших Славку в этом доме. Новенький аппарат, с внешней камерой и маленьким экраном, дорогой. Сказали, его поставил прежний хозяин квартиры, страшный параноик, опасавшийся каких-то гостей.
Так вот, смотрит Славик на экран — и не видит ничего. Мошки летают в свете фонаря, мотыльки — и только. На всякий случай нажал кнопку разговора, спросил, кто там, но ответа не было. В трубке что-то потрескивало, издалека доносился собачий лай и шум поезда. Обычная летняя ночь. Славка плюнул и лег досыпать.
Днем происшествие забылось за кучей дел и беготней, просто не было времени думать, поэтому ночью он не понял сразу, что именно его разбудило.
Пищал домофон.
Славка дернул трубку, еще не совсем проснувшись:
— Да кого там носит-то ночами?!
Но в ответ снова было лишь стрекотание ночных сверчков и тихие потрескивания в трубке.
С тех пор звонки в домофон были почти каждую ночь, иногда по нескольку раз. Всегда в промежуток с двух до четырех часов ночи. Славка уже и орал, и выбегал на улицу, и мастера по домофонам вызывал — безрезультатно.
Подошло к концу лето, наступила осень. Ночи стали холодными и долгими. Вот уже несколько ночей подряд Славка спал спокойно, никто не звонил ему в домофон, и он уже подумал, что все, надоело хулиганам. Однако не тут-то было.
Очередной звонок раздался очень не вовремя — у Славика была его подружка Лика.
— Чертовы дети, — ругнулся он, подойдя к прибору. В этот раз потрескивания были как будто ближе, и по экранчику бежала легкая рябь. Славка прислушивался — ему показалось, что он различает чей-то шепот среди помех.
— Прекратите хулиганить, уроды! — зарычал он в трубку и вернулся на диван.
Теперь звонки снова случались каждую ночь, и помех становилось больше. Днем и вечером домофон работал исправно, да и мастер подтверждал, что прибор не сломан и нигде не замыкает. Несколько раз звонки случались при посторонних — Лика их слышала, но не различала ничего, кроме помех, однажды чертовщину видел Миха, оставшийся ночевать у Славки из-за ссоры с женой.
Первый снег выпал в начале ноября. Славка вернулся домой поздно, когда все жильцы уже были дома. Дорожку к подъезду замело, и его следы были единственными, нарушавшими белизну. Хотя… у входа Славка остановился и едва не выронил пакет с продуктами. Возле самой двери следы были, несколько. Маленькие следы детских босых ножек на снегу. Прямо под домофоном.
Осмотревшись, он убедился, что следы никуда не ведут — словно бы босой ребенок появился из ниоткуда, потоптался и исчез.
Славка в три прыжка влетел на второй этаж, заперся в квартире и залпом выпил полстакана водки. По спине бежал противный холодок, хоть парень он был не из робких. Хорошенько подумав, Славка даже успокоился. Ну, следы. Наверное, тоже дурацкая шутка. Может, ему кто-то мстит? Например, бывшая. На всякий случай выключив домофон, Славка лег спать.
Но в половине третьего ночи он проснулся от сигнала домофона. Славка опасался подойти и посмотреть, но сделал над собой усилие. На экране были сплошные помехи, но ему казалось, что там кто-то движется. В трубку шептали неразборчиво, а потом запели песенку, тоненьким детским голоском, подернутым потрескиванием помех. Волосы зашевелились у него на голове. Славка бросил трубку и дернул провод домофона, однако прежде чем тот пискнул и погас, на экране явно показалось на секунду лицо ребенка, очень бледное, с ввалившимися глазами и тяжелыми тенями вокруг них.
Славка кубарем кинулся на кухню, он хлестал водку из горла и не чувствовал жжения алкоголя. Ему было так жутко, как никогда в жизни. С трудом дождавшись утра, Славка помчался в поликлинику на прием к психиатру. Доктор выслушал его, прописал какие-то лекарства, и посоветовал больше спать, бывать на свежем воздухе и не есть тяжелой пищи на ночь. А если домофон так раздражает — его можно просто демонтировать.
Воодушевленный этой идеей, Славка поскакал домой. Он взял молоток и лупил по ненавистному прибору, пока не разбил прочный корпус. Оторвать ящик от стены не получалось, но Славка перерезал все провода — даже тот, что вел к трубке, и часть деталей теперь валялась на полу.
К вечеру начался снегопад и потеплело. Славик не спал, ожидая звонка, но разбитый прибор молчал. Под утро сон сморил хозяина квартиры, и проснулся он днем вполне спокойный. Оттепель продержалась несколько дней, нападало много снега, потом снова стало холодать. В город пришла зима.
Морозным утром Славка встретил на лестнице соседку из тех, религиозных фанатиков. Она торжественно вручила ему церковную свечку, бумажную иконку и крестик.
— Молитесь, молодой человек. Бог милостив, он услышит. Молитесь!
Спорить с фанатичкой Славка не стал, взял предложенное и поблагодарил. Кинул все в машине, да так и забыл там.
Вечером, возвращаясь домой, он увидел ребенка у подъезда. Кажется, это была девочка — длинные спутанные волосы стояли замерзшим колом, она вся была синяя от холода и почти совсем голая, только неряшливо повязанная грязная пеленка немного скрывала ее тело. Девочка медленно нажимала на кнопки домофона, но тот звонил, а никто не отвечал. Должно быть, хозяев не было дома.
Рядом залилась лаем собака, Славка дернулся на звук, а когда обернулся, жуткого ребенка уже не было.
На негнущихся ногах Славка влетел в подъезд, долго не мог попасть в замок ключом, ему все казалось, что ребенок стоит за его спиной. Соседская дверь приоткрылась, выглянула соседка, что утром давала ему свечку.
— Что, видел ее?
— К-кого? — дал петуха от страха Славик.
— Катю. Видел ее? — должно быть, вид трясущегося Славки не оставлял сомнений, потому что она распахнула дверь шире, приглашая. — Заходи.
Славка послушно прошел на кухню, увешанную детскими вещами; там пахло супом и кошкой.
— Не шуми, детей разбудишь, — соседка плюхнула на плиту чайник и замерла, глядя на гостя, — расскажу тебе.
— Кто такая Катя?
— Вот слушай. Раньше, в советское время, квартиры эти строили для академиков. Мой отец ее получил тогда. А в твоей квартире жила семья ученых с маленькой дочкой. Света ее звали. Балованная девка была, ой! Все у нее было, и одежда импортная, и игрушки, и Барби эта, прости Господи. Так и росла, не зная горя, красивая, да только о жизни не знала ничего. Ей только стукнуло восемнадцать, когда родителей Бог прибрал — разбились на машине, насмерть. Света сперва плакала и грустила, а потом волю-то почуяла, и закружило ее — гулянки, компашки, пьянки. Институт бросила, все сбережения родительские спустила, вещи из дома продавать начала. Мы и говорить с ней пытались, и заставлять — а у нее один ответ, мол, совершеннолетняя, делаю что хочу.
Вот и догулялась, забеременела от кого-то. Сперва даже вроде исправилась, поутихла, уборщицей в садике подрабатывала, ну и мы ей помогали чем могли. Родила она девочку в ноябре, назвала Катей. А после Нового Года появился у Светки дружок какой-то. Вроде не пьют, не шумят. А потом встретили Свету на лестнице — глаза ввалились, руки в синяках, ломка. На наркотики ее подсадил дружок-то. Опять у них веселье началось, все ходили люди какие-то, тихие, прятались. А я тогда санитаркой в больнице работала, сутками. Иду я с работы — а у подъезда сверток лежит странный. Я ткнула его — а там Катя трехмесячная, ледяная совсем. Орала она им, мешала. Вынесли на минутку и забыли забрать, — соседкин равномерный голос дрогнул.
Чайник на плите свистел, женщина плеснула кипятка в чашку Славика. Тикали часы, показывая половину первого ночи.
— Забрали их обоих, уж не знаю, лечили или в тюрьму. Не видели мы больше ни Светы, ни хахаля ее. Квартиру продали, только не очень скоро. А зимой стали слышать ночами детский плач под дверью подъезда. Думали, кажется нам, потом весна пришла и вроде стихло. А на следующую зиму снова ребенок плакал, но постарше уже. И соседка моя снизу, баба Зина, видела, как ползает там, у двери, ребенок, лет двух. Через год ее увидела я.
— Вы думаете это мертвый младенец? Бред какой-то, — Славка не мог заставить себя проглотить чай.
— Да знаю я, что бред. Но это точно она, Катя. Я ее на руках держала, кормила сама. Каждый год возвращается чуть старше и смышленее, и все домой просится. Сперва не могла двери открывать, а в прошлые годы уже по лестнице бродила. Потом кодовые замки поставили, и потише стало, плакала только под дверью и скреблась, пока не выучилась дверь открывать, — соседка вздохнула, — Уж мы и батюшку приглашали, и дом святили, все равно ходит морок. В этом году ей стукнуло семь. Предшественник твой ее боялся, даже домофон поставил себе лично, у нас-то только ключи есть. А Кате, должно быть, понравилась игрушка, ночами теперь часто пищит им.