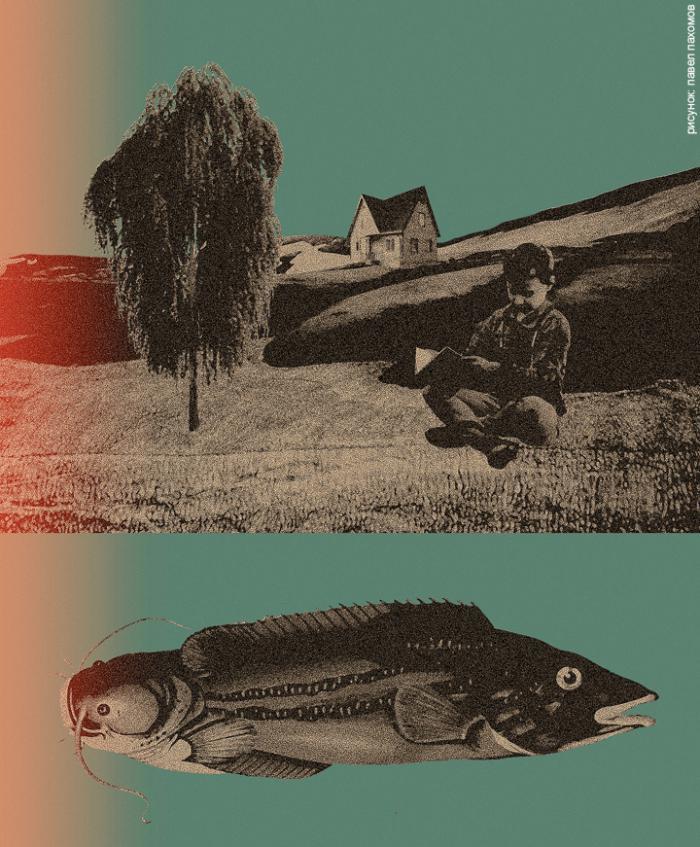Натан Дубовицкий. Книга рыбака. Русский пионер
Миша из Москвы выезжал редко. Бывал с родителями во Франции, Англии, Таиланде. С классом в Швейцарии.
А вот в России, так уж получилось, не был ни разу. Эту страну он представлял смутно. По рассказам отца, родившегося в Рязанской области. И унылым урокам. То ли истории, то ли географии. По тревожному гулу, который слышался из–за кольцевой автодороги. По каким–то недосмотренным артхаусным фильмам.
Поэтому ожидал, что на первой же загородной станции в электричку ворвутся пьяные дегенераты. Нанесут вина и грязи. Начнут петь и драться.
Но в вагоне было тихо и опрятно. Исчезла из виду Москва. Приближалось уже Ожерелье. Ада не было.
За окном то проглядывало спокойное нежаркое солнце. То моросил нехолодный и даже немокрый как будто дождик.
Смирные речки, сонные посёлки. Уютные кладбища. Никакой бесшабашной шири. Ни дремучих лесов, ни бескрайних полей. Так, поляны, огороды… Настоящая Россия. Невелика оказалась.
Обволакивающая, расслабляющая бедность кругом. Хорошо.
В Ожерелье пересадка. Поезд на Павелец. Вагонов поменьше. Народ пониже.
Здесь пели. Но не для разгула — для пропитания. Негромко и недолго. Два пожилых человека в пехотной форме. Солдатские погоны не шли к их возрасту, вполне полковничьему.
Голоса у них были тоже солдатские. Какими кричат на войне. Когда бегут. Не в атаку, а наоборот. Песни явно самодельные — кривые, неладные. Пассажиры поспешно совали им мелкие деньги. Чтобы скорее спровадить в другой вагон.
Когда певцы ушли, три женщины, неподвижно сидевшие напротив Миши, зашевелились. Достали из сумок еду. Каждая что–то доставала и давала двум другим. Хлеб, яйца вкрутую, сыр. Котлеты, шоколад.
Соли ни у одной не нашлось. Старшая, почти старуха, сделала за это выговор младшей. Совсем юной. Видимо, в их таинственной иерархии ответственной за соль.
Женщина средних лет заметила, что без соли лучше. Здоровее. Младшая посмотрела на неё с благодарностью. Старшая с осуждением.
Они были похожи друг на друга. Как будто одна в трёхмерном времени. Подумал Миша. И захотел есть. Вспомнил, что в сумке несколько пачек галет. Но достать постеснялся.
Ведь пришлось бы из вежливости предложить им. А они могли бы
решить, что он к ним привязался. И намекает, что надо в ответ чем–то поделиться с ним. Им могло бы показаться, что он понуждает их к обмену. Нежелательному, неравноценному. Невежливо получилось бы.
Они поели, убрали остатки в пакет из–под хлеба. Замерли. Вышли на платформе Милославское.
Младшая посмотрела на него с перрона. Просто посмотрела. Ему стало ясно, что это лицо он запомнит навсегда. И немного страшно. Как обычно бывает от всего, что навсегда.
Отныне, что бы он в жизни ни делал, он будет чувствовать на сердце прощальный взгляд женщины. Непрерывно. Почему–то. Ну что ж… Значит, буду чувствовать. Сказал себе и успокоился.
Вагон тронулся. Удочки и сачок покосились. Он поправил их. Плотнее прижал ногой к стене. Придвинулся ближе к окну.
Проверил обеззвученный смартфон. Двенадцать пропущенных. В основном маминых. Папин один. Но очень строгий. Кстати, Миша удивительным образом по тону различал звонки отца и матери.
Повернулся к лежавшей на скамье сумке, чтоб достать галеты и книгу.
На сумке лежал бутерброд с сыром. И шоколадка. Миша попытался открыть окно. Чтобы сказать спасибо. Молодой женщине. Или всем троим. Но молодой особенно. И предложить галеты. Окно не открылось.
Миша был растроган. С умилением съел бутерброд. С уважением шоколадку. Какие добрые люди живут в этой стране. Не то что у нас в Москве. Сделал он вывод. Стал читать.
Это была «Книга рыбака». Сочинение Тихонина. Заслуженного тренера по спортивной рыбной ловле. Бестселлер.
Напротив улёгся мужик в резиновых сапогах. Поворочался, покряхтел. Побормотал. Похрапел. Недолго, поднялся, сел.
— Не спится, — сказал он Мише.
Миша попытался посочувствовать. Мимически. Нахмурил брови. Надул губы.
— Хорошая снасть, — кивнул мужик на сачок. — А удочки чего–т такие короткие? Зимние, что ль? О! Так и есть. Для подлёдной… Ну правильно. Готовь сани с лета…
Помолчали. Мужик пристальнее посмотрел на Мишу. Миша стал сильнее читать.
— Веришь, ночь не спал. Всё про Америку думал. Не то чтобы сразу про неё. Сначала жена пилила. Хуже Америки. Ну, с ней–то зато понятно. Она если доставать начинает, надо переждать. Сорок пять минут. Ровно один тайм. И часов не надо. Ровно! Не спорь, жди. Попилит, побухтит. Время своё выберет. И всё. Опять спокойно. Как будто ничего не было. Заснёт. Или, если днём, пойдёт у плиты шуровать, — говорил мужик.
Обращаясь, впрочем, уже не к Мише. Поверх него. К кому–то за его спиной.
Миша ведь вряд ли мог оценить тонкости международных и супружеских отношений. Ему было всего тринадцать лет.
— Вот уснула. И я на бок. Спать хочу, не могу. После ночной смены. Днём надо было поспать. Да чего–т, не знаю, проколготился. Проколобродил. Вот, думаю, притоплю щас. И бац! Вся эта Америка! Откуда ни возьмись! Прямо в голову. Ну! Хуже жены. Потому что не сорок пять минут. А до утра. Только глаза закрою, сразу её вижу. Открою — тоже она. Мерещится. Как живая. Что так, что так.
Миша повернул голову. Посмотреть, с кем бессонный мужик разговаривал. В проходе стоял другой мужик. Довольно интеллигентный. Вроде даже и не мужик. Хотя и не господин. Преподаватель техникума, может быть.
Преподаватель тоже сделал лицо с сочувствием. Тем же примерно способом, что и Миша. Хмурился, дулся. Но, кажется, ему редко приходилось притворяться. Так что растренированные лицевые мышцы подвели. Ослабли. Лицо разгладилось. Стало безразличным.
Он отвернулся и ушёл в другой вагон. Чтоб скрыть безразличие.
Тогда мужик опять кивнул на сачок:
— Куда едешь? На Пру? На Проню?
Миша поколебался. Не лучше ли соврать? Не соврал:
— В Скопин.
— О! Живёшь там?
— Нет. В Москве.
— Родственники?
— Нет.
— А что ж там делать?
— Рыбу ловить.
— В Скопине? О! Где ж там рыба? В Вёрде лягушки одни. На Козьем болоте и лягушек нет. Комары только. Разве пруды какие? Чего–т не слыхал. На Пру тебе надо. Там щука идёт. На блесну. На живца.
Миша смутился. Спорить и объяснять не хотелось.
— А Скопин что? Там нет ничего, — не унимался мужик. — У меня там брат живёт. Шаром, говорит, кати. Нет ничего. Он рыбачить на Пру ездит. Охотиться в Мещёру… Работать на Октябрь. Посёлок такой. Пьянствовать в Вослебово. Отдыхать то есть. А в Скопине–т чего делает? Ночует разве… Да и то… когда как… А рыбачит на Пре, на Пре… Хочешь познакомлю? Места покажет.
— Спасибо. Я сам.
— Ладно.
Он опять лёг. Не уснул, сел. Встал. Спросил:
— Что читаешь?
Миша показал обложку.
— О! Знаю. Про рыбалку. У брата такая есть. Брал раз почитать. Про мормышку там хорошо. И про жереха. С душой так. Брат по ней всё ловит. Лесная улица. Дом двадцать. Николай Петрович Анашкин. Запомни.
— А кто это?
— Брат мой. В Скопине. Старший. Мало ли! Коснись чего… Он поможет. Скажи, от Мити. От меня, значит. Если он вдруг на работе или в Вослебове, тогда жена его дома. Тогда скажи, что не от меня. А от тёть Тони. А сам я с Узловой. Да и Колька с Узловой. Ясное дело. Потому что брат. Чего он в Скопин уехал?
Мужик как–то сбился. Посмотрел на мишин сачок. На зимние удочки. С сомнением. Потом с жалостью. На Мишу. На «Книгу рыбака». Продолжил:
— Вот и Павелец. Тебе тут налево. Мне направо.
Он удалился лихорадочной походкой возбуждённого бессонницей человека.
Впрочем, расстались они не сразу. Протоптались вместе на перроне ещё минут двадцать. В ожидании своих электричек.
Поезда прибыли одновременно. И разъехались в противоположных направлениях. Мужик больше не заговорил с Мишей. Даже не попрощался. Разъехались.
Скопинский поезд был трамваем. Можно сказать. Два вагона. Людей тоже два. Миша и бабушка какая–то.
На миг у Миши посветлело в глазах. Всё происходящее показалось нереальным. Вся эта безмятежная Русь. Нежная, трезвая, будто сама не своя. Несеверная, невоинственная. Все эти ненастоящие мужички, речки, бабушки…
Запнулось сердце. Миг прошёл. Сердце выровнялось.
Всё было. Было в действительности. Может, и ненастоящее, но было.
В Скопине бабушку встретили целых два дедушки. Мишу никто. Город угадывался по антеннам и трубам. Скрытый за вётлами, припорошенными угольной пылью. За угольными кучами, ссыпанными вдоль путей.
Слева от вокзала виднелись посадки, луга, капустные плантации. Посадки осиновые.
Напротив вокзала, по ту сторону железной дороги, желтел одноэтажный дом. От него уходила обсаженная осинами грунтовая дорога. Как многие русские дороги, куда–то в никуда.
Начинало темнеть. А дел было ещё много. Миша подошёл к жёлтому дому. От него сделал триста шестьдесят пять шагов в сторону заходящего солнца.
Открыл книгу. На ходу несколько раз сверялся с ней, как с картой.
«…свидетельствую, что подземная река Иордан ближе всего подходит к поверхности земли именно в этом месте…»
Одинокая берёза струилась над полем. Она не выглядела достаточно древней. Но остальные деревья были ещё моложе.
«Еретики внушают невеждам, что Он крестился в мутном ручье в стране фарисеев и магометан…»
Миша двинулся через поле к берёзе. Как и любые предметы, по мере приближения она становилась больше. Но увеличивалась как–то слишком быстро. Словно росла, разрасталась на глазах. Со скрипом и оглушительным шелестом. До ненормальных размеров.
Мише стало не по себе. Он остановился. До берёзы было ещё сто шагов, а она уже закрывала полнеба. Устал. Решил он. Почитал, пришёл в себя.
«От золотой стены триста шестьдесят пять шагов на запад, в сторону тьмы. Ибо сказано: “свет во тьме светит”. Там увидишь большое дерево, первое из деревьев».
Подошел к берёзе. Огляделся. Достал из сумки складную походную лопату. Встал на колени. Начал копать.
«Между его корнями просверли в земле лунку. Или выкопай колодец. Под землёй, в кромешной тьме, найдёшь истинный Иордан. Ибо повторено для маловеров: “свет во тьме”».
Быстро выбился из сил. Городской неспортивный мальчик. Из филологической семьи. Родители, наверное, уже беспокоятся. Передают фото в полицию.
«В истинном Иордане течёт свет, а не вода. Крещение светом принял Он. Примем и мы…»
Наступила ночь. Луна развевалась на ветру. Шумно плясали тени. Он копал, охваченный ужасом.
«В подземной реке Иордан обитает рыба, состоящая из двух рыб. Из рыбы истекает и впадает в неё свет реки, в которой она обитает».
Мише стало очень жалко родителей. Мать, говорившую с ним всегда с наигранной грубостью. Из опасения, что из сына выйдет нечто похожее на отца. И отца, безвольного, нежного, отстранённого человека.
Они очень любили Мишу. Оберегали. Даже ссорились не повышая голоса. Чтобы не испугать его.
Теперь наверняка испугались сами.
«Самое удивительное в этой рыбе даже не то, что она единственное, что на самом деле существует, а то, что любой из нас, несуществующих, может её уловить».
Миша хотел бы позвонить им. Успокоить. Но понимал, что они никогда не отпустили бы его сюда. И испугаются ещё больше, узнав, что он здесь.
«Лови её без лукавства и ухищрений. Без усердия и усилия. Обычной снастью бедных рыбаков».
Он уже выкопал яму в половину своего роста. Земля была тяжёлая. Но, по счастью, не каменистая и не вязкая.
«Свидетельствую: ложный может уловить истину. Несуществующий овладеть сущим».
Под ногами и лопатой захлюпала вдруг вода. Он потрогал рукой. Холодная грязная вода. Не свет.
Ботинки промокли. Руки и ноги дрожали. Он выбрался из колодца.
Перед ним стояли три или четыре парня. Сквозь темноту Миша не мог толком разглядеть лиц. Но враждебность почувствовал отчётливо. Шпана. Скины. Дегенераты. Вот и они.
Но они — развернулись. И ушли. Молча. Один из них закурил. Миша смотрел им вслед, пока огонёк сигареты не пропал из виду.
Тут неодолимая слабость разлилась по телу. Словно все ночи мира разом легли на него. Всеми своими снами, страхами и тьмами.
Он потерял сознание. Когда очнулся, небо чернело тепло и тихо. Без луны. Без ветра.
Из выкопанного им колодца поднимался к небу клубящийся радостный свет.
Миша бросился к рыболовным снастям. Удочки и сачок были поломаны. Наверное, теми, ушедшими… Пока копал…
Он приблизился к колодцу. Заглянул в него. Сердце закачалось на волнах света. Как поплавок…
— …не только змея, но и рыба. Повторю только то, что широко известно. Да простят мне присутствующие банальность примеров. Итак. Ману — в индийской мифологии рыба, спасшая Вишну от чудовищ. Далее, древнеегипетская рыба–усач. Проглотившая, да простят меня дамы, пенис Осириса. Ихтис, рыба по–гречески, анаграмматическое сокращение имени Иисуса Христа. Ангел Рафаил из истории Товита, помогающий ловить «исцеляющую» рыбу. Светящаяся рыба из средневековой «Тайны философов»…
Она рассеянно слушала диссертанта. Слишком рассеянно. Практически не слушала.
Она и так недолюбливала Банкина. За его презрение к предмету собственных научных работ. За его вечное «да простят меня…». А уж сегодня…
— …да простят меня коллеги за нежелание далеко ходить за примерами, — продолжал Банкин. — Возьмём ту же пресловутую золотую рыбку Пушкина. Или альбом «Ихтиология» Бориса Гребенщикова…
Она могла думать только о том, где её Миша. Хрупкий, беззащитный. Странный мальчик. Который слишком много читал. Слишком мало говорил. И никак не хотел в жизнь. Как она его ни подталкивала к ней. Как в неё ни заманивала.
Телефон завибрировал. Вибрация передалась телу. Она вышла из аудитории. Её била частая мелкая дрожь.
Полицейский голос сообщил, что Миша нашёлся. Далеко. Его везут в Москву. Конечно, жив…
Миша сидит в своей комнате, закрыв лицо руками. Если его очень попросить, он убирает руки. Но закрывает глаза. Врач сказал, что диагноз «шизофрения» ставить пока рано.
— Спокойной ночи, — говорит мама и осторожно выходит. Идёт на кухню. Садится за стол. Осторожно плачет.
Открывает «Книгу рыбака». Которая была у сына, когда его нашли. Откуда она взялась? Муж когда–то собирался увлечься рыбалкой. Не увлёкся. Но успел накупить всякого рыболовного вздора. И эту книгу, наверное, успел. Хотя точно не помнит.
Миша говорит, что прочитал сноску в девятнадцатой главе. О подземной рыбе. Состоящей из двух рыб.
В книге десять глав.
Мать перечитывает её, чтобы понять, что могло стать причиной. О какое слово сын споткнулся?
«По форме мормышки бывают круглые, полукруглые, ромбовидные, в форме опарыша, в форме мухи…»
Она не понимает.
«При ловле жереха применяют “вертушку”. Однако забросить её далеко невозможно. И тут нам на помощь приходит “бомбарда”…»
Она не понимает. Плачет…
Когда мама уходит, Миша выжидает несколько минут. Потом открывает лицо. Выключает свет. Подходит к зеркалу.
Смотрит на своё отражение. Вернее, не на своё.
Его глаза светлы и прозрачны. Сквозь них он видит, как в глубине его головы мерцает невесомая рыба.